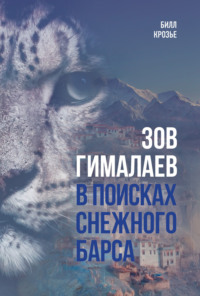Читать книгу: «Зов Гималаев. В поисках снежного барса», страница 6
10. К Голубому озеру
13 мая. От Дунаи (2160 метров) до Чхепки (2672 метра) 14,6 километра
Разбудили нас в шесть утра «чаем в постель». Меня, впрочем, будили не в первый раз: ночью не давали спать деревенские собаки. В Гималаях, похоже, собаки предпочитают днём мирно спать, пока солнце нестерпимо печёт, а после заката, длинной тёмной ночью, они занимаются своими делами – воют и визжат на воображаемых врагов или друг на друга. У местных, наверное, развился иммунитет к этим жутким звукам, и утром они ходят свежими и отдохнувшими, чего нельзя сказать об иностранцах. Я стараюсь спать в берушах, но они не всегда спасают.
Мы быстро и без труда освободили палатку от инвентаря. Гарри уже показал себя образцовым соседом по палатке. За завтраком нам впервые подали обещанный фильтр-кофе, и он оказался первоклассным. Путешествие складывалось превосходно.
Около пятнадцати минут восьмого мы выступили в путь по главной улице Дунаи, где даже в ранний час было шумно и людно. И встретили Тинле Лондупа, того самого старичка, который играл вождя в фильме «Гималаи». Видимо, он прибыл сюда по торговым делам: он сказал, что через пару недель возвращается в родной Салданг и там с нами увидится. Выглядел он точно так же, как на экране!
После Дунаи нам не суждено было идти по дороге в привычном понимании до самого Джомсома, который находился в 250 км от нас. Перейдя реку по подвесному мосту, мы повернули налево и зашагали по узкой тропе на запад, где через два километра Бхери сольётся с Сулигадом. Сулигад – главная река, вытекающая из озера Пхоксундо; впадая в Бхери, она единым с ней потоком вливается в реку Карнали, которая, в свою очередь, впадает в Ганг. Сулигад предстал перед нами потоком чистой ледниковой воды, совсем не похожий на мутно-коричневую Бхери.
Взяв к северу, мы прошли через ворота, надпись на которых гласила: «Национальный парк и буферная зона Ше-Пхоксундо. Добро пожаловать!» Мы остановились в администрации парка в Сулигхате, чтобы зарегистрировать разрешения на треккинг.
Парк дикой природы был основан в 1984 г. благодаря усилиям многих людей, в том числе Джорджа Шаллера. Это самый крупный национальный парк Непала, его территория 3555 кв. км. Мы попали в Долпо – на заповедную территорию. На разрешениях есть номера, и наши заканчивались на цифре «90». Выходит, на территорию зашли всего девяносто треккеров: а ведь всего через несколько недель – сезон муссонов! Впрочем, такое низкое число посетителей наверняка объясняется тем, что каждое разрешение стоит больше 700 долларов.
Мы пошли дальше по берегу реки, постепенно поднимаясь в гору. Идти было легко и приятно. За воротами парка мы попали в рощицу альбиций, усыпанных хрупкими розовыми цветочками. Ближе к полудню начался дождь. Когда мы добрались до Каннина, где должны были обедать, я промок до костей.
Обед нам подали на веранде старого традиционного здания: там было холодно, и мне пришлось закутаться в плед. В деревне на домах и мостах то и дело попадались шаманские «док-па».
Мы несколько раз пересекли реку по мостам, и подъём становился всё круче, идти становилось трудновато. Через час после обеда мы вошли в поселение, состоящее из пятнадцати домов, все – открытые и совершенно пустые. Это Рактанг: сюда, по-видимому, приходят зимовать пастухи-кочевники, лето проводящие на выпасе. Такое сезонное поселение называется «докса».
Дождь только усиливался и в последние два часа перехода шёл стеной. Мы одолели крутой подъём по ещё одной роще, где воздух был затхлым и влажным и чувствовался сосновый запах – настоящий петрикор24. Мы прошли через полицейский КПП, но до Чхепки, конечной точки нашего перехода, оставался ещё час. Мы с Гарри достигли её одновременно, вместе с поваром Саилой и вторым помощником проводника Гопалом Ламой.
Мы спрятались от дождя на веранде «отеля» под названием «Дзарана», во дворе которого мы должны были ночевать. Ни носильщиков, ни палаток нигде не было. Чхепка – это всего четыре-пять каменных домов, сгрудившихся вокруг узкой улички шириной в метр-другой: сейчас по ней шумно текла грязная вода. Становилось холодновато. Пришлось расстаться с футболкой из бара «У Сэма», которую мне купили Никола с Бек. Я промокнул себя платком и напялил тёплый лонгслив, толстовку, шапку и перчатки.
Настал повод слопать один шоколадный батончик Cherry Ripe: их у нас с собой было немного. Это такие конфеты с глазированной вишней и кокосом в шоколаде. И почему они продаются только в Австралии?!
Постепенно до места добрались остальные члены группы и носильщики – все мокрые до нитки. Только теперь я осознал, какой большой караван мы из себя представляем. Нас было восемь человек во главе с нашим лидером Эйдом. С проводником Чандрой вместе шли два его помощника, Бишу и Гопал. Главного повара Саилу сопровождали четверо поварят. Кроме того, из Катманду с нами шли семнадцать носильщиков. В Дунаи к группе присоединились местный проводник, Нарендра, и ещё несколько носильщиков. Всего получилось тридцать шесть человек, плюс шесть лошадей с погонщиком, которые следовали с нами до самого Ше. Экспедиция с королевским размахом.
Вскоре поставили кухонную палатку: она была просто огромная, настоящее чудовище из ярко-голубого ПВХ, четыре на семь метров. Но, несмотря на простор, сидеть в ней было неуютно. Дункан явился в лагерь в дурном расположении духа: у КПП он свернул не туда и целых полчаса шёл не в том направлении. Он пришёл весь мокрый – и был бы последним, если бы не Филипп, которому, очевидно, на роду было написано вечно замыкать наше шествие.
На ужин мы ели грибной суп, картофельное пюре с чесноком, цветную капусту и ломтики запечённой курицы. Всё было горячее, вкусное и сытное – то, что надо. Меня всегда удивляло, какие качественные блюда умудряются приготовить повара на паре газовых горелок. Нам очень повезло с Саилой. Каждый день он проходил, обгоняя нас, налегке, экипированный только зонтиком, а за ним гуськом, с песнями или кричалками, следовала ватага поварят, и сковородки и кастрюли гремели у них в рюкзаках. Они всегда торопились прибыть на место лагеря первыми, чтобы поставить нам чайник и приготовить чай к нашему приходу. Останавливаться приходилось часто, и поварята нет-нет да и бежали за Саилой бегом, стараясь угнаться за его размеренным шагом.
В восемь вечера, перед тем как ложиться спать, Эйд прочитал нам лекцию о гипоксии и других опасностях на большой высоте. Я и сам подчёркивал, что от этого никто не застрахован. Даже у опытного Эдмонда Хиллари, и у того в 1981 г. случился отёк мозга. Он участвовал в американской экспедиции на стену Кангшунг, когда ему было шестьдесят два года.
Когда отёк мозга развился у Мэри во время треккинга в Бутане, она находилась на высоте всего 3900 метров. И отёк мозга, и отёк лёгких, случающийся ещё чаще, может настичь путешественника любого возраста на любой высоте более трёх километров. Важно было присматривать друг за другом, чтобы не пропустить симптомы: человек начинает шататься, с трудом выговаривать слова, кашлять, у него начинает синеть кожа или неожиданно прерывается речь. Впрочем, в обществе таких опытных треккеров мне показалось, что на слова предосторожности никто не обратил внимания.
14 мая. От Чхепки (2672 метра) до Тапризы (3115 метров) 12,6 километра
Ночью дождь кончился, и мы хорошо выспались. Вещи наши толком не высохли, а мою футболку из бара, конечно, кто-то свистнул с бельевой верёвки, и больше я её не видел. Мы с большим удовольствием позавтракали и выпили горячего, а в восемь утра выступили в путь.
Хорошо было идти по узкой тропе вдоль берега. Порой дорога шла круто в гору, и мы несколько раз переходили с берега на берег по характерным консольным мостам из дерева и камня. Об этом участке реки Маттиссен писал: «Не знаю, есть ли на земле река красивее, чем верхний Сулигад ранней осенью». Мы путешествовали по Непалу весной – но и я мог бы сказать о Сулигаде то же самое.
На обед мы остановились в местечке под названием Речи. Домов там было мало, однако в них было намного больше тибетского стиля, чем ниже по долине. Чайные магазины здесь держали долпо-па25 из Рингмо. На земле сидела женщина и ткала полоску ткани на традиционном тибетском поясном станке. Девочка мыла голову холодной водой в жёлтом пластиковом ведре.
Пообедали мы, сидя на ярком, но почти не греющем солнце. Когда мы миновали деревья и обернулись к югу, в сторону Дунаи, нашим глазам открылись заснеженные вершины. Такое зрелище всегда греет душу.
После обеда дорога шла легко и приятно, и через полтора часа мы пришли к больнице медицины амчи26. Рядом была средняя школа им. Тапризы, при которой имелась собственная гомпа. По обеим сторонам детской площадки в центре стояли два длинных двухэтажных строения. Классы располагались на первом этаже, а на втором – спальни. Гомпа стояла на северной стороне площадки. Школу учредила в 1998 г. неправительственная швейцарская организация «Таприза», названная в честь учителя бон из Шангшунга, который жил в VIII в. (по-тибетски – скорее Та-пи-хри-тса). Он достиг просветления и учил в святом месте под названием Сенге-Тап, у подножия горы Кайлас.
В школе-интернате жили и учились двести детей из деревень со всего Нижнего Долпо. Солнечные батареи давали школе достаточно электричества, чтобы пользоваться несколькими ноутбуками, ксероксом, принтером и телевизором.
Мы с Аласдером отправились прямо к гомпе поговорить с детьми, которые как раз прервали игры, чтобы выпить воды. «Как зовут? Откуда?» – крикнули нам мальчики. «Я – Здоровяк Ал из Стралии», – отвечал мой товарищ. Английский в школе, конечно, учили.
Гомпа на школьной территории стояла невыкрашенная, и ничто на здании не указывало, что это бон-учреждение. На столбах развевались молитвенные флаги, добавляя красочности школьному разноцветию. На доске почёта красовались фотографии учеников, особенно отличившихся на экзаменах за последние годы.
Мы поставили палатки на ровном, широком поле ниже школы и устроились коротать остаток дня. Возвели кухню и столовую. Припекало послеполуденное солнышко, и носильщики валялись на траве, радуясь, что освободились от ноши. Пяток пони, явно довольных жизнью, паслись неподалёку. Всё было в порядке на этом свете.
Я читал «Комнату с видом» Э. М. Фостера – книгу, совершенно неуместную для Гималаев, с её Флоренцией XIX в. и английскими манерами. Впрочем, я всё равно наслаждался чтением. Через несколько месяцев, когда я читал уже другую книгу («Путешествие в тишину. Великая война, Мэллори и завоевание Эвереста» Уэйда Дэвиса), я узнал, что Мэллори послужил прототипом персонажа из «Комнаты с видом», Джорджа Эмерсона. Фостер и Мэллори вместе входили в тайное кембриджское общество «Апостолы».
15 мая. От Тапризы (3115 метров) до Рингмо (3648 метров) 5,6 километра
Утро встретило нас великолепным рассветом. Мы обогнули школу и перешли реку по мосту. Через пятнадцать минут неспешной прогулки увидели больницу медицины амчи.
На ней была большая жёлтая табличка: «Добро пожаловать в Чхунувар (3134 м). Предлагаем: комнаты, еда, напитки, лагерь, огород, овощи, телеком».
Традиционной амчи-медицине не одна тысяча лет. В основе её лежит употребление традиционных гималайских трав и продуктов. Практикующие амчи-медицину должны учиться много лет, чтобы в совершенстве изучить четыре медицинских трактата, Чжуд-ши. Диагноз ставят, проверяя пульс пациента, а также четыре гуморы27 в организме, среди которых желчь, кровь и флегма. Лечат четырьмя основными способами: диетой, регуляцией поведения, травяными снадобьями и физической терапией. В последнюю входит кровопускание, каутеризация28 и моксотерапия29.
У Эйда так болела спина, что, преодолев скепсис, он решил попроситься на приём. Увы, его ждало разочарование: клиника была закрыта, поскольку стоял сезон кордицепса (об этом грибе расскажу позже) и все ушли на его сбор.
Чхунувар – симпатичное маленькое поселение, и если он не может похвастаться количеством домов, то его отличают великолепные клубничные деревья, из рода кизил30, усыпанные тысячами бледно-розовых цветов. На местных чортенах красовался символ бон – свастика против часовой стрелки.
В Паламе (3397 метров) мы преодолели плавный подъём до зимней деревни, или доксы. Вместе с нами там были кочевники, которые прикрепили свою палатку к пустующему дому.
Мы ненадолго остановились: солнце светило ярко, мы только вышли из лесного пояса, и со всех сторон нас окружали живописные, покрытые снегом вершины. Дэвид Снеллгроув ночевал на этом месте в 1956 г. после перехода до деревни Пунгмо, расположенной немного к западу.
Пройдя ещё один километр, мы наконец дошли до настоящего крутого склона. Стоя у подножия, мы видели свою цель – самый верх скалистого гребня.
Трудная и крутая тропа всё время петляла. Когда мы наконец достигли гребня, оказалось, что впереди нас ждёт ещё одна извилистая тропа, ведущая к более высокой точке. Выше, на следующем гребне, уже отдыхали носильщики. Однако наш местный проводник Нарендра не стал останавливаться. Он указал на ещё более высокий хребет, где развевались молитвенные флаги и виднелся круглый навес. В конце концов мы туда забрались и с большим удовольствием съели шоколадку, запив её обязательным литром воды.
На этой высоте нас ждал сюрприз: впервые мы увидели водопад Пхоксундо. Это самый высокий водопад в Непале (200 м), и он впечатляет своей мощью и громовым рокотом: вода летит к земле в пять или шесть каскадов. К этому времени лесной пояс остался далеко внизу, и долина хорошо просматривалась, до самых гор на востоке. Поднявшись ещё на пятьдесят метров по скалистой тропинке, мы вышли к туру31, увешанному флагами, и оттуда увидели озеро. Оно предстало перед нами маленьким ярко-голубым треугольником, сияющим в обрамлении зелени менее чем в двух километрах от нас. Мы приближались к Пхоксундо.
Как сказал Торо32, «озеро – самая прекрасная и выразительная часть пейзажа. Это глаз земли: заглянув в него, смотрящий постигает глубину собственной природы». Мы ли смотрим на природу – или природа на нас?
11. Рингмо
После того как мы увидели озеро с высшей точки дневного перехода, нас ждала лёгкая и широкая дорога под гору, по лесистой местности. Миновав два километра за полчаса, мы вышли к Рингмо. За день мы поднялись на 400 метров.
На краю деревни стояло несколько древних чортенов, выкрашенных в молочно-белые и охровые тона. На главных воротах поселения, чортен-кани, стояла деревянная платформа, подпираемая деревянными же столбами. Такие конструкции я иногда встречал в путешествиях. Похожие есть в Мананге, к северу от Аннапурны, только у них гладкие, оштукатуренные стены, покрашенные в ярко-белый.
У чортенов в Рингмо была более грубая отделка: неровная штукатурка и дерево, беспорядочно выкрашенные в белый и красный цвета. Тем не менее конструкция в целом выглядела красиво и производила впечатление.
Разбросанных довольно хаотически домов в селении было около тридцати. В центре возвышалось здание побольше: в магазине торговали пивом, печеньем и лапшой.
Лагерь наш был разбит в сотне метров за деревней, на берегу озера. Слева ясно виднелась тропа, по которой нам предстояло идти дальше. Выглядела она не слишком надёжно: она пролегала по высокому и крутому склону – та самая «Тропа дьявола» из фильма «Гималаи», на которой завалился як.
Как бы описать цвет озера? «Чистый» – первое слово, что приходит в голову. Оно не просто отражает голубое небо. Его цвет не такой насыщенный, как у ледниковых водоёмов по всему миру. Вода в нём прозрачная: видны камни прямо у берега и исчезающие в тёмно-синей глубине. Озеро очень глубокое. Пожалуй, точнее всего его цвет будет назвать ярким и глубоко-лазуритовым.
По сравнению с цветом озера, бирюза, которой украшают себя женщины в Долпо, слишком бледная и чересчур зелёная. Аласдер рассказывал мне, что когда он показывал друзьям фотографии из нашего похода, те решили, что он добился такого цвета с помощью фотошопа, чего он, конечно, не делал.
Не смог подобрать точного эпитета для озера даже сам Питер Маттиссен. «Его цвет – прозрачный сине-зелёный, должно быть, обусловленный белым песком глубоко на дне», – пишет он и потом обращается к другому автору: «Воистину, это кристально чистое озеро подобно зеркалу без единой пылинки – буддистскому символу. Оно “хоть и показывает бесконечную процессию образов, при этом однородно и бесцветно, неизменяемо, но всё же неотделимо от образов, которые являет”. Так гласит отрывок из “Тантрического мистицизма Тибета” Джона Блофелда». Возможно, достаточно сказать, что цвет озера – особый голубой цвет «Пхоксундо»: оно, «подобно зеркалу, отражает эмоции и страсти наблюдателя». И пусть моё описание далеко не точное, эта просторная, изысканно-голубая водная гладь пускает сердце в полёт.
Когда мы пообедали и расселились по палаткам, начался мелкий дождь. Вскоре дождь превратился в град. Эйд объявил, что наш маршрут меняется. Оказалось, что перевал Канг-Ла (5350 метров) завалило снегом!
Три Амигос не скрывали своего разочарования. Два года назад они уже ходили этим маршрутом, и тогда им пришлось повернуть назад – тоже из-за снежного завала. Это была уже вторая их попытка.
– К счастью, – добавил Эйд, – у нас есть альтернативы.
Мы приготовились к худшему.
Альтернативный маршрут № 1 повёл бы нас в сторону от прежнего курса – по другой долине и через безымянный перевал.
– На этой неделе одиннадцать групп пошли этой дорогой – пока ни одна не вернулась, – сказал Эйд.
– Ну ничего себе перспектива! – закричали мы.
– «Ничто не заставило их вернуться» – так лучше? – успокоил он нас.
Была и хорошая новость – по-настоящему хорошая: прямо этим утром кто-то прошёл этим маршрутом, добрался им в Рингмо из Ше.
Альтернативный маршрут № 2 повёл бы нас мимо озера и потом на северо-восток, в Салданг. Так мы не увидим Ше-Гомпы. Этим путём Джордж Шаллер, расставшись с Маттиссеном, возвращался из Салданга в Рингмо – и на нём-то, севернее озера, и увидел снежного барса.
Дождь не прекращался, так что мы отдыхали в палатках до самого ужина. Саила снова порадовал нас разнообразным меню, и мы съели всё с удовольствием.
Через несколько дней мы испытаем альтернативный маршрут № 1 и отправимся в Ше-Гомпу. До этого у нас был день на акклиматизацию и на осмотр Рингмо.
16 мая. День отдыха, Пхоксундо
День был ясный, озеро – настоящее пиршество для глаз.
После завтрака Колин и Дункан завернули обед с собой и отправились на целый день на хребет к востоку от Рингмо. Таков у них был modus operandi (лат. «образ действий»): в дни отдыха они никогда не сидели на месте – вместо этого они забирались так высоко, как могли.
Остальные же были рады отдохнуть, перевести дух и познакомиться с местной культурой: посмотреть монастыри, зайти в магазины, поговорить с жителями, которые работали в поле или ухаживали за скотиной.
В десять утра мы небольшой компанией отправились к Бон-Гомпе, которая стояла на мысе на юго-восточной оконечности озера, в двадцати минутах ходьбы. Рингмо по-тибетски называется «Тшо», а монастырь – «Тхасунг-Тшолинг-Гомпа». Озёрная гладь оставалась неизменной – невероятно голубой – и притягивала взгляд, так что приходилось заставлять себя глядеть под ноги, чтобы не споткнуться. Но бесполезно – глаза всё равно возвращались к чудесному озёрному пейзажу. Озеро не бороздят лодки. В нём не водится рыба. На берегах нет ни следа водорослей. Неудивительно, что это озеро издревле уважают и почитают.
Снеллгроув шёл по этой тропе в 1956 г. и написал об этом так: «Озеро обрамляют серебристые берёзы. Мало я видел на земле такой благодати, как их отражение в по-неземному голубой воде, сияющее белизной». Невольно я полностью с ним соглашался.
Выше по берегу и среди древних можжевельников два ветхих чортена, большой и малый, размечали границу монастырских владений.
На обочине главной дороги, ведущей к основному зданию монастыря, стояли в ряд ещё одиннадцать чортенов разной степени ветхости. Маттиссен писал, что, хотя население Рингмо в основном исповедует буддизм, один из местных сказал: «Я буддист, но я хожу вокруг молитвенного камня не в ту сторону». Среди каменных чортенов было разбросано много камней мани с резьбой на них. Лучше всего я знал мантру «ом мани падме хум», которая встречается в очень разных формах: в резьбе, в живописи, в вышивке. Эти же камни отличались от привычного.
Обычно мантру составляют шесть тибетских символов: «Ом – Ма – Ни – Пад – Ме – Хум». Здесь же надписи были длиннее. То была мантра бон «ом матри муйе сале ду», состоящая из восьми символов: «Ом – Ма – Три – Му – Йе – Са – Ле – Ду». Только первые два символа совпадали с буддийскими.
Я думаю, что лучше всех интерпретировал «ом мани падме хум» Дэвид Снеллгроув: «О ты, из драгоценного лотоса». Это матра Авалокитешвары, в Тибете – Ченрезига. У него, однако, возникли трудности с переводом мантры бон. «Ом», по его словам, – это древний индийский мистический символ. Что такое «матри муйе», он не знал. Ему говорили, что это слова на шангшунгском языке, но он не воспринимал это всерьёз, считая шангшунгский язык «выдумкой». «Са ле ду» – это фраза на тибетском, примерно означающая «в ясности соединяйтесь».
Миновав ряд медленно разрушающихся чортенов, мы дошли до основных монастырских зданий, очень старых, но в них оказался всего один монах. Второй монах, тот, у которого был ключ, отсутствовал: накануне он ушёл в Рингмо на пуджу33, благословить новую гидроэлектростанцию. Он до сих пор не вернулся, и было такое подозрение, что обмывали станцию до самого утра.
Во времена Снеллгроува здесь тоже жили только двое монахов, однако с ними проживали двенадцать послушников, некоторые из них – женатые и «более-менее заинтересованные в религиозной жизни». Один из двух монахов, которых Снеллгроув встретил, был родом из тибетской провинции Кхам. Это был очень приятный человек с невероятно длинными волосами, собранными у него на голове в большой пучок.
Снеллгроув писал: «Он не выказал никакого удивления, встретив таких путешественников, как мы, не заинтересовался ни нашими палатками, ни снаряжением. Он встретил нас как равных, таких же, как он, жителей планеты». Этот монах прожил в Рингмо двадцать семь лет. На следующий день после прихода чужестранцев он поведал гостям миф о происхождении озера Пхоксундо. Много лет назад на месте озера стояла деревня. Лотосорождённый Падмасамбхава, Гуру Ринпоче, тогда обращал Тибет в буддийский край, и от него бежала одна демоница. Добравшись до деревни, она подкупила местных жителей большим куском бирюзы, чтобы те не выдали Гуру, куда она направляется. Однако Падмасамбхава был более могущественен, чем она, и обратил бирюзу в кусок навоза. Деревенские жители были так разгневаны обманом демоницы, что указали Гуру, в какую сторону она убежала. Та же в отместку затопила деревню, и теперь на её месте озеро.
Долпо Амчи Намгьял Ринпоче, хорошо образованный монах, практикующий традиционную медицину в современном Дхо-Тарапе, в своей книге «Долпо. Заповедный край» рассказывает немного другую историю. Около 700 г. н. э. в Тибете хозяйничала Красноголовая Демоница. Когда Падмасамбхава прибыл в Тибет по приглашению царя Трисонга Децена, он использовал своё могущество, чтобы убить её, но, умерев, она произвела на свет трёх новых демониц, и те бежали в Долпо. Старшая пошла в направлении Тарапа и дала одному пастуху яков большой кусок бирюзы в обмен на обещание не рассказывать, куда она пошла. Когда с ним заговорил Лотосорождённый, пастух вынул бирюзу, и та мигом обратилась в змею. Гуру уничтожил змею и, поняв, что он на верном пути, пустился в Тарап. Тем временем демоница построила на реке дамбу и перекрыла реку, так что долину затопило. Гуру Ринпоче мечом прорубил ущелье, ныне известное как Кьезиг-Ла, увёл воду из долины и убил демоницу. Вторая из сестёр сбежала в долину Пхоксундо и наполнила её водой. Падмасамбхава быстро управился с ведьмой и отвёл часть воды из нового озера с помощью водопада. Третья демоница отправилась в место под названием Тирду, в нижние долины, но и её быстро нашли и убили. Тогда, избавив Долпо от трёх колдуний, Великий Человек воздвиг чортены, которые стали называться «Три сосуда».
В 1956 г. Снеллгроув испытал разочарование, увидев монастырские строения в Рингмо в таком упадке: одно из главных зданий грозило вот-вот рухнуть. Через семнадцать лет Шаллер сообщает, что двое прежних монахов умерли, а послушники разъехались. Монастырь стоял запертый и ещё более обветшалый.
Монах, который встретил нашу группу, охотно согласился побеседовать, но, увы, отказался пустить нас в гомпу. Мы, подобно Маттиссену, расстроились, что не сможем осмотреть её. Снеллгроув в мельчайших деталях описал фрески и статуи, её украшающие, и жаль было упустить возможность их увидеть. Пришлось довольствоваться изобильно расписанными двойными дверями, с двумя грозными белыми драконами и небольшой фигурой Шенраба, божества религии бон, наверху.
Я как следует исследовал главное здание и сделал все необходимые снимки. Со склона над монастырём открывался потрясающий вид на старые, ветхие охряно-красные чортены, выстроившиеся вдоль дороги, а позади них просвечивала бесконечная и чарующая озёрная голубизна. За озером на западе громоздилась гора Канджироба: её острый конусообразный пик, увенчанный ледяной шапкой, достигает высоты 6612 метров.
Я отправился назад в Рингмо посмотреть, как там поживает новая гидроэлектростанция. В центре деревни высился большой проходной чортен с узкой дверью, но она была закрыта: видимо, здание реставрировали. Этому чортену двести пятьдесят лет, он называется Калсанг-Омбар, и построил его великий мастер из Пугмо Третон Намкха Гьялцен. Этот чортен – один из четырёх, которые зодчий воздвиг, дабы составить из них гигантскую мандалу на поверхности земли: три остальных находятся в Пугмо, Дхо-Тарапе и Парле.
Снеллгроув соловьём разливался об этом чортене в Рингмо и его превосходной живописи. Потолок с девятью изображениями мандалы он считал лучшим художественным произведением, какое он только видел в своих странствиях, и был твёрдо убеждён, что никто не способен воспроизвести такое же. Так что, разумеется, я пожалел, что в чортен не пускали. Мимо Калсанг-Омбара я отправился дальше и вышел на берег реки, где собрались с десяток человек: у электростанции работа кипела.
Прошлым вечером Аласдер переговорил с начальником установки электростанции по имени Питер Уэрт и выяснил все подробности. На площадке работали шестеро американцев из неправительственной организации Himalayan Currents, которая поставила своей целью разрешить в Гималайском регионе трудности с водо- и энергоснабжением. Они уже поставили водяной насос в школе им. Тапризы, а в салдангской школе – водно-солнечную башню. Сюда они по частям привезли из Америки турбину, лопасти, подъёмный механизм, опоры, а также и сам электрогенератор, и вот уже пару недель пытались собрать систему.
Основная задача заключалась в том, чтобы выложить из камней канал на реке, в 200 метрах от того места, где она вытекала из озера. Поперёк канала проходила балка, на которой крепилась турбина и которая позволяла бы доставать последнюю из воды для ремонта. Запрудив поток на одной стороне, строители должны были добиться того, чтобы вода потекла по каналу, начала бы вращать турбины, – и тогда ожидалось получить около 5 киловатт электричества. Через всю деревню на столбах уже протянули провода, подведя их к каждому дому: ждали одного тока. Пяти киловатт хватит, чтобы в каждом доме горела одна лампочка – или заряжалась одна батарея, но не более того.
Я заговорил с одним из строителей, канадцем. Много трудностей вызывали камни, которые не давали лопастям вращаться, и чтобы это исправить, строителям приходилось возиться в ледяной воде. На берегу сидели местные, наслаждаясь представлением. Некоторые разводили костёр, чтобы мокрые строители смогли согреться. Филипп разулся и тоже залез в воду по колено – посмотреть, как идут дела. Местные тут же ухватились за эту возможность и принялись швырять в воду гальку, изрядно забрызгав его. Им-то было хорошо смеяться, как и мне, а вот Филиппу, должно быть, пришлось несладко. Он, впрочем, вынес шутку с улыбкой: настоящее галльское хладнокровие. Строители возились уже битый час, изрядно замёрзли, а публика на берегу начала скучать. Наконец кто-то крикнул: «Давай!» – и лопасть опустили в бурлящий поток. Турбина тут же начала вращаться, примерно на шестидесяти процентах от рабочей скорости. К вечеру водяной поток усилился, и теперь Рингмо днём и ночью получало электричество.
Прямо перед обедом столовую палатку сдуло ветром! Очень было весело – особенно мне, который как раз был внутри, – но Чандра с мальчишками, как мы их ласково называли, быстро подоспели на помощь, и через несколько минут палатка уже стояла на месте, прижатая дополнительными камнями. Дункан и Колин ещё не вернулись со своего хребта, Гарри медитировал и строил каменные туры на берегу озера, а Сьюзен была у себя в палатке.
Мы с Аласдером решили прогуляться по левому берегу реки и взобраться повыше, к лесу, чтобы взглянуть на водопад с востока. Там была прекрасная точка обзора: водопад казался вдвое полноводнее и нам прекрасно были видны его нижние каскады. Проследили мы и собственный маршрут от больницы по очень крутой, узкой и извилистой тропинке до навеса.
Возвращаясь, мы заметили на краю деревни несколько человек, видимо одну семью, работающих в поле. Один из них вёл пару тёмно-гнедых дзо (гибрид яка и домашнего быка), а те тянули за собой простейший плуг в форме буквы «Т». Сошник34 заканчивался коротким куском металла. Земля была сухая, пыльная и каменистая. Две женщины сгребали камни побольше в одно место. Все приветственно помахали нам, крикнули: «Таши делек!» – и с улыбкой попозировали нам для фото, после чего продолжили трудиться.
В лагере обычно в половине четвёртого мы пили чай. Колин пришёл как раз вовремя, а вот Дункана нигде не было видно. Оказалось, они с Колином разделились! Я ушам своим не поверил. Ходить одному в горах – значит напрашиваться на неприятности. Колин не видел его с половины десятого утра. Сам он отправился на хребет, а Дункан двинулся в какую-то долину. Мы отправили Бишу на поиски. Прошёл ещё час, и Колин со Сьюзен начали не на шутку тревожиться. «Вдруг он подвернул лодыжку!» – говорил один. «Или потянул спину!» – вторила другая. Я уже подозревал, что Дункан попал в серьёзную переделку. Если он правда получил травму, весь треккинг пойдёт насмарку. Но в шесть вечера, когда уже начало темнеть, он всё-таки явился, целый и невредимый. «Извини, – сказал он Эйду. – Не рассчитал». И всё. Никаких дальнейших объяснений не последовало. По крайней мере, физически он был здоров. Эйд кипел от злости, но сказать ничего не мог.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе