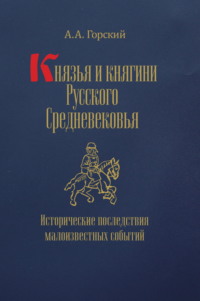Читать книгу: «Князья и княгини Русского Средневековья. Исторические последствия малоизвестных событий», страница 2
В дальнейшем судьба отвела Мстиславу немного времени. В 1175 г. смольняне изгнали княжившего у них его племянника Ярополка Романовича (его отец Роман Ростиславич в это время вновь занимал киевский стол), и «вьведоша» на княжение Мстислава58. В следующем 1176 г. произошел конфликт Ростиславичей с черниговским князем Святославом Всеволодичем, потребовавшим себе киевский стол. Святослав занял Киев, но тут пришел на помощь братьям из Смоленска Мстислав с полком, и Ростиславичи хотели дать бой. В результате Святослав бежал из Киева обратно в Чернигов, но после переговоров Ростиславичи уступили ему Киев. Роман отправился в Смоленск на место Мстислава, а Мстислав остался в Киевской земле, по-видимому, вновь получив там княжение в Белгороде. В 1177 г. он просил Святослава Всеволодича способствовать тому, чтобы суздальский князь Всеволод Юрьевич отпустил из плена рязанского князя Глеба Ростиславича, тестя Мстислава59.
В 1179 г. Мстислава пригласили к себе на княжение новгородцы. Согласно киевской летописи, Мстислав не хотел уходить из «Русской земли» (в смысле Южной Руси), но братья уговорили его. В ноябре 1179 г. Мстислав Ростиславич занял новгородский стол. Той же зимой он совершил большой победоносный поход на «Чудь» (Эстонию). На обратном пути Мстислав урегулировал вопрос о псковском княжении, куда часть местной верхушки не желала принять его племянника Мстислава-Бориса Романовича. Весной Мстислав Ростиславич собирался пойти на Полоцк против князя Всеслава Васильковича, но, дойдя до Великих Лук, отказался от этого замысла, узнав, что его брат смоленский князь Роман заключил с Всеславом (приходившимся Ростилавичам зятем – мужем сестры) союз. Вернувшись в Новгород, Мстислав разболелся и скончался 13 (или 1460) июня 1180 г. Был похоронен в новгородском Софийском соборе. В киевской летописи Мстиславу посвящен обширный панегирический некролог. В нем говорится, в частности, что князь «всегда бо тосняшеться оумрети за Роускоую землю и за хрестьяны», что «не бѣ бо тоѣ землѣ в Роуси, которая же его не хотяшеть, ни любяшеть», и «плакашеся по немь вся земля Роуская, не може забыти доблести его»61 (всегда стремился умереть за Русскую землю и за христиан; не было такой земли в Руси, которая его не хотела бы [иметь князем] и не любила; плакала по нему вся земля Русская, не могла забыть доблести его).
В позднейшей традиции Мстислав Ростиславич известен под прозвищем «Храбрый»; впервые оно фиксируется в статье «А се князи великого Новгорода» Комиссионного списка Новгородской первой летописи младшего извода (середина XV в.): «Мьстиславъ Храбрый Ростиславичь»62.Такая характеристика вполне соответствует изображению Мстислава в киевской летописи XII в. Но существовало ли прозвище «Храбрый» ранее середины XV в. или изобретено автором статьи «А се князи великого Новгорода», остается неясным63.
Женат Мстислав был на дочери рязанского князя Глеба Ростиславича (предположение, что это был второй брак, а первой женой Мстислава являлась галицкая княжна, подтверждений не имеет)64. Его сыновьями были Мстислав и Владимир. Большинство исследователей считало старшим прославленного полководца Мстислава Мстиславича (ум. в 1228 г.), но вероятнее старшинство Владимира: только о нем Мстислав перед кончиной просит позаботиться своего воеводу Бориса Захарьича; это может свидетельствовать, что сын Мстислав либо был очень мал, либо появился на свет уже по смерти отца (в пользу второго варианта говорит отсутствие до XIII столетия практики называть сына именем живого отца)65. Иногда еще одним сыном Мстислава Ростиславича считают Торопецкого князя Давыда, упоминаемого в новгородском летописании под 1212 и 1225–1226 гг., но это мнение, скорее всего, ошибочно66.
Мстислав Ростиславич, таким образом, внес едва ли не решающий вклад в разрушение проекта Андрея Боголюбского, согласно которому киевские князья должны были, по сути, стать вассалами князей суздальских. Это отсрочило на целое столетие смену общерусской столицы – с Киева на Владимир-на-Клязьме67. О том, кто такую смену все же осуществил, – в четвертой главе.
Глава 3
Ярослав Всеволодич и установление монгольской власти
Оценка последствий монгольских походов 1236–1242 гг. в Восточную и Центральную Европу обычно отталкивается от свершившихся фактов: степная часть Восточной Европы и Волжская Булгария оказались под непосредственным владычеством завоевателей, земли Руси стали управляться через посредство местных правителей, Венгрия и Польша сохранили независимость. Между тем есть основания для постановки вопроса, была ли зависимость с сохранением местных князей у власти запланирована для Руси завоевателями изначально.
Действительно, для действий Чингисидов в завоеванных странах были характерны две основных модели. Первая – это военная оккупация и непосредственное управление, когда местные правители заменяются монгольскими администраторами. Вторая – управление через посредство династов местного происхождения, признавших власть Чингисидов, получающих от них ярлыки на свое правление, обеспечивающих выплату дани и участвующих в монгольских военных предприятиях. Но ранее западных походов Батыя практически везде применялась первая модель. Так было в Северном Китае, в Средней Азии, Иране, Половецкой земле – местная знать лишалась власти, ее заменяли монгольские правители. Вторая модель управления – через посредство местных владетелей – стала осуществляться в ряде регионов (Закавказье и Малая Азия, Дунайская Болгария, на Дальнем Востоке – Корея) одновременно с покорением Руси или несколько позже. При этом нет оснований полагать, что во время завоевательных походов в ту или иную страну будущий вариант управления ею был заранее запланирован. Это во многом зависело от поведения местных правителей. Так, в Закавказье во второй половине 1230-х годов владения тех князей, которые во время завоевательного похода являлись к монгольским предводителям и признавали власть великого хана, не разорялись и сохранялись за ними68.
В связи с этим вопросом следует обратить внимание, что на Руси долгое время существовали представления, что Орда может вынашивать планы непосредственно управлять русскими землями.
В зачине «Сказания о Мамаевом побоище» (начало XVI в.) Мамаю приписывается цель превзойти Батыя – не просто разгромить Русь, но перейти к непосредственному владычеству ею: «Азъ не хощу тако сътворити, яко же Батый, нъ егда доиду Руси и убию князя их, и которые грады красные довлѣютъ нам, и ту сядем и Русью владѣем, тихо и безмятежно пожывемъ»69 (Я не так хочу сделать, как Батый, но когда приду на Русь и убью князя их, то какие прекрасные города подойдут нам, там сядем и Русью будем владеть, тихо и безмятежно поживем). Исследователи русско-ордынских отношений никогда не воспринимали этот пассаж как отражение реальных намерений правителя Орды70. Фантастичность утверждения «Сказания» о намерении Мамая тем более очевидна в свете утвердившейся ныне в науке поздней датировки этого произведения – началом XVI в.71 В более раннем памятнике Куликовского цикла, летописной Повести, говорится о намерении правителя Орды повторитъ сделанное Батыем: «Пойдемъ на русского князя и на всю Русскую землю, яко же при Батый цари бывши, и христианьство потеряемъ, и церкви божиа попалимъ огнемъ, а законъ ихъ погубимъ, а кровь християньску прольем»72 (Пойдем на русского князя и на всю Русскую землю, как при царе Батые было, и христианство порушим, и церкви Божии попалим огнем, и веру их погубим, и кровь христианскую прольем). Ясно, что в «Сказании» перед нами попытка усилить драматизм ситуации, приписав Мамаю мысль уже не просто повторить Батыя, но превзойти его. И можно было бы, казалось, видеть в данном месте позднего произведения о Куликовской победе не более чем художественный вымысел автора, писавшего о давно минувших днях. Однако ограничиться такой констатацией нельзя. Дело в том, что мотив приписывания ордынцам намерения перейти к непосредственному владычеству над Русью встречается и в более ранних текстах.
После того как Василий II в конце 1445 г. вернулся из плена у хана Улуг-Мухаммеда (куда он попал в результате битвы под Суздалем в июле того года), его двоюродный брат Дмитрий Шемяка, по утверждению московского великокняжеского летописца, обвинял великого князя перед Иваном Андреевичем Можайским и Борисом Александровичем Тверским в следующем: «Царь на том отпустилъ великого князя, а онъ къ царю целовал, что царю сидѣти на Москвѣ и на всѣхъ градѣхъ Русскых и на наших отъчинах, а сам хочет сѣсти на Тфери»73 (Царь отпустил великого князя с тем условием, и тот к нему [крест] целовал, чтобы царю править в Москве и во всех городах русских, в наших отчинах, а сам хочет сесть в Твери). Обвинения, конечно, фантастические. Тем не менее и Иван, и Борис поверили этой клевете и присоединились к заговору против Василия74. Можно, конечно, допустить, что великокняжеский летописец возводит напраслину на Дмитрия Шемяку, и в действительности тот не выдвигал подобных утверждений. Но в этом случае все равно такого рода обвинения должны были как минимум выглядеть правдоподобно, чтобы летописца нельзя было уличить в явной лжи. Между тем события предшествующих пленению Василия лет давали определенные основания для подобных опасений. Хан Улуг-Мухаммед, изгнанный в 1438 г. из Орды, обосновался сначала в верховьях Оки в городе Белеве (являвшемся столицей русского княжества)75, затем, в 1444 г., занимал Нижний Новгород и Муром (прежде, до присоединения к московским владениям, также бывшие стольными городами)76, и только после пленения московского князя ушел вниз по Волге, в Казань. Разумеется, в данном случае речь шла о попытках закрепиться на окраинных русских территориях, причем попытках вынужденных, связанных с утерей власти в Орде. Но русским современникам событий видна была их внешняя сторона – хан реально занимал русские города, причем стольные77. Отсюда возможность тех подозрений в отношении намерений Улуг-Мухаммеда, которые были приписаны Дмитрию Шемяке.
Но есть и более ранние свидетельства о существовании опасений, что в Орде захотят перейти к непосредственному владычеству над Русью. Они содержатся в летописных повестях о восстании в Твери в 1327 г., в ходе которого был убит посол хана Узбека, его двоюродный брат Чолхан (Шевкал, Щелкан). Согласно повести, читающейся в новгородско-софийских и псковских летописях, Шевкал имел следующие планы: «А князя Александра Михаиловича и его брата хотяще убити, а самъ хотя сѣсти въ Тфѣри на княженьи, а иных князей своих хотя посажати по инымъ городомъ по рускым, хотяще привести крестьянскую вѣру въ бесерменьскую вѣру»78 (А князя Александра Михайловича и его брата хотел убить, а сам хотел сесть в Твери на княжении, и других князей своих хотел посадить по другим городам русским, желая христианскую веру заменить мусульманской). Повесть, содержащаяся в Рогожском летописце и Тверском сборнике, утверждает, что «безбожные татары» говорили хану Узбеку: «Аще не погубити князя Александра и всѣхъ князии роусскыхъ, то не имаши власти надъ ними» (Если не погубишь князя Александра и всех князей русских, то не будет у тебя власти над ними); затем «всему злу началникъ Шевкалъ» предложил: «Господине царю, аще ми велиши, азъ иду въ Роусъ и разорю христианство, а князя ихъ избию, а княгини и дѣти къ тебѣ приведу» (Господин царь, если повелишь, я пойду на Русь и разорю христианство, и князя их убью, а княгиню и детей к тебе приведу). Явившись в Тверь, Шевкал поселился на княжеском дворе, изгнав оттуда Александра Михайловича79. По сути оба варианта сходны: в Рогожском летописце и Тверском сборнике прямо не говорится о намерении заменить русских князей татарскими, но коль скоро первых планировалось «погубить», это подразумевается само собой. Повесть новгородско-софийских и псковских летописей появилась во всяком случае не позднее начала XV в., когда был создан протограф Новгородской Карамзинской, Новгородской Четвертой и Софийской Первой летописей. Вероятно, что в ее основе лежал рассказ, созданный во Пскове во время пребывания там Александра Михайловича (1331–1337). Повесть Рогожского летописца и Тверского сборника входила в тверской летописный свод последней четверти XIV в., а создана была, по-видимому, в Твери вскоре после описываемых в ней событий80. В любом случае появление этих текстов не могло быть связано с событиями 1430-1440-х годов, когда отдельные ордынские предводители делали попытки закрепиться в пограничных русских городах. Но в XIV столетии мы не встретим событий, которые могли бы породить страх перед возможностью непосредственной оккупации ордынцами русских земель. Не исключено, правда, что в обстановке 1327 г. к такому опасению могло привести упомянутое в тверской версии «Повести о Шевкале» занятие Чолханом княжеского двора (в домонгольский период именно овладение княжеским двором символизировало вокняжение в городе81). Но чтобы на основе этого факта сложилось представление о столь масштабных общерусских планах Орды, нужна была благодатная почва, сложившаяся в более раннее время. И здесь следует обратиться к событиям эпохи нашествия Батыя.
Поскольку во время походов Батыя на Северо-Восточную и Южную Русь никто из сильнейших русских князей не признал власть завоевателей, и их земли были повоеваны, на Руси закономерно должны были ожидать осуществления «первой модели» властвования – непосредственного управления. И есть данные, говорящие о том, что некоторые действия монголов в первые годы после Батыева нашествия такому сценарию соответствовали.
В 1240-е годы под непосредственной властью монгольской администрации находилась южная часть Киевской земли: посол папы римского к монгольскому великому хану Иоанн де Плано Карпини в повествовании о своем путешествии (1245–1247) отмечает, что расположенный на Днепре ниже Киева Канев «непосредственно» находился «под властью татар»82. Канев не был стольным городом, и можно было бы полагать, что речь идет не более чем о попытке монголов контролировать узкую приграничную со степью полосу. Но сходную ситуацию фиксирует Галицко-Волынская летопись для Переяславля-Русского, в домонгольский период бывшего столицей одной из русских земель. Волынский и галицкий князь Даниил Романович во время своей поездки в 1245 г. к Батыю через Киев и Переяславль встретил в последнем татар: «и прииде Переяславлю, и стрѣтоша татаровѣ; оттуда же ѣха къ Коуремѣсѣ»83 (и пришел в Переяславль, и встретил там татар; оттуда же поехал к Куремсе). В 1245 г. полководец Батыя Моуци, ведавший западной окраиной улуса Джучи, обратился к Даниилу Романовичу с требованием: «Дай Галичъ»84. Речь явно шла о передаче стольного города под непосредственное управление монголов. Наконец, есть основания полагать, что в начале 1240-х годов под непосредственным управлением завоевателей находился Киев – номинальная столица всей Руси.
Прямо об этом говорится в монгольском источнике (составленном в 1240-е годы) – «Сокровенном сказании»: «Посланные в помощь Субеетаю царевичи Бату, Бури, Гуюк, Мунке и все другие царевичи, покорив народы Канлин, Кипчаут и Бачжигит, разрушили города Эчжил, Чжаях и Мегет, а также совершенно разгромили и полонили Орусутов (русских. – А.Г.). Они полностью покорили Асутов и Сесутов, а также население городов Белерман (Биляр в Волжской Булгарии. – А.Г), Керманкива (Киев. – А.Г) и прочих городов, поставили даругачинов (наместников. – А.Г) и танмачинов и возвратились на родину»85. Из Галицко-Волынской летописи известно, что в конце 1245 г., когда через Киев по пути к Батыю проезжал Даниил Романович, «обдержащоу Кыевъ Ярославоу бояриномъ своимъ Еиковичемь Дмитромъ»86 (управлял Киевом Ярослав через своего боярина Дмитра Ейковича). Но Ярослав получил Киев вместе с общерусским «старейшинством» от Батыя только в 1243 г.87 Между тем в 1241 г. Михаил Всеволодич Черниговский, вернувшись в Киев после ухода завоевателей из Руси, жил не в городе, а «подъ Киевомъ во островѣ»88; это может объясняться как раз пребыванием в самом Киеве монгольского наместника, о котором говорит «Сокровенное сказание». Таким образом, в период сразу после нашествия Батыя и обоснования правителя улуса Джучи в Поволжье имели место реальные случаи как непосредственного владения монголами русскими городами, в том числе стольными, так и претензий на такое владение.
О том, что опасения относительно возможного установления режима непосредственного управления были реальными, свидетельствует рассказ Плано Карпини об отравлении Ярослава Всеволодича в ставке великого хана Гуюка близ Каракорума в 1246 г. Явно передавая информацию, полученную от людей Ярослава (с которыми папский посол тесно общался), он пишет: «…все полагали, что он был там отравлен, чтобы они смогли беспрепятственно и полностью владеть его страной»89, т. е. даже в 1246 г., когда сохранение за русскими князьями, признавшими власть завоевателей, их владений уже, казалось бы, становилось очевидным, переход к «первой модели» властвования представлялся вполне возможным.
Вероятность такого хода событий показывали и случаи с правителями некоторых других завоеванных монголами стран, свидетелями которых были русские люди, посещавшие Монгольскую империю. Плано Карпини рассказывает о случившемся с одним из корейских правителей: «И если отец или сын умирают без наследника, то сына или брата они никогда не отпускают; мало того, забирают себе все его княжество, что, как мы видели, произошло с каким-то вождем солангов»90.
С точки зрения современных научных знаний страх перед возможным переходом монголов к непосредственной власти над Русью кажется необоснованным. Но не так было в середине XIII столетия. Традиционно считается, что монголы непосредственно оккупировали те регионы, где можно было вести кочевое скотоводство. Но, скажем, о Южном Китае и значительной части Ирана такое сказать нельзя, однако, там монголы властвовали непосредственно. Более нюансированный подход попытался обосновать Т. Олсен. По его мнению, непосредственное управление устанавливалось в странах, расположенных к югу от степной зоны, где можно было использовать традиции местной бюрократии (Китай, Иран, Средняя Азия); к северу от степи (т. е. в первую очередь на Руси), где таких традиций не было, у власти оставались местные князья. Исключениями в таком случае оказываются уйгуры и Грузинское царство, расположенные южнее степей, но сохранившие своих правителей91. Однако исключений при таком подходе насчитывается намного больше. Южнее степной зоны находились сохранившие местных династов под монгольским верховным владычеством Корея, Киликийская Армения, Румский (Конийский) султанат, Трапезундская империя, Дунайская Болгария. Это уже не исключения, а тенденция. Напротив, севернее степей располагалась Волжская Булгария, непосредственно вошедшая в состав владений потомков Чингис-хана. Более вероятным представляется, что «опосредованное» управление устанавливалось, как правило, на крайних рубежах монгольской экспансии, где завоевателям недоставало ресурсов для осуществления прямого властвования: Корея стала восточным пределом завоеваний монголов, русские земли – северо-западным, Грузинское царство, Киликия, Трапезундская империя и Румский султанат – юго-западным. Плано Карпини писал в 1247 г.: «С тех народов, которые живут вдали от них, которых они до известной степени опасаются и которые им неподвластны, они берут дань… Другим же народам они пока позволяют жить в мире, но судя по тому, что мы от них узнали, они замышляют новую войну»92. Страны, где после завоевания были сохранены местные правители, действительно рассматривались Чингисидами как плацдарм для дальнейших завоеваний: за Кореей должна была последовать Япония, за Закавказьем и Малой Азией – Сирия и Египет, за Русью – Польша и Венгрия. Планам этим, несмотря на неоднократные вторжения монгольских войск в названные государства, не суждено было осуществиться, но система «опосредованного» управления для стран, дальше которых экспансия монголов не продвинулась, стала традицией.
Решение сохранить на Руси местных правителей вряд ли было заложено в планы завоевателей изначально. Скорее всего, оно было принято в конкретной ситуации 1240-х годов. Войско Монгольской империи под командованием Батыя завоевало огромную территорию Восточной и Центральной Европы. Удержать ее всю под непосредственной властью сил было недостаточно. И были применены три разных подхода. Наиболее западные из разоренных в ходе военных действий 1236–1242 гг. стран – Венгрия и Польша – были на время оставлены в покое (хотя в ходе нашествия они были разгромлены так же, как и русские земли, и в этом смысле, скажем, Бела IV и Даниил Романович были в равной степени побежденными и бежавшими правителями). Половецкая земля и Волжская Булгария (в которой, как и на Руси, жило оседлое население) перешли под непосредственную власть монголов. В русских же землях был применен промежуточный вариант: обращение местных правителей в зависимых. Со временем такое положение дел стало традицией. Но на Руси веками сохранялось опасение, что в Орде решат от нее отойти.
Таким образом, наиболее вероятным представляется, что именно события конца 1230-1240-х годов породили в русском обществе страх перед возможной непосредственной монгольской оккупацией. Эта фобия сохранялась в XIV столетии, вспыхнув в связи с событиями 1327 г. в Тверском княжестве. В середине XV в., когда Орда распалась, и отдельные ордынские группировки проявили стремление обосноваться на окраинных русских территориях, опасения такого рода вновь усилились. В «Сказании о Мамаевом побоище» перед нами поздний отголосок этих представлений, перенесенный на события 1380 г.
Длительное сохранение зависимости русских земель от Орды во многом связано было с перенесением на ее правителя титула цесарь/царь. который был выше титулов правителей Руси, в силу чего подчинение «царю» стало традицией, которую очень сложно было сломать, его власть рассматривалась в определенной мере как легитимная93. Приведенные выше наблюдения могут дать дополнительное объяснение продолжительности «ига». Принципиально иной в сравнении с большинством завоеванных монголами стран, опосредованный характер власти над Русью, по-видимому, расценивался как меньшее из возможных зол, которое лучше терпеть, дабы оно не переросло в зло несравненно худшее – непосредственное владычество ордынских ханов и их администрации в русских городах.
* * *
В свете приведенных данных следует внимательнее рассмотреть сведения о первых после возвращения Батыя из похода в Центральную Европу контактах с монгольскими правителями сильнейших на тот момент русских князей – Ярослава Всеволодича, великого князя владимирского, Даниила Романовича, князя владимиро-волынского и галицкого, и Михаила Всеволодича, князя черниговского.
Ярослав Всеволодич, занявший главный стол Суздальской земли – во Владимире-на-Клязьме – после гибели в 1238 г. брата Юрия, в 1243 г. отправился к Батыю, будучи «позван», и получил от правителя улуса Джучи «старейшинство» среди всех русских князей.
Новгородская первая летопись старшего извода под 6750 г.: «Того же лѣта князь Ярославъ Всеволодичь позванъ цесаремъ татарьскымь Батыемъ, иде к нему въ Орду»94 (В том же году князь Ярослав Всеволодич, позванный царем татарским Батыем, пошел к нему в Орду).
Новгородская первая летопись младшего извода под 6750 г.: «Того же лѣта князь Ярославъ Всеволодиць позванъ цесаремъ Татарьскымъ, и иде в Татары къ Батыеви, воеводѣ татарьску»95(В том же году князь Ярослав Всеволодич, позванный царем татарским, пошел в Татарскую землю к Батыю, воеводе татарскому).
Лаврентьевская летопись под 6751 г.: «Великыи князь Ярославъ поѣха в Татары к Батыеви, а сына своего Константина посла къ Канови. Батый же почти Ярослава великого честью и мужи его, и отпусти, и рече ему: “Ярославе, буди ты старѣй всѣм князем в Русском языцѣ”. Ярославъ же възвратися в свою землю с великою честью»96 (Великий князь Ярослав поехал в Татарскую землю к Батыю, а сына своего Константина послал к [великому] хану. Батый же почтил Ярослава и мужей его великой честью, и отпустил, сказав ему: «Ярослав, будь ты старейшим среди всех князей в русском народе»).
Новгородская первая летопись помещает известие о требовании приехать, полученном Ярославом, в конце статьи 6750 мартовского года, заканчивавшегося 28 февраля 1243 г. Лаврентьевская поездку князя относит к 6751 мартовскому году, начавшемуся 1 марта 1243 г. Отсюда следует, что вызов поступил к Ярославу, скорее всего, зимой 1242/43 г.
Выражением общерусского «старейшинства» Ярослава стало обладание Киевом97.
Даниил Романович отправился в ставку Батыя осенью 1245 г., после получения требования от монгольского полководца Моуци отдать Галич, который он только что отстоял от посягательств сына Михаила Черниговского Ростислава, поддержанного войсками своего тестя венгерского короля Белы IV. В результате за Даниилом были утверждены его владения, включая Галицкую землю98.
Ярослав в начале 1246 г. вновь приехал к Батыю, а от него отправился в ставку великого хана под Каракорумом, где присутствовал на коронации Гуюка в качестве монгольского императора. Перед отъездом в обратный путь он был отравлен матерью Гуюка Туракиной и умер 30 сентября 1246 г.99
Михаил Всеволодич отправился в ставку правителя улуса Джучи летом 1246 г. просить «волости своей» (т. е. Чернигова), но после отказа поклониться идолу Чингисхана был по приказу Батыя 20 сентября убит100. Причем невыполнение требуемого обряда, по свидетельству Плано Карпини, являлось только поводом, который монголы использовали для расправы101.
Таким образом, три сильнейших князя Руси посещали монгольских правителей разновременно: Ярослав впервые в 1243 г., Даниил и Михаил спустя два и три года соответственно. Однако есть основания полагать, что сразу по возвращении Батыя из Западного похода требование приехать получил от него не только Ярослав, но и Даниил с Михаилом102. Об их действиях в это время сообщает только Галицко-Волынская летопись (т. е. летописец Даниила Романовича):
«Ростислава розгнаша Татарове во Боркоу и бѣжа Оугры, и вдасть за нь пакы король Оугорьскыи дочѣрь свою. Данил оу же боудоущоу во Холмѣ, прибѣже к немоу Половчинъ его именемь Актаи, рекыи, яко Батый воротилъся есть изо Оугоръ, и отрядил есть на тя два богатыря возискати тебе, Манъмана и Балаа. Данилъ же, затворивъ Холмъ, еха ко братоу си Василкови, пойма с собою Коурила митрополита; а Татарове воеваша до Володавы и по озерамъ, много зла створше <…> Слышавъ же короля Михаилъ вдавъ дочѣрь за сына его, и бѣже Оугры, король же Оугорьскыи и сынъ его Ростиславъ чести емоу не створиста. Он же розгнѣвася на сына возвратися Черниговоу»103 (За Ростиславом гнались татары в Борку, и он бежал в Венгрию, отдал за него замуж король венгерский свою дочь. Даниил же был в Холме, и прибежал к нему его половец по имени Актай, говоря, что Батый вернулся из Венгрии, и отправил искать тебя двух богатырей, Манмана и Балая. Даниил же, укрепив Холм, поехал к своему брату Васильку, взяв с собой митрополита Кирилла; а татары повоевали до Володавы и по озерам, много зла совершив <…> Услышал Михаил, что король отдал дочь за его сына, и бежал в Венгрию, но король венгерский и сын его Ростислав не оказали ему чести. Он же разгневался на сына и вернулся в Чернигов).
Основанием для датировки перечисленных в этом повествовании событий является увязка с возвращением Батыя «изо Оугоръ». Монголы начали отход с разоренной ими территории Венгерского королевства в конце марта – апреле 1242 г.104 Бежать в Венгрию Ростислав Михайлович мог только после того, как до него дошла информация, что король Бела IV возвратился из бегства на острова Адриатики и вернул контроль над своим государством. Это вряд ли случилось ранее лета. Та деталь, что отряды Манмана и Балая, «искавшие» Даниила Романовича, воевали близ Холма и Володавы (на западном берегу Буга севернее Холма) «по озерам», возможно, является указанием на время, когда водоемы были покрыты льдом. Следовательно, наиболее вероятная датировка описываемых событий: бегство Ростислава в Венгрию и его женитьба на королевне – лето-осень 1242 г.; уход Даниила от Манмана и Балая – зима 1242/43 г.; бегство Михаила в Венгрию после получения известия о женитьбе сына – начало 1243 г.105, т. е. имеет место хронологическое совпадение с первым контактом с монголами Ярослава Всеволодича: его вызов к Батыю, отъезд Даниила Романовича из Холма и бегство Михаила Всеволодича оказываются близкими по времени – все эти события приходятся на конец 1242 – начало 1243 г.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе