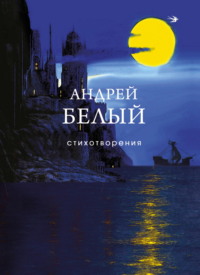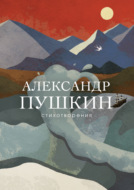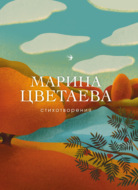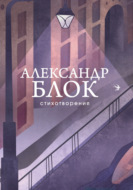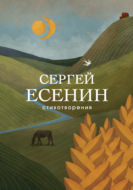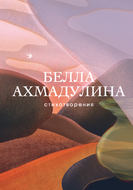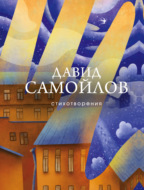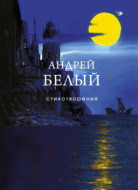Читать книгу: «Стихотворения»

© Беляева В. А. предисловие. 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

Андрей Белый: дух и культура

«…нечто внечеловеческое, дочеловеческое и сверхчеловеческое чувствовалось и слышалось в нем гораздо сильнее, чем человеческое…»;
«…умел быть и прост, и уютен: gemiithlich – по любимому его слову…»;
«…старинный, изящный, изысканный, птичий – смесь магистра с фокусником, в двойном, тройном, четвертном танце…».
Андрей Белый – фигура многогранная, если не сказать противоречивая. Концентрация на противоречивости (крайностей не избежать), в которых так часто Белый – пророк / чудак; для рассмотрения его лучше подойдёт оптика калейдоскопа. В этом смысле высвет в трагикомедийном жанре (сам Белый по этому поводу сетовал) пусть будет не укором, а оправданием – способом увидеть самое обычное – человеческое. Многоаспектность взгляда – лейтмотив его творчества, стихотворения – один из возможных углов зрения на фигуру целого, из нескольких штрихов, слагаемых в контрапункты, «кратким пробегом» по основным струнам жизни – обнаружение среза, в котором Андрей Белый оказывается скорее жестом.
«Боренька Бугаев» родился 14 октября 1880 г. в семье московского профессора математики, он студент-естественник, в 1903 году «„Основы химии” Менделеева – в одной руке, „Апокалипсис” – в другой», студент историко-филологического факультета в 1904 г. «под влиянием Упанишад», штудирующий Канта и Когена.
«Андрей Белый» – как псевдоним, фикция, маска, личина, возникшая в гостях у Соловьёвых, результат медитаций – символического познания цвета. Символ, цвет, музыка, ритм – основные черты «схемы композиции» жизни Белого, изгибы её – арсисом, тезисом: «тема в вариациях». Мерцающее зарождение цветовой палитры пронизывает стихотворную ткань «Золота в Лазури», ее же и создавая. Цветовая символика – тайна природы, для русского символизма дар немецких романтиков – Гёте, Новалиса. С другого угла – подмигивание «премудрости» Вл. Соловьёва, «золото и лазурь – иконописные краски Софии». И хоть Белый будет обнаруживать черты «вечной женственности» в своих пассиях (чего стоят одни только юношеские письма Т. Н. Морозовой):
«Вы – моя заря будущего. В Вас – грядущие события. Вы – философия новой эпохи…»;
золото и лазурь – прежде всего краски природы;
«я часами изучал колориты полей и о них слагал строчки; книгу же стихов назвал „Золото в лазури”, „золото” – созревшие нивы; „лазурь” – воздух».
Конечно, сама природа нуждается в отдельном осмыслении. Для Белого это символ – сплетённость природы человеческой и универсума; после – эмблематизм. Природа нерасторжима с солнцем, и к солнцу, за золотым руном, отправятся аргонавты – творческое содружество вокруг Белого.
Своим друзьям – Блоку, Серёже Соловьеву, Бальмонту, Брюсову, Эртелю, Метнеру, Мережковскому и многим-многим другим – Белый адресует стихи из «Золота в лазури». И пусть читателя не пугают противоречия, которые он обнаружит на страницах воспоминаний (порой крайне нелицеприятных) о них же – для Белого человек никогда не застывшее, но всегда обновление. Воспоминания Белый пишет скорее с юмором, уже после мореплавания, когда мореплаватели по всем канонам жанра «рассеялись к пристаням». А в начале века, в самом эпицентре событий, зигзаги и выверты судьбы переживаются Белым поистине драматично. Сборник «Пепел» – результат таких переживаний – знак кораблекрушения.
«„Безумец” – последние строчки стихов, написанных для «Золота в лазури», уже набираемого в типографии Воронова; через дней девятнадцать – вскрик первых стихов, но уже отнесенных к сборнику «Пепел»».
Здесь, в промежутке между концом одного сборника и началом другого, клином – любовь. Позже, гораздо позже Белый переосмыслит значение любви:
«л, ю, б, о, в, ь; надо сложить из них слово: любовь; лишь в этом осмысливании – оправдание мудрости как человеческой мудрости»,
а пока что из револьвера в него целится Нина Петровская, попадает в Брюсова, в итоге к Брюсову и уходит, у самого же Белого плавно совершается переход от «Огненного ангела» к «Прекрасной даме», и вдруг в переписке с Флоренским выявляется «Андрюха Краснорубахин» (вполне метаироничный псевдоним). Но причину, события, ироничными назвать никак нельзя: «… я еще раз усомнился во всем, что я считал ценностью, усомнился в искусстве, в символе, в Боге» – письмо 14 августа 1905 года. В январе 1905 г. Белый наблюдает красный террор. Так, «Пепел» – отражение кризиса масштаба не только индивидуального, но и социально-политического – надрыв зреющего раскола между «городом» и «деревней»:
«…широкой волной подмывают села, усадьбы; а в городах вырастает бред капиталистической культуры».
Остывший пепел Белый сметает в «Урну» (изначально это был единый сборник «Закатные прахи», по рекомендации Сергея Соловьева поделённый на две части), и адресует урну Брюсову – в знак примирения. Но снова между двумя частями излом – печать нахождения в Парижской больнице с заражением крови.
В больнице его навещают Мережковский, Философов, Бальмонт с супругой, Гиппиус пишет письма матери Белого, ему передаёт приветы Жорес. Пережитое состояние, как назовёт его сам Белый, – «гроб истлевшей души», «эманация душевного одиночества» – тона зимы, холода, метели, пурги. По возвращении в Москву он, скрываясь от душевных терзаний (виной тому Лидия Блок), погружается в ещё более тщательное изучение философии, в основном Канта и неокантианства, маркер тут «Философическая грусть». От «эманации душевного одиночества» Белого избавит Ася.
С Асей Белого ждут почти десять лет счастливой жизни. 26 ноября 1911 г. они уедут в заграничное путешествие и посетят Венецию, Рим, Палермо, Тунис, Каир. 6 мая 1912 г., после слушания лекции Штейнера, они решат встать на путь Антропософии. В 1914 г. Белый работает резчиком при постройке Гётеанума, а Ася украшает «Иоаново здание» живописью. 23 марта 1914 г. дата бракосочетания Белого с Асей в городе Берне. Насыщенные года светлыми знакомствами и работой. За восемь лет пишутся основные труды: роман «Петербург», исследование «Гёте и Штейнер», автобиографический роман «Котик Летаев», поэма о звуке «Глоссолалии» в некотором смысле продолжит начало поэмы «Первое свидание» (поэтическое осмысление прожитых лет, написанное в 1921 г.), он познакомится с Ивановым-Разумником и Христианом Моргенштерном, последнему он посвятит сборник «Звезда», а с Разумником будет состоять в долгой дружбе и переписке. Однако 1922 год снова знаменуется крахом: «У меня трагедия: Ася ушла от меня». Разрыв намечался ещё в 1918 г. «Записки чудака» тому пример; в «Записках» появляется и очередное альтер-эго Белого «Леонид Ледяной». В том же году пишется поэма «Христос Воскрес». Критики скажут, что это ответ Блоку на поэму «Двенадцать», но критики часто ошибаются – «обстановка написания поэмы заслонила от критиков основной момент поэмы: она живописует событие индивидуальной духовной жизни».
После расставания с Асей начинается эпоха знаменитых танцев Белого, его безудержного, ужасающего фокстрота, «и весь русский Берлин стал любопытным и злым свидетелем его истерики», его снов на лестнице вниз головой: «Мне смешно даже, что «вверх пятами» оказалось в буквальном смысле».
По возвращении в Москву – «Московское отделение Русского Антропософского общества», «Единый государственный архивный фонд в московском Пролеткульте», «Театральный отдел Наркомпроса», «московский «Дворец искусств», лекции, лекции, лекции – о проблемах культуры. Всё омрачено экономической ситуацией в стране, соответственно личной финансовой неурядицей: «… бедный, бедный Белый, из «Дворцов искусств» шедший домой, в грязную нору, с дубящим топором справа, визжащей пилой слева, сапожищами над головой и грязищей под ногами…» – напишет Цветаева. С Мариной Цветаевой Белый подружится в 1922 г. и посвятит ей «После разлуки» – это будет обратной стороной медали «Разлуки» Цветаевой:
«Я пишу Вас – дальше. Это будет целая книга: «После Разлуки», после разлуки – с нею, и «Разлуки» – Вашей. Я мысленно посвящаю ее Вам, и если не проставляю посвящения, то только потому, что она Ваша, из Вас, я не могу дарить Вам Вашего, это было бы – нескромно».
«После разлуки» Белый окрестит как «мелодизм», возможно, именно этот сборник наиболее ритмически созвучен современной поэзии:
«Чтобы —
– Плавал
Смежаемым взором
Сквозь веки
Я
Где-то
Средь брызгов разбившейся тверди —
– Простором
И
Мглой, —
Чтобы —
– Капала —
– Лета
Забвения в веки
Средь визгов развившейся
Смерти —
– Простором
И
Мглой!..»
Но мрачные тона «После разлуки» окрашиваются яркими красками морского берега в 1924 г. «5 недель провел, лежа животом на пляже; загорел, как «арап». Эпицентр – дом Волошина в Коктебеле – «много народу из Москвы и Ленинграда (Коля Чуковский, Шкапская, Полонская, художн<ица> Остроумова с мужем, жена Евреинова); ждем Козьму Сергеевича; скоро приедет Андрей Соболь». Там начинаются каменные забавы Белого – выискивание опалов, агатов, яшм, сердоликов и халцедонов. Эдакое возвращение к цветовой палитре «Золота в Лазури». На новом витке. Собирая самоцветы, Белый располагает их в цветовые гаммы: «Орнаменты камешков перейдут в орнаменты слов. Из головы не придумаешь так, как подскажет природа». И пишется роман «Москва».
А в 1925 г. у Белого появится тихий уголок в Кучине, сейчас там его дом-музей. В Кучине Белый начнёт работу над Историей Становления Самосознающей Души, живя со своей «милой» – последней женой и соратницей – Клавдией Васильевой. Ей мы благодарны за сохранение трудов Белого (чего стоило дважды вручную переписать Историю Становления Самосознающей Души). Собственно, над «Историей» Белый и трудится последние годы, переосмысливая «ритмическую кривую». В 1929 г. он вновь возьмётся перекраивать «Золото в Лазури»: «усиленная правка ритмов «Золота в Лазури»» («2‑е. Дикая работа над «Золотом в лазури»») … «отредактировал заново «Золото в Лазури» (до 50<-ти> стихотворений)». Перекраивание «ритмического жеста» – отдельная тема, тщательно исследованная, и не только у Белого возникающая (в этом его сравнивают с Йейтсом). Здесь важен скорее символизм действия – как попытки возвращения, возвращения к началу – бесконечно, бесконечно трансцендентному. Возможный повод для ностальгии, для Белого же – любопытства, или, правильнее сказать – любования. Возможность рассмотреть в наслоениях цветных стёкол – схождение/расхождение, основной закон мироздания – миросозерцания «схемы композиции»: «ветер – ткани пространства, летящего времени; небо же – круговороты осей; там ландшафт, топография, взятая в астрономической памяти» – контрапункт, элемент контрапункта в виде стихов, как нарочито скошенный угол, возможность призматически взглянуть на то, что такое человек, хоть Степун и писал, что Белого как человека не существовало, но которым, прежде всего, он всё-таки был.
Валерия Беляева
Сборник «Золото в лазури» (1904)
Посвящаю эту книгу дорогой матери
Золото в лазури
Бальмонту
1
В золотистой дали
облака, как рубины, —
облака, как рубины, прошли,
как тяжелые, красные льдины.
Но зеркальную гладь
пелена из туманов закрыла,
и душа неземную печать
тех огней – сохранила.
И, закрытые тьмой,
горизонтов сомкнулись объятья.
Ты сказал: «Океан голубой
еще с нами, о братья!»
Не бояся луны,
прожигавшей туманные сети,
улыбались – священной весны
все задумчиво грустные дети.
Древний хаос, как встарь,
в душу крался смятеньем неясным.
И луна, как фонарь,
озаряла нас отсветом красным.
Но ты руку воздел к небесам
и тонул в ликовании мира.
И заластился к нам
голубеющий бархат эфира.
Апрель 1903
Москва
2
Огонечки небесных свечей
снова борются с горестным мраком.
И ручей
чуть сверкает серебряным знаком.
О поэт – говори
о неслышном полете столетий.
Голубые восторги твои
ловят дети.
Говори о безумье миров,
завертевшихся в танцах,
о смеющейся грусти веков,
о пьянящих багрянцах.
Говори
о полете столетий.
Голубые восторги твои
чутко слышат притихшие дети.
Говори…
Май 1903
Москва
3
Поэт, – ты не понят людьми.
В глазах не сияет беспечность.
Глаза к небесам подними:
с тобой бирюзовая Вечность.
С тобой, над тобою она,
ласкает, целует беззвучно.
Омыта лазурью, весна
над ухом звенит однозвучно.
С тобой, над тобою она,
ласкает, целует беззвучно.
Хоть те же всё люди кругом,
ты – вечный, свободный, могучий.
О, смейся и плачь: в голубом,
как бисер, рассыпаны тучи.
Закат догорел полосой,
огонь там для сердца не нужен:
там матовой, узкой каймой
протянута нитка жемчужин.
Там матовой, узкой каймой
протянута нитка жемчужин.
1903
Москва
Золотое руно
Посвящено Э. К. Метнеру
1
Золотея, эфир просветится
и в восторге сгорит.
А над морем садится
ускользающий солнечный щит.
И на море от солнца
золотые дрожат языки.
Всюду отблеск червонца
среди всплесков тоски.
Встали груди утесов
средь трепещущей, солнечной ткани.
Солнце село. Рыданий
полон крик альбатросов:
«Дети солнца, вновь холод бесстрастья!
Закатилось оно —
золотое, старинное счастье —
золотое руно!»
Нет сиянья червонца.
Меркнут светочи дня.
Но везде вместо солнца
ослепительный пурпур огня.
Апрель 1903
Москва
2
Пожаром склон неба объят…
И вот аргонавты нам в рог отлетаний
трубят…
Внимайте, внимайте…
Довольно страданий!
Броню надевайте
из солнечной ткани!
Зовет за собою
старик аргонавт,
взывает
трубой
золотою:
«За солнцем, за солнцем, свободу любя,
умчимся в эфир
голубой!..»
Старик аргонавт призывает на солнечный пир,
трубя
в золотеющий мир.
Всё небо в рубинах.
Шар солнца почил.
Всё небо в рубинах
над нами.
На горных вершинах
наш Арго,
наш Арго,
готовясь лететь, золотыми крылами
забил.
Земля отлетает…
Вино
мировое
пылает
пожаром
опять:
то огненным шаром
блистать
выплывает
руно
золотое,
искрясь.
И, блеском объятый,
светило дневное,
что факелом вновь зажжено,
несясь,
настигает
наш Арго крылатый.
Опять настигает
свое золотое
руно…
Октябрь 1903
Москва
Солнце
Автору «Будем как Солнце»
Солнцем сердце зажжено.
Солнце – к вечному стремительность.
Солнце – вечное окно
в золотую ослепительность.
Роза в золоте кудрей.
Роза нежно колыхается.
В розах золото лучей
красным жаром разливается.
В сердце бедном много зла
сожжено и перемолото.
Наши души – зеркала,
отражающие золото.
1903
Серебряный Колодезь
За солнцем
Пожаром закат златомирный пылает,
лучистой воздушностью мир пронизав,
над нивою мирной кресты зажигает
и дальние абрисы глав.
Порывом свободным воздушные ткани,
в пространствах лазурных влачася, шумят,
обвив нас холодным атласом лобзаний,
с востока на запад летят.
Горячее солнце – кольцо золотое —
твой контур, вонзившийся в тучу, погас.
Горячее солнце – кольцо золотое —
ушло в неизвестность от нас.
Летим к горизонту: там занавес красный
сквозит беззакатностью вечного дня.
Скорей к горизонту! Там занавес красный
весь соткан из грез и огня.
1903
Вечный зов
Д. С. Мережковскому
1
Пронизала вершины дерев
желто-бархатным светом заря.
И звучит этот вечный напев:
«Объявись – зацелую тебя…»
Старина, в пламенеющий час
обмявшая нас мировым, —
старина, окружившая нас,
водопадом летит голубым.
И веков струевой водопад,
вечно грустной спадая волной,
не замоет к былому возврат,
навсегда засквозив стариной.
Песнь всё ту же поет старина,
душит тем же восторгом нас мир.
Точно выплеснут кубок вина,
напоившего вечным эфир.
Обращенный лицом к старине,
я склонился с мольбою за всех.
Страстно тянутся ветви ко мне
золотых, лучезарных дерев.
И сквозь вихрь непрерывных веков
что-то снова коснулось меня, —
тот же грустно-задумчивый зов:
«Объявись – зацелую тебя…»
2
Проповедуя скорый конец,
я предстал, словно новый Христос,
возложивши терновый венец,
разукрашенный пламенем роз.
В небе гас золотистый пожар.
Я смеялся фонарным огням.
Запрудив вкруг меня тротуар,
удивленно внимали речам.
Хохотали они надо мной,
над безумно смешным лжехристом.
Капля крови огнистой слезой
застывала, дрожа над челом.
Гром пролеток и крики, и стук,
ход бесшумный резиновых шин…
Липкой грязью окаченный вдруг,
побледневший утих арлекин.
Ярко-газовым залит лучом,
я поник, зарыдав как дитя.
Потащили в смирительный дом,
погоняя пинками меня.
3
Я сижу под окном.
Прижимаюсь к решетке, молясь,
В голубом
всё застыло, искрясь.
И звучит из дали:
«Я так близко от вас,
мои бедные дети земли,
в золотой, янтареющий час…»
И под тусклым окном
за решеткой тюрьмы
ей машу колпаком:
«Скоро, скоро увидимся мы…»
С лучезарных крестов
нити золота тешат меня…
Тот же грустно-задумчивый зов:
«Объявись – зацелую тебя…»
Полный радостных мук,
утихает дурак.
Тихо падает на пол из рук
сумасшедший колпак.
Июнь 1903
Серебряный Колодезь
Гроза на закате
Вижу на западе волны я
облачно-грозных твердынь.
Вижу – мгновенная молния
блещет над далью пустынь.
Грохот небесного молота.
Что-то, крича, унеслось.
Море вечернего золота
в небе опять разлилось.
Плачу и жду несказанного,
плачу в порывах безмирных.
Образ колосса туманного
блещет в зарницах сапфирных.
Держит лампаду пурпурную,
Машет венцом он зубчатым.
Ветер одежду лазурную
рвет очертаньем крылатым.
Молньи рубинно-сапфирные,
Грохот тяжелого молота,
Волны лазури эфирные,
Море вечернего золота.
Июнь, 1903
Серебряный Колодезь
Три стихотворения
1
Всё тот же раскинулся свод
над нами лазурно-безмирный,
и тот же на сердце растет
восторг одиночества пирный.
Опять золотое вино
на склоне небес потухает.
И грудь мою слово одно
знакомою грустью сжимает.
Опять заражаюсь мечтой,
печалью восторженно-пьяной…
Вдали горизонт золотой
подернулся дымкой багряной.
Смеюсь – и мой смех серебрист,
и плачу сквозь смех поневоле.
Зачем этот воздух лучист?
Зачем светозарен… до боли?
Апрель 1902
Москва
2
Поет облетающий лес
нам голосом старого барда.
У склона воздушных небес
протянута шкура гепарда.
Не веришь, что ясен так день,
что прежнее счастье возможно.
С востока приблизилась тень
тревожно.
Венок возложил я, любя,
из роз – и он вспыхнул огнями.
И вот я смотрю на тебя,
смотрю, зачарованный снами.
И мнится – я этой мечтой
всю бездну восторга измерю.
Ты скажешь – восторг тот святой.
Не верю!
Поет облетающий лес
нам голосом старого барда.
На склоне воздушных небес
сожженная шкура гепарда.
Апрель 1902
Москва
3
Звон вечерний гудит, уносясь
в вышину. Я молчу, я доволен.
Светозарные волны, искрясь,
зажигают кресты колоколен.
В тучу прячется солнечный диск.
Ярко блещет чуть видный остаток.
Над сверкнувшим крестом дружный визг
белогрудых счастливых касаток.
Пусть туманна огнистая даль —
посмотри, как всё чисто над нами.
Пронизал голубую эмаль
огневеющий пурпур снопами.
О, что значат печали мои!
В чистом небе так ясно, так ясно…
Белоснежный кусок кисеи
загорелся мечтой винно-красной.
Там касатки кричат, уносясь.
Ах, полет их свободен и волен…
Светозарные волны, искрясь,
озаряют кресты колоколен.
1902
Путь к невозможному
Мы былое окинули взглядом,
но его не вернуть.
И мучительным ядом
сожаленья отравлена грудь.
Не вздыхай… Позабудь…
Мы летим к невозможному рядом.
Наш серебряный путь
зашумел временным водопадом.
Ах, и зло, и добро
утонуло в прохладе манящей!
Серебро, серебро
омывает струёй нас звенящей.
Это – к Вечности мы
устремились желанной.
Засиял после тьмы
ярче свет первозданный.
Глуше вопли зимы.
Дальше хаос туманный…
Это к Вечности мы
полетели желанной.
1903
Не тот
В. Я. Брюсову
I
Сомненье, как луна, взошло опять,
и помысл злой
стоит, как тать, —
осенней мглой.
Над тополем, и в небе, и в воде
горит кровавый рог.
О, где Ты, где,
великий Бог!..
Откройся нам, священное дитя…
О, долго ль ждать,
шутить, грустя,
и умирать?
Над тополем погас кровавый рог.
В тумане Назарет.
Великий Бог!..
Ответа нет.
II
Восседает меж белых камней
на лугу с лучезарностью кроткой
незнакомец с лазурью очей,
с золотою бородкой.
Мглой задернут восток…
Дальний крик пролетающих галок.
И плетет себе белый венок
из душистых фиалок.
На лице его тени легли.
Он поет – его голос так звонок.
Поклонился ему до земли.
Стал он гладить меня, как ребенок.
Горбуны из пещеры пришли,
повинуясь закону.
Горбуны поднесли
золотую корону.
«Засиял ты, как встарь…
Мое сердце тебя не забудет.
В твоем взоре, о царь,
все что было, что есть и что будет.
И береза, вершиной скользя
в глубь тумана, ликует…
Кто-то, Вечный, тебя
зацелует!»
Но в туман удаляться он стал.
К людям шел разгонять сон их жалкий.
И сказал,
прижимая, как скипетр, фиалки:
«Побеждаеши сим!»
Развевалась его багряница.
Закружилась над ним,
глухо каркая, черная птица.
III
Он – букет белых роз.
Чаша он мировинного зелья.
Он, как новый Христос,
просиявший учитель веселья.
И любя, и грустя,
всех дарит лучезарностью кроткой.
Вот стоит, как дитя,
с золотисто-янтарной бородкой.
«О, народы мои,
приходите, идите ко мне.
Песнь о новой любви
я расслышал так ясно во сне.
Приходите ко мне.
Мы воздвигнем наш храм.
Я грядущей весне
свое жаркое сердце отдам.
Приношу в этот час,
как вечернюю жертву, себя…
Я погибну за вас,
беззаветно смеясь и любя…
Ах, лазурью очей
я омою вас всех.
Белизною моей
успокою ваш огненный грех»…
IV
И он на троне золотом,
весь просиявший, восседая,
волшебно-пламенным вином
нас всех безумно опьяняя,
ускорил ужас роковой.
И хаос встал, давно забытый.
И голос бури мировой
для всех раздался вдруг, сердитый.
И на щеках заледенел
вдруг поцелуй желанных губок.
И с тяжким звоном полетел
его вина червонный кубок.
И тени грозные легли
от стран далекого востока.
Мы все увидели вдали
седобородого пророка.
Пророк с волненьем грозовым
сказал: «Антихрист объявился»…
И хаос бредом роковым
вкруг нас опять зашевелился.
И с трона грустный царь сошел,
в тот час повитый тучей злою.
Корону сняв, во тьму пошел
от нас с опущенной главою.
V
Ах, запахнувшись в цветные тоги,
восторг пьянящий из кубка пили.
Мы восхищались и жизнь, как боги,
познаньем новым озолотили.
Венки засохли и тоги сняты,
дрожащий светоч едва светится.
Бежим куда-то, тоской объяты,
и мрак окрестный бедой грозится.
И кто-то плачет, охвачен дрожью,
охвачен страхом слепым: «Ужели
все оказалось безумством, ложью,
что нас манило к высокой цели?»
Приют роскошный – волшебств обитель,
где восхищались мы знаньем новым, —
спалил нежданно разящий мститель
в час полуночи мечом багровым.
И вот бежим мы, бежим, как тати,
во тьме кромешной, куда – не знаем,
тихонько ропщем, перечисляем
недостающих отсталых братий.
VI
О, мой царь!
Ты запуган и жалок.
Ты, как встарь,
притаился средь белых фиалок.
На закате блеск вечной свечи,
красный отсвет страданий —
золотистой парчи
пламезарные ткани.
Ты взываешь, грустя,
как болотная птица…
О, дитя,
вся в лохмотьях твоя багряница.
Затуманены сном
наплывающей ночи
на лице снеговом
голубые безумные очи.
О, мой царь,
о, бесцарственно-жалкий,
ты, как встарь,
на лугу собираешь фиалки.
Июнь 1903
Серебряный Колодезь
Начислим
+5
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе