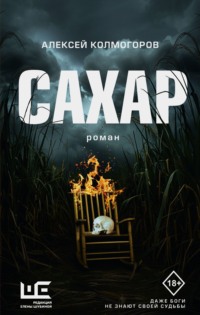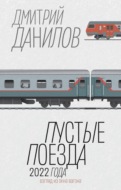Читать книгу: «Сахар», страница 4
– Кто это – «вы»? – спросил полковник.
– Кто-кто! Люди, человеки…
– А ты кто? Ты уже сверхчеловек?
– Я-то? – ухмыльнулся Карлос. – Ну уж точно не один из вас. Узнаешь еще, кто я…
– Угу… Карлос Великий. Элегуа назначил тебя своим апостолом?
Карлос странно посмотрел на полковника и промолчал. Перевел взгляд на стойку бара.
– Она все пялится на тебя.
Полковник не стал оглядываться.
– Если она тебе не нужна, дай мне денег.
Это уже был прежний Карлос. Вдруг. Будто рычажок внутри него заскочил в стандартное положение.
– Я дал тебе на ужин, – буркнул полковник.
– Дай еще.
Полковник глянул в сторону стойки. Мулатка тут же обернулась и улыбнулась ему.
Накрась свои губы, Мария, и танцуй, танцуй со мной.
– А как же скотское однообразие и все такое? – съязвил полковник.
– А я не говорил, что я против скотства. Я только не ищу в этом возвышенного. Денег дашь?
– Послушай, мы не договаривались, что я буду оплачивать тебе еще и шлюх.
– Ну, не мелочись. Это недорого.
Музыканты отожгли про Марию и затянули про девчонку из Гуантанамо.
Получив от полковника еще несколько купюр, Карлос встал и пошел к стойке. Начал что-то бормотать на ухо мулатке. Минут через пять она взяла его за руку и повела к выходу. Поравнявшись с полковником, Карлос задержался и навис:
– Знаешь, где я встретил Элегуа? На том самом поле…
Полковник смотрел на Карлоса снизу вверх.
– Ты помнишь то поле? – произнес Карлос медленно.
– Какое?
– Поле перед домом твоей бабки.
Полковнику показалось, что это сказал кто-то у него внутри. Стало жарко.
– При чем здесь моя бабка?
– Ты в детстве жил у бабки, рядом с полем. Когда-то это было ваше поле, как и все поля в округе…
Карлос сделал ударение на слове «ваше». Черт, что это? – завертелось в голове полковника панически и безответно. Еще в Гаване он почувствовал слабый укол беспокойства, когда Карлос сказал, что нужно ехать в Тринидад. Почему в Тринидад? Но тогда полковник сразу же погасил эту тревожную лампочку, случайно и необоснованно вспыхнувшую в его голове. В самом деле, Тринидад – второй туристический центр. Куда же еще поехать иностранцу с кубинской девчонкой, как не к Карибскому морю… И вот вдруг всплывает это поле…
Мулатка смотрела на полковника из-за спины Карлоса насмешливо, будто уже участвовала в каком-то заговоре.
– Я не понимаю, при чем здесь то поле, – сказал полковник.
– Скоро поймешь, – сказал Карлос.
– Нет! Сейчас!
– Это длинный разговор. В свое время ты все узнаешь.
– Хватит! Я задал тебе вопрос!
– Не ори…
Полковник схватил руку Карлоса и придавил к столу. Несколько посетителей в баре посмотрели на них.
– Ты что заладил «в свое время, в свое время»? – Полковник понизил голос. – Что за игры?
– Успокойся. В свое время, значит – в свое время. Мне самому не все еще понятно.
Карлос вырвал свою ладонь из-под ладони полковника, но не ушел, будто не все еще сказал.
– Поле рядом с домом детства – странные воспоминания, правда?
И Карлос легонько подтолкнул девушку к выходу.
– До завтра. И не ходи за мной.
Полковник видел, как они прошли мимо окон. И тут же следом за ними проследовал знакомый силуэт – черный парень в длинном плаще. Полковник выскочил из-за стола на улицу. Впереди, в полусотне шагов, шли Карлос и девушка, поочередно пересекая полосы света из дверей кабаков. Никто их не преследовал.
Официант тронул полковника за локоть.
– Сеньор, вы забыли заплатить…
– Я еще не ухожу.
Он вернулся в бар.
Я сам парнишка простой, из края, где растет пальма, откровенничал солист на бис.
Полковник долго сидел у стойки, прежде чем заговорил с барменом. Через пять минут он уже знал, как зовут ту мулатку и где ее найти. На всякий случай.
6
Полковник проснулся рано, около шести – за окнами темень. Заглянул к Карлосу. Его постель была пуста и не разобрана. Явится не раньше восьми. Никакой утренней свежести не наблюдалось. В патио во сне бормотал попугай.
Возле Музея романтики полковник разбудил водителя, парня лет тридцати, спавшего на заднем сиденье «шевроле» конца пятидесятых.
– Доедет до фи́нки11 «Эрмоса» твой ровесник революции?
– Обижаете…
Когда они выехали из города, рассвело, и птицы стали кричать громче, чем урчал двигатель старого «американца».
На двадцатом километре дороги среди сахарных полей они свернули направо. За деревьями замелькал колониальный особняк с новенькой крышей из красной черепицы.
– Вам прямо к музею? – спросил парень. – Там еще закрыто.
– Нет. Мне дальше.
– Дальше нет ничего. Только поля.
– Там есть один домишко. Я покажу.
– Вы из этих мест?
– Да. Этот музей – дом моего отца…
Полковник тут же пожалел о своих словах – к чему это детское бахвальство! Парень посмотрел на него с благоговением.
– Это был ваш дом?
– Дом моего отца, и деда, и прадеда…
– Ух ты, интересно, наверно, когда твой дом превращают в музей.
– Не знаю, я в нем не жил.
– Надо же! И все это было ваше? Все эти поля!
– Моего отца…
– Ну да. Вы ведь уже после революции родились? Году в семидесятом?
– В пятьдесят девятом.
– Не успели, значит, пожить господином?
– Не успел.
– Обидно…
Полковник взглянул на парня – нет, не издевается.
Господский дом скрылся за холмом, асфальт незаметно перетек в проселок, и не осталось ничего, кроме тростника, возвышавшегося по обе стороны. Парень больше ни о чем не спрашивал – всем своим видом показывал, что уважает чувства бывшего «плантатора» на бывшей «своей земле».
Скоро показался одноэтажный дом, похожий на амбар с пристроенной террасой. Дорога проходила прямо мимо дома, а по другую ее сторону до горизонта – тростниковое поле.
– Здесь, – сказал полковник.
Бабушка не пускала его играть в этих джунглях, говорила «заблудишься и пропадешь». Двадцать лет назад она умерла, и полковник больше сюда не возвращался. Дом передали местному кооперативу.
На террасе стояли два кресла-качалки из крашенного в белое металла. Таких наштамповано, наверно, миллион – для каждого кубинского дома. На бельевой веревке трепетала одинокая майка. Кто-то обитал здесь, но внутри – ни звука. Крестьяне встают рано. Будь кто-то дома, давно уж был бы на ногах. Полковник постучал в дверь и, ожидаемо не получив ответа, обошел дом через заросший травой и кустарником сад и заглянул в окно. Помещение, служившее раньше амбаром, перестроил в жилище его дед. Деревянные оштукатуренные перегородки делили общее пространство на комнаты. Стекол в окнах не было. Сквозь неплотно прикрытые жалюзи полковник видел обшарпанный стол и два стула, диван у стены. Цвет стен, кажется, не изменился со времен его детства – тусклый, горчично-желтый. Над столом висело радио. Этот древний аппарат – пластиковый ящичек с проволочной сеткой на передней стенке – полковник помнил на ощупь. Каким-то чудом он не только уцелел, но и висел на своем обычном месте.
Прежде чем заглянуть в следующее окно, полковник вдохнул поглубже. Это было окно в его детство. В детскую. Здесь жалюзи сжимались плотнее и позволяли рассмотреть лишь часть пола, да еще поверхность стола у самого окна. На голой исцарапанной столешнице лежали старые журналы, штук десять – «Сахарная промышленность». Один журнал желтел распахнутым разворотом. Ни бабушка, ни дед такое не читали – значит, сахарной промышленностью интересовался новый жилец. На видимом участке цементного пола полковник узнал несколько выбоин и глубоких царапин, врезавшихся в его мозг навсегда, как в этот цемент. Бабушка драила полы с мылом раз в неделю по субботам, но царапины от этого не сглаживались. Полковник снова вернулся взглядом к журналам. Что-то там его зацепило, что-то было нацарапано карандашом на полях открытой страницы. Всего несколько слов, которые он видел перевернутыми. С трудом удалось разобрать: «Она не знала, что через триста лет черные тоже будут есть сахар!!!» Три восклицательных знака.
Полковник попытался провернуть рукой жалюзи так, чтобы они стали горизонтально и можно было увидеть всю комнату, но ничего не вышло – жалюзи были зафиксированы изнутри. Он снова стал смотреть сквозь щели, нагибаясь и поднимаясь на цыпочки, но деревянные планки располагались под одним углом и позволяли видеть только то, что находилось рядом с окном. Полковник оглянулся на дорогу. Водитель стоял у машины и наблюдал настороженно за телодвижениями клиента.
– Это дом моей бабушки! У меня просто нет ключей…
Водитель покивал в ответ.
Через жалюзи был виден еще нижний угол стеллажа, где лежали стопки пыльных журналов и справочников. А на полу под нижней полкой виднелось что-то круглое, завернутое в кусок полотна. Сползший край материи открывал небольшой фрагмент этого предмета. Стараясь как можно лучше рассмотреть его, полковник уперся лбом в жалюзи так плотно, что они врезались в кожу и оставили на лбу горизонтальные полосы. Из-под материи виднелись человеческие зубы, точнее – верхняя челюсть. А весь этот круглый предмет, очевидно, был черепом. Человеческим черепом. Полковник достаточно повидал черепов, чтобы не ошибиться.
Это было уже слишком. Все это было слишком! Вчера Карлос заговорил с ним о доме и поле. Почему здесь череп – в том самом доме, возле того самого поля? Чей это теперь дом? Чей череп? Подступало знакомое ощущение катастрофы, когда начинает слегка подташнивать и во рту появляется металлический привкус.
Полковник вышел на дорогу. Водитель вглядывался в его перевернутое лицо с поперечными полосами на лбу.
– Все в порядке?
– Да…
– Может, позвонить бабушке? Есть у нее мобильник?
Скрип колес. По дороге ползла повозка, запряженная двумя быками. На вершине горы тростниковых стеблей сидел парень в белой ковбойской шляпе и пропотевшей майке. Быки спали на ходу. Полковник не смог дождаться, когда они подползут, и пошел навстречу.
– Добрый день! Скажите, кто живет в этом доме?
– В каком? В этом? – переспросил парень, хотя других домов тут не было.
– В этом!
– Тут живет один мужик, но, говорят, он уехал в Гавану.
– Как его зовут?
– Я не знаю. Он один здесь живет.
– Как он выглядит?
Полковник шел рядом с повозкой. Парень посмотрел на него с высоты и пожал плечами.
– Ну, такой… старый…
– У него голова в ожогах?
– А… Да… Говорят, в него молния попала…
Полковник остолбенел, будто это его поразила молния.
7
Она не знала, что через триста лет черные тоже будут есть сахар. Кто же мог представить себе такое?
Первый раз она попробовала сахар в четырнадцать лет, когда ее изнасиловал надсмотрщик. Алиока шла вдоль ручья, несла мешок кабачков; он подъехал верхом, слез с коня и встал перед ней на тропе. Солнце уже садилось, вокруг не было ни души, и она поняла, что сейчас это случится. Уже несколько дней надсмотрщик Игнасио поглядывал на ее ноги, когда она, подоткнув подол, кланялась кабачкам на грядках.
Убежать она не смела, сопротивляться – тем более…
Когда все кончилось, он достал из седельной сумки и вложил ей в руку два коричневых куска сахара. Это было щедро; он мог бы вообще ничего ей не давать. Мог бы и плеткой угостить для остроты ощущений, но пожалел ребенка. В конце концов, он тоже человек был – с гнилыми зубами, седой щетиной на остром подбородке, в рыжей засаленной шляпе.
Когда он сел на лошадь и уехал, Алиока поплакала, завернула сахар в лист дикого винограда и спрятала в траве. Искупавшись в ручье, она надела юбку и рубаху и только после этого вернулась к сахару: достала, понюхала, лизнула. Вкус ее поразил. Это было что-то абсолютное, чистое, совершенное. До сих пор она не встречала такого совершенства в окружающем мире. Она сидела на берегу и грызла сахар, запивая его водой из ручья. Съела один кусок. Второй, переборов соблазн, снова завернула в лист и спрятала под рубахой – для братьев.
Бежала через поля – нужно было успеть в барак, пока не стемнело. Надсмотрщики закроют ворота и побьют, если опоздать. Ощущала во рту вкус сахара и вкус любви – приторную сладость унижения.
Для нее не было, конечно, новостью то, что происходит между мужчиной и женщиной во время этих животных припадков. В общем бараке, где семейные нары отделялись только с помощью криво висящих тряпок, от этого просто некуда было деться. Только с ней самой этого до сих пор не случалось. Ничего такого особенного она не почувствовала, и это ее вполне устраивало – лишь бы было быстро и не больно. И если за это всегда будут давать сахар, то она не против: пусть с ней это делают хоть каждый день. Работать в поле гораздо тяжелей, а сахара за это не получишь.
Алиока пробралась на свою лежанку, когда в бараке уже погасили лучины. Мать зашевелилась рядом, схватила ее за руку и, притянув к себе, зашипела:
– Где тебя носит?
Алиока вложила ей в ладонь кусок сахара.
– Что это?
– Сахар.
– Где взяла? – Мать испугалась.
– Капатас12 Игнасио дал.
Мать поняла и больше ни о чем не спрашивала.
Это было слишком дорого – кормить рабов сахаром, который они добывали. Тем, кто рубил тростник, так и не удавалось за всю их не слишком долгую жизнь не только попробовать, но даже увидеть вблизи кусок сахара. Только те, кто работал в сахароварнях, видели много сахара каждый день и иногда рисковали украсть кусок-другой. За это их били кнутом, травили собаками. И еще, конечно, сахар видели те, кто прислуживал в господском доме. У добрых хозяев горничные и лакеи получали его в качестве поощрения или, опять-таки, крали.
На следующий день в поле Алиока разогнула спину и посмотрела на надсмотрщика так, как никогда бы не осмелилась раньше. Он понял, мотнул головой, предлагая следовать за ним, и шагом направил свою лошадь к пальмовой роще. Алиока шла среди белых стволов, прислушиваясь к перестуку копыт впереди. И ее сердце стучало в унисон. Она получит еще сахара? Но в глубине души опасалась, что вряд ли.
…Когда Игнасио уже стащил с нее ее жалкие тряпки и нагнул перед собой, раздался резкий окрик:
– Эй! Что за дьявол!
Сеньор Антонио возвышался в седле над грядой кустарника. Игнасио натянул штаны, снял шляпу и побежал к сеньору. Тут же получив два удара плетью, он вскочил на лошадь и умчался. Сеньор Антонио не разрешал надсмотрщикам насиловать рабынь. И не потому, что это оскорбляло его нравственное чувство, – просто эти женщины принадлежали ему.
Алиока не смела двинуться и подобрать свою одежду; стояла голая, прикрывая ладонями грудь и лобок. Сеньор слез с коня и подошел к ней вплотную, так что ее лицо оказалось в тени его шляпы. От него пахло табаком. Никогда Алиока не видела его так близко, да, собственно, и сейчас видела только его сапоги. Согнутым пальцем он приподнял ее подбородок. Алиока смотрела мимо, на облако выше его левого уха.
– В глаза смотри.
Она посмотрела, но тут же заметалась взглядом, даже не успев разглядеть эти глаза.
– Как зовут?
– Алиока, сеньор, ваша прекрасная милость.
Это мать научила ее так отвечать – прибавлять к стандартному обращению «ваша милость» всякие красочные эпитеты: «прекрасный», «великолепный», «добрейший».
– Почему я тебя раньше не видел?
– Я не работаю в доме…
Антонио по-хозяйски положил руку на ее бедро. Она задышала часто и глубоко, но не от возбуждения – от страха: она знала, как это делают рабы и надсмотрщики, но как это бывает у сеньоров, она не видела и боялась совершить оплошность.
– Будешь работать на кухне. Иди к дворецкому, он тебе скажет, что делать.
– Спасибо, добрый сеньор, ваша милость!
– И скажи ему, чтобы ночью он дал тебе воды помыться, а потом привел ко мне.
Она не могла унять шумное дыхание: боялась – сердце разорвется. Сеньор неправильно истолковал это дыхание.
– Хочешь прямо сейчас?
Она дышала и молчала, глядя на его сапоги. Сеньор задумчиво погладил ее бедро, сжал ягодицу.
– Нет. Не хочу после этого козла. Он успел тебя трахнуть?
– Нет… – выдохнула она.
– А раньше?
– Да…
– Сукин сын…
Когда сеньор уехал, Алиока оделась и пошла в сторону господского дома. С дыханием постепенно справилась, но голова разрывалась от мыслей. Ее берут в дом! И не просто в дом, а на кухню! И не просто на кухню, а ночью ее еще отведут к сеньору! И хотя она не понимала, что такого нашел в ней сеньор, все же надеялась, что, может, ему понравится делать с ней это, и она сможет задержаться в доме хотя бы на месяц, а то и на год. А сеньора! Она такая красивая, что даже не похожа на живого человека! У нее такие платья! Такой зонтик! Неужели она будет жить где-то рядом с сеньорой?
Отец Алиоки уже год как умер, и мать скоро умрет, старая уже – лет тридцать. И тогда все заботы о трех младших братьях лягут на ее плечи. Что это за заботы? Чтобы каждый день им доставалась что-то из общего котла. Это все, что она могла до сих пор. А теперь сможет приносить им что-нибудь с кухни: морковку, жареные бананы, а может, даже кукурузные лепешки.
С холма она увидела дом с красной крышей. Среди зеленых полей к дому сбегались красные дороги (в той стране все зеленое растет из красного). Сердце Алиоки сжалось в предвкушении перемен, странных и таинственных. Мечтая и строя планы, она дошла до ограды. Надсмотрщик, пасший дюжину рабов возле дома, занес над ней плеть, как только она ступила на задний двор. Она упала на колени и запричитала, что ее прислал сам сеньор, что он велел ей пройти на кухню. Из дома вышел дворецкий Хуан, длинный старый негр. Сеньора заставляла его носить белый напудренный парик с буклями и ливрею. И это в такую-то жару! Так она установила с первого дня, как появилась в доме. Хуан сказал надсмотрщику, что сеньор действительно распорядился насчет этой девчонки. Надсмотрщик подумал, опустить ли все же плеть на ее спину, раз уж он ее поднял, но не опустил, а заткнул за пояс, потому что не стоило портить шкуру рабыни, если сеньор позвал ее ближе к ночи.
Хуан провел Алиоку на кухню. Повариха, крепкая тетка лет под тридцать, посмотрела косо, оценивая соперницу, и велела ей сортировать фасоль. Что за работа – одно удовольствие: сиди себе, перебирай, мечтай. Алиока думала о предстоящей ночи. Ломала голову, как понравиться сеньору, но ничего не могла придумать, потому что вообще не понимала еще, что во всем этом хорошего и почему это так нравится мужчинам. О сахаре она старалась не вспоминать, чтобы не спугнуть его.
Когда стемнело, пришел Хуан и отправил повариху спать. Алиоке же он велел набрать воды в бочонок и вымыться. Принес ей чистую юбку и рубаху и повел во внутренние комнаты.
Алиока никогда раньше не бывала внутри настоящего дома, не видела, как там все устроено, а только слышала о нем от бывших домашних рабов, сосланных на рубку тростника за какие-то грехи. Те помещения, что она знала до сих пор – хижины, амбар и конюшня, – не шли ни в какое сравнение с тем, что она видела сейчас. Дом, даже в полумраке, при свече, поразил ее своими размерами. Внутри он был как будто больше, чем выглядел снаружи. Зачем столько комнат, если тут живут только два человека – сеньор и сеньора? Ну, еще их дети, но они не в счет; они маленькие и занимают совсем мало места.
А еще Алиоку очень заботил вопрос: если ее будет принимать сеньор и делать с ней это, то будет ли при том присутствовать и сеньора и как же тогда… А если не будет, то где же она будет в это время – ведь по представлениям Алиоки муж и жена всегда спят вместе, в одной постели…
Сеньор был один. Хуан подтолкнул Алиоку в приоткрытую дверь спальни и растворился в темноте вместе со свечой.
– Иди сюда, – тихо сказал сеньор.
Алиока подошла к широкой массивной кровати, где он лежал под полупрозрачным москитным пологом совсем голый.
– Ты помылась?
– Да, сеньор.
– Снимай все и иди ко мне. – Его голос звучал глухо, сонно.
Алиока разделась, приподняла край москитной сетки, залезла внутрь и подползла на четвереньках к большому голому телу, вытянувшемуся навзничь на всю длину кровати. Ширина этого ложа была внушительной: на нем могли бы поместиться три пары одновременно.
Сеньор сразу обнял ее и прижал к себе. Алиока задышала взволнованно, но вскоре успокоилась, потому что сеньор больше не двигался. Казалось, он заснул, но она не видела его лица и могла только гадать о его настроении и дальнейших планах. Единственное, в чем она была уверена, – что он жив, потому что слышала дыхание ухом, прижатым к его волосатой груди. Алиока, осторожно выглядывая из-под его руки, стала рассматривать сквозь москитную сетку комнату. Углы просторной спальни исчезали во мраке. Кровать с куполообразной сеткой будто плыла в кругу света посреди бесконечного темного пространства. Алиока силилась разглядеть, не лежит ли там сахар, но москитная сетка и полумрак мешали ей. И тут сеньор вдруг вспомнил о ее существовании, перевернул на спину и навалился сверху.
Пока сеньор делал с ней это, она, запрокинув голову, разглядывала резную спинку кровати. Протянула руку и пощупала гладкие выпуклости и мелкие витиеватые узоры на прохладном черном дереве. Потом стала смотреть на массивные балки потолка, высоко парившие над ней, казалось, безо всякой опоры. Кровать теперь слегка раскачивалась и поскрипывала, отчего впечатление медленного дрейфа только усиливалось – будто они плыли на плоту. Алиока подняла руки и стала складывать тени на потолке. Ей удалось сделать морду собаки и голову петуха с гребешком, но тени были слишком расплывчаты из-за слабости мерцающего света. Сеньор был занят и не замечал ее баловства. Он сосредоточенно делал это с закрытыми глазами, целуя ее шею и грудь, слизывая капельки пота с ее подбородка.
– Обними меня, – вдруг прохрипел он.
Алиока обхватила его за плечи, и очень кстати, потому что как раз в этот момент их обоих пронзило. Она этого никак не ожидала и вскрикнула испуганно, но он зажал ей рот, и оба лишь мычали и хрипели…
После лежали мокрые на влажных простынях, не касаясь друг друга. И опять она не понимала, заснул он или нет.
– Хочешь рома? – спросил он, не двигаясь.
– Нет, сеньор…
– А поесть?
– Нет, сеньор, я поела на кухне…
– Хуан показал, где ты будешь спать?
– Да, сеньор…
– Ну, иди.
Она вылезла из-под москитной сетки и оделась. Посмотрела на прикроватный столик и ясно увидела теперь, что сахара нет. Слезы навернулись на глаза. Она была так расстроена, что, одетая, застыла посреди комнаты. Сеньор приподнялся на локтях и посмотрел на нее.
– Что еще?
– Сеньор, ваша прекрасная милость, я хотела просить… простите, великодушный сеньор…
– Ну, что?
– Можно мне немного сахара?
– Сахара?
– Сахара…
– Хочешь попробовать? – Он смотрел с интересом.
– Я уже пробовала.
– Где взяла? Украла?
Алиока вздрогнула, но он не сердился. Это было слышно по голосу.
– Нет! Как можно! Мне дал Игнасио, добрый капатас.
Сеньору становилось все интереснее. Он даже выбрался из-под москитной сетки и сел на край кровати.
– Игнасио дал тебе сахар? Надо же – тоже человек. А я думал – пес паршивый…
Алиока впервые посмотрела сеньору прямо в лицо и увидела веселые глаза и снисходительную усмешку.
– Ну, если Игнасио тебя угостил, куда же мне деваться.
Сеньор поднялся и, приоткрыв дверь спальни, тихо позвал:
– Хуан…
Дворецкий проявился из мрака.
– Принеси сахара и лимонада – да холодного, из погреба.
Сеньор смотрел, как Алиока грызет сахар и запивает лимонадом.
– И сколько ты можешь съесть? – Он улыбался.
– Не знаю… – Алиока перестала хрустеть.
– Ешь, мне не жалко.
Она захрустела снова. Покончив с очередным куском, она сказала, не поднимая глаз:
– А можно я возьму это с собой.
На тарелке еще оставалось три куска.
– Можно.
Она завернула куски в подол рубахи и, придерживая их рукой, встала.
– Уже уходишь? – спросил он насмешливо.
Она растерялась.
– Как прикажете, сеньор.
– Сядь сюда.
Она села на угол кровати. Он передвинул свечу так, чтобы свет точнее падал на ее лицо, и стал смотреть на нее сбоку. Что происходит, она не понимала и поэтому боялась: может, что-то сделала не так?
– Господи… – сказал он негромко. – Боже мой, боже…
Она ничего не понимала.
– Хочешь остаться со мной до утра? – Он провел ладонью по ее щеке.
– Как прикажете, сеньор.
– Я спросил, хочешь ли.
Она совсем растерялась: еще никто никогда не спрашивал, чего она хочет.
– Если не хочешь, можешь идти к себе в сарай, – сказал он холодно.
– Как прикажете, сеньор. – Она пугалась все больше и не знала, что делать.
Он встал и налил себе рома, сделал глоток, потом протянул ей кружку:
– Пей.
Она медлила, чувствуя удушливый запах.
– Не бойся, не помрешь.
Зажмурившись, она глотнула обжигающую жидкость раз, другой. Закашлялась. Сеньор протянул ей кружку с лимонадом.
– Ну, как теперь? Уже не боишься меня? – спросил он насмешливо, когда она выпила лимонада и отдышалась.
– Нет…
Горячая волна ударила ей в голову. Алиока посмотрела на сеньора прямо.
– Сеньор, у вас зеленые глаза, – сказала она вдруг. – Никогда я такого не видела.
Он улыбался.
– Когда мы вдвоем, ты можешь называть меня Антонио. Скажи – Антонио.
– Сеньор Антонио…
– Просто Антонио.
– Антонио, – сказала она осторожно.
Он засмеялся.
– А теперь скажи – мой Антонио.
Она подумала и потянулась за кружкой, но не лимонада, сделала еще пару глотков. Он улыбался, наблюдая за ней.
– Ну, теперь скажешь – мой Антонио?
– Мой Антонио… зеленые глаза, – сказала она и поцеловала его в губы.
Он повалил ее на кровать, стащил юбку, рубаху – куски сахара высыпались на простыню. Алиока на ощупь собрала их и сжала в кулаке. Она опять плыла, лежа на спине, и балки потолка парили над ней высоко, но теперь они еще и медленно кружились.
– А где же спит сеньора? – вдруг спросила она.
Сеньор перестал целовать ее грудь.
– А тебе-то что?
– Просто… Где же она?
– У нее другая спальня.
– А она спала на этой кровати?
– Спала…
Алиока расслабленно улыбалась. Сеньор так взялся за нее, что куски сахара растаяли в ее ладонях, и после они вдвоем облизывали ее сладкие пальцы.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе