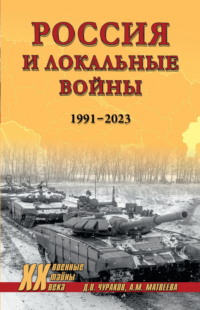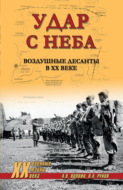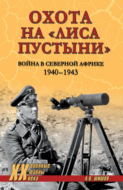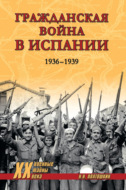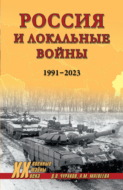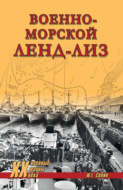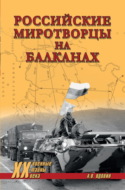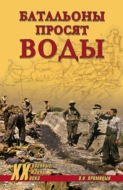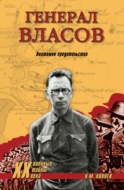Читать книгу: «Россия и локальные войны. 1991–2023», страница 2
2. Кольца огненной анаконды
Несмотря на то, что в условиях ликвидации единого союзного государства в РСФСР удалось избежать наиболее опасного сценария, чреватого полным развалом государства уже на республиканском уровне, а в рамках новых российских границ, в условиях общего кризиса прежних форм территориального и национального единства, отдельные регионы не могли тогда мешать Кремлю действовать уже по закону силы. А республиканский центр на рубеже 1980‑х и 1990‑х годов имел еще меньше сил, чем союзный центр. Более того, время от времени применение российской властью вооруженного давления на верхушку протестных регионов встречало вооруженное сопротивление, что приводило к образованию не просто зон локального противостояния, а к началу внутренних локальных войн различной интенсивности, масштаба и продолжительности.
В самой Российской Федерации и на постсоветском пространстве можно говорить о нескольких десятках таких этнополитических конфликтов на рубеже 1980‑х и 1990‑х годов, некоторые из которых переросли в масштаб полномасштабных войн: гражданских или даже межгосударственных (межреспубликанских). Добавив к ним конфликты в дружественных России странах, в которые Кремлю пришлось активно вмешиваться, мы поймем, в каких сложных условиях началось формирование новой российской государственности.
Изучение гибридных военно-политических конфликтов, имевших место в 1990‑е годы (и в последующие годы), методологически обосновано разделением их на периметры конфронтации или напряженности. Эти периметры охватывают горячие точки, связанные с геостратегическим положением Российской Федерации на определенном этапе ее исторического развития. По своему качественному содержанию, географическому положению и значению для судьбы Российской Федерации эти горячие точки можно объединить в три линии, которые далее определяются как периметры конфронтации или кольца напряженности.
Эта классификация основана на тщательно модернизированном подходе к потребностям данного исследования, но уже прочно утвердившемся в геополитике, основанном на глобальной стратегии обхвата или так называемой «стратегии анаконды». Еще в середине XIX века генерал Уинфилд Скотт предложил оптимизировать действия Северной армии в Гражданской войне в США. В дальнейшем эта стратегия и основанные на ней методы изучения геополитической практики Альфредом Махэном были распространены на весь мир. Наконец, в конце XX века эта концепция продолжала развиваться в творческом наследии Генри Киссинджера, который назвал ее стратегией «звено цепи».
Основываясь на стратегии и методологии, предложенных англосаксонскими авторами, мы выделим сплетения «звеньев цепи», «колец», которые «современная анаконда» плетет вокруг исторической России, пытаясь замкнуть ее в прочную геополитическую цепь неисторического прозябания и, по возможности, разделить Россию на несколько небольших государств посредством различных локальных войн, как это было разработано в Югославии. Сегодня эти условные «кольца анаконды» или периметры конфронтации, как они будут определены в этом исследовании, шире и глобальнее, чем раньше, когда Россия (Советский Союз) должна была быть отрезана только от «теплых морей». К началу нашего XXI века принципиальная недостаточность предыдущего подхода стала очевидной, и теперь гибкие, но надежные «кольца анаконды» должны, по мнению западных стратегов, изолировать Российскую Федерацию по всем возможным направлениям ее геостратегического продвижения, сковать любые усилия российского руководства по возвращению стране утраченных позиций в мире. Таким образом, для самой России отмеченные нами периметры конфронтации столь же правильно понимаются, как и три зоны безопасности, поскольку для России речь идет не о внешней экспансии, а только о защите национальных интересов в рамках российского исторического пространства, в пределах собственной зоны исторической ответственности.
Первый рубеж безопасности: локальные конфликты в РФ
Если смотреть из Москвы, то есть с точки зрения национальных интересов Российской Федерации, то первый периметр безопасности следует признать внутренним. Похоже, что именно конфликты внутри границ страны представляют наибольшую угрозу для ее стабильности. Возникновение конфликтов в пределах советских границ было важным признаком времени и свидетельством того, что руководство союзников управляло политическим процессом в стране. В истории независимой Российской Федерации на рубеже 1980‑х и 1990‑х годов наблюдался значительный рост напряженности, в основе которого лежали факторы политического, социального, экономического, религиозного и межнационального характера. Для целостности государства – самой новой российской государственности – этнополитический фактор играл такую же важную роль, как и для СССР в целом.
Среди наиболее острых конфликтов в границах Российской Федерации, переросших в вооруженное противостояние, в первую очередь уместно говорить о тех, которые имели место на Северном Кавказе. Именно там локальные конфликты приобрели характер затяжной вооруженной конфронтации, в то время как в других регионах она все еще не достигла наивысших стадий развития конфликтов в горячих точках. К таким кризисам можно отнести вооруженный конфликт между ингушами и осетинами, о котором мы уже вкратце упоминали.
Как и все локальные военно-политические конфликты, с которыми Кремлю приходилось сталкиваться в первое десятилетие существования суверенной Российской Федерации, то есть в 1990‑е годы, осетино-ингушское противостояние началось в последние месяцы существования СССР, но даже после его распада оно не исчезло, а продолжало усиливаться. Сложные отношения между этими двумя кавказскими народами уходили корнями в прошлые века российской истории, в те времена, когда на Северном Кавказе не было русских. Несколько решений, которые дестабилизировали ситуацию, были приняты после революции 1917 года, включая произвольное сокращение границ Советами и решения, связанные с депортацией некоторых народов, обвиненных при Сталине в сотрудничестве с нацистскими оккупантами во время операции под кодовым названием «Чечевица». В условиях «горбачевской перестройки» и строительства независимого либерального российского государства существующие противоречия и обиды смогли стать еще более выраженными. В результате урегулировать отношения в зоне соприкосновения ингушей и осетин удалось только в результате вмешательства федерального центра. При этом необходимо было использовать не только мирные, но и военные методы воздействия на конфликтную ситуацию.
Война законов и парад суверенитетов сыграли главную и самую непосредственную роль в росте конфликта и его переходе в вооруженную стадию. Закон «О реабилитации репрессированных народов», принятый 26 марта 1991 года Верховным Советом РСФСР, иногда называют переломным моментом, направившим развитие давно тлеющего очага нестабильности по самому опасному сценарию. Эта оценка представляется ошибочной или даже предвзятой, направленной на дискредитацию российского руководства. По сути, спусковым крючком для этого, как и для некоторых других локальных конфликтов, стал Союзный закон от 26 апреля 1990 года «О разделении полномочий между СССР и субъектами Федерации».
Этот закон легко можно было истолковать так, что автономные республики стали субъектами СССР наряду с союзными республиками. Этот закон, который не может быть объяснен с точки зрения нормальной юридической логики, сыграет свою роль, например, при подготовке нового союзного договора. В ходе этого процесса некоторые автономные республики выразят намерение подписать документ в обход руководства тех союзных республик, к которым они ранее принадлежали. Используя эти настроения, руководство Горбачева вступит в отдельные переговоры с лидерами Чечено-Ингушетии, которые также выразили намерение подписать союзный договор наравне с Российской Федерацией. В то же время ценой согласия поддержать команду Горбачева в ее стремлении минимизировать возможности тогдашних российских властей руководители Чечено-Ингушетии назвали возвращение Пригородного района, переданного Северной Осетии после депортации ингушей и чеченцев в 1944 году, в их республику. Начались секретные сепаратные переговоры между союзным центром и силами, представляющими автономию6.
Именно эти тенденции заставили окружение Ельцина искать пути противодействия усилиям команды Горбачева выбить почву из-под ног властей РСФСР. Однако принятые ответные меры также были проникнуты конфронтационной логикой и не отличались разумностью и продуманностью. Вышеупомянутый закон РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» следует рассматривать как повод для таких конкретных мер, направленных на перехват инициативы в отношениях с руководством российских автономных областей. От союзного положения по вопросу реабилитации жертв сталинских репрессий и по урегулированию межнациональных отношений оно отличалось еще большим радикализмом и двусмысленностью, о чем говорят многие наблюдатели.
Прежде всего, в данном случае речь идет о норме, заложенной в законе, не только политической, но и территориальной реабилитации. Это правило отражено, например, в статье 3. В ней говорится: «Реабилитация репрессированных народов означает признание и осуществление их права на восстановление территориальной целостности, существовавшей до неконституционной политики насильственного перекраивания границ, на восстановление национально-государственных образований, существовавших до их упразднения». Однако механизм реализации этой нормы никогда не был описан ни в самом законе, ни в подзаконных актах. Таким образом, закон был пустой политической декларацией. Он служил не снятию, а эскалации существующих трений7. Но неоднозначность правовых норм позволила Ельцину попытаться политически победить Союзный центр. Во время предвыборной поездки на Северный Кавказ в июне 1991 года и встреч с представителями ингушских и осетинских активистов он предложил каждой стороне отдельный выход из кризиса. Понятно, что два пути разрешения конфликта, озвученные Ельциным за кулисами представителям двух заинтересованных народов, полностью исключали друг друга. Их внедрение в возмущенное общественное сознание соседних автономных регионов, вовлеченных в конфликт, только усугубило и без того сложную ситуацию.
Некоторые другие законодательные инициативы также способствовали «юридическому» оформлению предпосылок назревающего конфликта. Так, в апреле 1991 года Верховный Совет Северной Осетии ввел чрезвычайное положение на территории Владикавказа и Пригородного района. Осенью того же года руководители Северной Осетии, воспользовавшись правовой и политической неразберихой, царившей в то время в стране, а также назвав декларацию независимости Южной Осетии и Чечни прецедентом, официально приступили к созданию так называемой Демократической Республики. «Республиканская гвардия» и «Народное ополчение» – это вооруженные формирования, которые не предусмотрены законами ни СССР, ни РСФСР. А в мае 1992 года парламент Северной Осетии утвердил постановление о принудительном производстве оружия на предприятиях Владикавказа для нужд этих неконституционных правоохранительных органов. Своеобразной финальной точкой в очерчивании правового поля конфликта стал принятый 4 июня 1992 года Верховным Советом РСФСР закон «Об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации». Вопрос о границах Ингушетии опять никак не рассматривался и не решался.
Осетино-ингушский конфликт вступил в свою горячую фазу 20 октября 1992 года, после гибели осетинской девушки и двух ингушских женщин, первых двух жертв горячей фазы противостояния. Уже 22 октября начались перестрелки между ингушскими и североосетинскими милиционерами, в ходе которых были убиты еще несколько человек8. Эти события привели к волне митингов и столкновений. После 24 октября, когда решение принимается волонтерами и жителями Пригородного района ингушской национальности на Совместной сессии Советов ингушских районов, спорная территория временно фактически переходит под контроль ингушей. В ответ 27 октября Верховный Совет Северной Осетии предъявил ингушской стороне ультиматум с требованием разблокировать Пригородный район. Но попытка поговорить с ингушами с позиции силы только ведет к дальнейшему обострению ситуации. В некоторых селах (Камбилеевском и Октябрьском) вспыхивают стычки и гибнут люди.
Высшей фазой конфликта являются события с 31 октября по 5 ноября. В ночь с 30 на 31 октября 1992 года вновь начинаются перестрелки в селах Камбилеевское и Октябрьское. По данным осетинской стороны, вооруженные группы ингушей двинулись в Пригородный район, чтобы помочь своим соплеменникам пересечь осетино-ингушскую границу. Ингушские войска захватывают отдельные посты МВД Северной Осетии, нападают на осетинский полицейский участок в селе Чермен. Погромы осетинских семей начинаются в самом селе. На следующий день, 1 ноября 1992 года, начинается артиллерийский обстрел ингушских сел. Хотя 2 ноября президент Ельцин ввел в Пригородный район миротворческие силы из 5,5 тысячи российских военнослужащих и сформировал их, это не приносит умиротворения. Наоборот, происходит дальнейшая эскалация вооруженного противостояния. Со 2 по 5 ноября идут чистки и фактическое выдавливание ингушского населения в пределы Северной Осетии. И только 5 ноября федеральные внутренние войска вводятся в села Октябрьское, Дачное, Куртат, Чермен и села Карца, Майский и Южный, которые были очищены от ингушей, призванных разнять конфликтующие стороны. Но разлучать было некого – спасая жизни, ингуши, бросив свои дома и приобретенное имущество, массово переселялись на территорию Ингушетии.
Осложняющим фактором в осетино-ингушском конфликте стал фактор беженцев. Этот фактор стал результатом вооруженных конфликтов в Чечне и Южной Осетии. Представители не вайнахского населения республики пытались бежать из Чечни в безопасные для них регионы, а осетинские семьи бежали из Южной Осетии от грузинской агрессии. Приток дополнительного населения в Северную Осетию, особенно в Пригородный район, создал чрезмерную демографическую нагрузку, с которой не смогли справиться ни местные, ни федеральные власти. В результате усложнились экономические и социальные проблемы, ухудшилась криминогенная обстановка, ухудшилась политическая ситуация. Вторым фактором, усугубляющим ход кризиса, является приток боевиков в зону осетино-ингушского конфликта: вайнахов из Чечни, осетин из Южной Осетии.
Следует подчеркнуть, что присутствие внутренне перемещенных лиц и вооруженных добровольцев не было характерной особенностью осетино-ингушского конфликта. Почти все локальные войны на Кавказе и на постсоветском пространстве в целом сопровождались насильственным переселением больших масс людей. С рубежа 1980‑х и 1990‑х годов люди, которых условно можно назвать «волками войны», перемещаются по всем зонам локальных конфликтов. Это люди, профессионально участвующие в вооруженных конфликтах. Одни и те же представители этой группы в некоторых конфликтах могли выступать в качестве наемников, в некоторых – в качестве добровольцев, в некоторых – в качестве бойцов частных военных компаний (ЧВК) или сотрудников армий любых заинтересованных государств. Они могли оправдывать свое пребывание в зонах конфликтов материальными, моральными, идеологическими, родственными и другими факторами, но это часто не меняло сути их участия в конфликтах.
Высшая фаза осетино-ингушского конфликта, как видно, была очень недолгой. Несмотря на это, вооруженное противостояние, переросшее в настоящие боевые действия с применением артиллерии и бронетехники, оказалось очень кровопролитным. Согласно историческим исследованиям, за несколько дней до того, как федеральные силы разделили противоборствующие стороны, было убито 608 человек. Наибольшее число жертв – 490 человек – понесла ингушская сторона. Кроме того, в ходе эскалации конфликта еще 261 человек пропал без вести, 208 из которых – ингуши. По данным правозащитников, таких как организация «Мемориал», не менее 46–64 тысяч ингушей стали беженцами. Но в дополнение к ним 9 тысяч осетин бежали из Пригородной зоны от вспышек насилия, многие из которых позже не вернулись. Однако многим было некуда возвращаться – за несколько дней столкновений было сожжено 848 осетинских и 2728 ингушских домов9.
Еще одним крупным вооруженным конфликтом, возникшим в результате разрушения Советского государства на рубеже 1980‑х и 1990‑х годов, был чеченский конфликт. Как и осетино-ингушский конфликт, чеченский конфликт имел долгую историю. Однако, в отличие от относительно недолгого осетино-ингушского конфликта, чеченский конфликт оказался очень затяжным. Он длился несколько лет и имел не одну, а уже две высшие фазы, когда противостояние сторон переросло в полномасштабные локальные войны, частично принявшие характер гибридных. В этой статье мы проанализируем только первую резкую эскалацию чеченского конфликта. В литературе и общественном мнении этот этап чеченского конфликта был назван первой чеченской войной.
Как и почти все другие локальные вооруженные конфликты, с которыми Российской Федерации пришлось столкнуться в ходе строительства своей суверенной государственности, чеченские события можно считать наследием политики, проводимой союзным руководством во главе с Михаилом Горбачевым. Конечно, российские власти также внесли значительный вклад в развитие конфликта, но это было уже второстепенно. Как и во всех других случаях, в нарастающем чеченском конфликте второстепенная роль властей РСФСР связана с почти полным отсутствием в конце 1980‑х годов в их руках реальных рычагов, с помощью которых можно было бы решить конфликт в зародыше. В свою очередь, союзный центр, имевший такие рычаги, как и в других подобных случаях, ими не пользовался. Более того, своей двусмысленной позицией и провокационными действиями он поощрял чеченцев, а также титульные народы других российских автономий к внутрироссийскому сепаратизму. И если у властей РСФСР не было ни достаточной информации, ни, тем более, силовых ресурсов, то сепаратистские лидеры Чечни, пользуясь неразберихой, сложившейся в республике и в стране в целом, начали эффективно готовить силовой ресурс, на который они могли бы опираться в будущем в своих отношениях как с республиканскими, так и с союзными властями.
На рубеже 1991–1992 годов, то есть к моменту ликвидации горбачевского союзного центра в рамках создания СНГ, все важнейшие шаги, которые сделали вооруженный конфликт на Северном Кавказе неизбежным, уже были предприняты. Глава республики Доку Завгаев, хотя и стоял на умеренных позициях, но под давлением общей политической ситуации был вынужден поддержать парад суверенитета и войну законов, которые шли в то время. Еще в ноябре официальный конституционный орган – Верховный Совет Чечено-Ингушской АССР – принял Декларацию о государственном суверенитете. Но к тому времени в республике были организованы и более радикальные политические движения, выступавшие за выход не только из РСФСР, но и из СССР. Они объединились вокруг так называемого Национального конгресса чеченского народа (ОКЧН). Он был создан при участии Джохара Дудаева – боевого офицера, отличившегося во время вывода советских войск из Афганистана и проявившего выдающиеся командирские способности на ранее занимаемых должностях. В Советской армии Дудаев дослужился до звания генерал-майора (а в 1996 году он также получил звание генералиссимуса Чечни).
ОКЧН быстро перехватила инициативу у официальных властей. Этому особенно способствовали события августа 1991 года в Москве. В период ГКЧП Завгаев, находившийся в Москве, не проявлял никакой политической активности. В то же время ОКЧН немедленно поддержала команду Ельцина в ее противостоянии ГКЧП. Среди защитников Белого дома в те дни можно было даже услышать слухи о группах чеченцев, готовых приехать в Москву, чтобы поддержать Ельцина. Естественно, по умолчанию предполагалось, что речь идет о вооруженной поддержке. Когда 21 августа он вернулся в Грозный, у Завгаева уже не было полной власти, и его политическая карьера неуклонно приближалась к концу. Федеральное правительство никоим образом не возражало против этого. Он «фактически отказался от своей конституционной обязанности обеспечивать верховенство закона на территории Чеченской Республики. Таким образом, бездействие федерального правительства создало благоприятную почву для углубления и эскалации чеченского кризиса»10.
В сентябре ОКЧН объявил Верховный суд ЧИРА низложенным. Это решение в то время было молчаливо поддержано Ельциным, который не забыл позицию Дудаева во время ГКЧП. В октябре 1991 года были проведены выборы президента и парламента Чечни. По мнению наблюдателей, выборы проходили под патронатом вооруженных формирований ОКЧН (так называемой «Национальной гвардии») и сопровождались многочисленными нарушениями избирательных норм. Ожидалось, что Дудаев станет президентом республики. Его первым указом 1 ноября 1991 года Чечня была провозглашена независимой. Победа Дудаева на выборах означала, что сепаратистам удалось взять под контроль Чечню. После этого российские власти наконец-то решили как-то повлиять на развитие ситуации. Но ни принятые нормативные документы, ни попытки повлиять на Грозный демонстрацией силы не увенчались успехом. В частности, Союзный центр проигнорировал введение чрезвычайного положения в Чечне российским руководством 7 ноября 1991 года. В первую очередь это было связано с тогдашним главой союзного МВД В.П. Баранниковым, который не скрывал, что не будет предусматривать чрезвычайное положение. Позиция Баранникова была воспринята некоторыми российскими политиками как выражение недружественного отношения к России со стороны всего руководства союза и президента Горбачева в частности11.
В то же время победа Дудаева стала возможной не только из-за соперничества между Российской Федерацией и союзным государством, но и из-за противоречий внутри самого российского политического класса, часть которого по разным причинам была заинтересована в усилении чеченского сепаратизма. В частности, российские власти, признав незаконными выборы, на которых победил Дудаев, на практике не прекратили финансирование республики. Эта политика, в частности, проводилась на официальном уровне Министерством финансов России и Пенсионным фондом. Кроме того, режим Дудаева получал значительные доходы от торговли нефтью. Объем средств, полученных от продажи нефти, был таков, что можно с уверенностью предположить, что неофициальное соучастие сепаратистам со стороны определенных российских правительственных структур позволило Грозному использовать общую трубу12.
Став территорией, практически неподконтрольной федеральному центру, в 1991–1992 годах Чечня быстро превратилась в зону с высокой криминогенной обстановкой. В сборнике материалов, в том числе предоставленных центрами по связям с общественностью МВД, Федеральной службой безопасности, а также Департаментом информации и печати Минобороны России, отмечается, что «грабежи, разбои, похищения и убийства людей стали повседневным явлением». В последующие годы ситуация осложнилась, о чем свидетельствует анализ оперативной информации, полученной Министерством внутренних дел Российской Федерации. В республике свободно распространялось оружие, организовывались преступные группировки и вооруженные банды. Стрельба из различных видов оружия велась в различных районах республики практически ежедневно, происходили взрывы и другие террористические акты. В то же время правоохранительные органы практически самоустранились от расследования преступлений, в том числе самых тяжких. По оперативным данным МВД России, в 1992–1993 годах на территории Чечни ежегодно регистрировалось до 600 умышленных убийств, что в семь раз превышало показатель 1990 года. Было отмечено, что преступления в республике совершаются с особой дерзостью. Преступные группировки, даже вооруженные автоматическим оружием, фактически беспрепятственно совершали нападения на железнодорожный и автомобильный транспорт. Так, только в 1993 году на Грозненском отделении Северо-Кавказской железной дороги было совершено 559 нападений на поезда, что сопровождалось полным или частичным ограблением около 4 тысяч вагонов и контейнеров на сумму 11,5 миллиарда рублей. А в следующем, 1994 году, произошло более 120 вооруженных нападений, в результате которых было разграблено более 1100 вагонов и 500 контейнеров. Убытки от этих атак составили около 12 миллиардов рублей. При Дудаеве преступность из Чечни начала распространяться на республики Северного Кавказа и остальную часть страны13.
Власти Ичкерии также способствовали росту напряженности в стране. Итак, Дудаев попытался разыграть мусульманскую карту и карту братства кавказских народов. Надеясь возглавить общекавказский фронт «борьбы за независимость от России», Дудаев превратил Чечню в главную базу военизированной Конфедерации народов Кавказа. При этом верховными главнокомандующими войсками КНК были чеченцы из окружения Дудаева: Иса Арсамиков, затем Шамиль Басаев. Предпринимались попытки распространить сепаратистские действия на соседние территории Российской Федерации. Так, в специальном обращении Дудаева к жителям Дагестана – самой обширной республики Северного Кавказа – содержались следующие слова: «… Восстаньте, и пусть презрение падет на потомков тех, кто не способен к воинскому братству в час великого призыва. Восстань, Дагестан…»
Возможно, промежуточные выводы, сделанные из приведенных выше фактических обстоятельств, могут показаться некоторым слишком резкими и противоречивыми, но они полностью отражают ситуацию, сложившуюся в 1991–1994 годах:
1) Фактически руководство Российской Федерации оказалось перед дилеммой – либо отделение Чечни, а затем и других территорий, либо вооруженное столкновение.
2) Выбор должен был быть сделан не между дипломатией и применением силы, а между различными вариантами военного решения. Возможно было попытаться использовать силу только как вспомогательный «аргумент», а возможно – как основу.
На практике Ельцин-центр пытался использовать оба варианта. И изначально выбор, естественно, был сделан в пользу минимизации силовой составляющей давления на Грозный. Однако этот выбор был сделан не потому, что российское руководство освоило новейшие методы ведения локальных гибридных войн, а потому, что ему пришлось адаптироваться к имеющимся ресурсам. Первоначальный выбор в пользу ограниченного применения силы был сделан в связи со следующими обстоятельствами:
Во-первых, Ельцин имел прочную репутацию в стране и за рубежом как первый демократический лидер России. Ельцину было неприятно подрывать этот имидж массовым использованием армии против повстанческого анклава.
Во-вторых, даже после того, как суверенные «независимые» органы власти Российской Федерации получили властные структуры, навыки и механизмы их использования все еще остро отсутствовали.
В-третьих, при преимущественно мирном решении чеченской проблемы негативные последствия, как легко понять, были бы значительно менее болезненными. Но положительные результаты могут быть значительными и будут способствовать укреплению авторитета Ельцина как демократического лидера как внутри страны, так и в мире.
Поэтому первоначальная ставка была сделана на информационную войну и поддержку внутренней чеченской оппозиции режиму Дудаева. Другое дело, что новые московские правители также не обладали навыками использования информационных и дипломатических ресурсов.
Первоначально предполагалось, что применение силы будет осуществляться через внутричеченские группировки, противостоящие режиму Дудаева. Казалось, что достаточно будет снабдить их деньгами и оружием, и они смогут сделать реальную альтернативу официальному Грозному. В целом антидудаевскую оппозицию в 1992–1994 годах можно отождествить с несколькими тенденциями. Они еще не были российскими прокси-структурами, поскольку формировались спонтанно, выражая интересы своих непосредственных руководителей, а не федерального центра. В результате Кремль сотрудничал с этими группами в зависимости от временного совпадения целей, не имея возможности навязывать им свою собственную политику.
Судя по всему, наиболее серьезные внутричеченские оппозиционные силы действовали в Надтеречном районе. Одна их часть группировалась вокруг бывшего председателя Верховного Совета Чечено-Ингушской АССР, уроженца тейпа Гендер-гена Д. Завгаева. Другая часть – вокруг председателя Временного Совета Чеченской Республики, уроженца тейпа Пешхой Умара Автурханова. У. Автурханов был известен тем, что одним из первых среди чеченских политиков нового поколения выступил против отделения и за сохранение единства России. Деятельность этих двух политиков превратила Надтеречный в зону, свободную от власти дудаевцев.
В селе Толстой-Юрт действовали сторонники Руслана Хасбулатова, видного российского политического деятеля, уроженца этого села, уроженца тейпа Харачоя. В родном селе он организовал так называемую «Миротворческую миссию профессора Хасбулатова». Позже к нему присоединятся несколько вооруженных группировок.
Несколько других оппозиционных групп откололись от Дудаева в процессе укрепления его личной власти и отсечения недовольных этим процессом от рычагов управления республикой. Это, например, группа Руслана Лабазанова, бывшего начальника личной охраны Дудаева. Отделившись от Дудаева, он возглавляет военизированную партию Ниисо. По мере того как конфликт с Дудаевым развивается и перерастает в вооруженный, сторонники Лабазанова берут под контроль Аргун, третий по значимости город Чечни.
Кроме того, в Урус-Мартановском районе закрепились два видных чеченских политика. Это его родные, первый дудаевский мэр Грозного Бислан Гантамиров и Яраги Мамадаев. Второй из них стоял у истоков Национального конгресса чеченского народа, был членом президиума его исполнительного комитета, а после прихода к власти дудаевцев возглавил правительство – Комитет по оперативному управлению народным хозяйством. После отставки он начал критиковать своего бывшего лидера и воевал с ним. Он уехал из Чечни в Москву, где объявил о создании правительства народного доверия – фактически теневого правительства или правительства Чечни в изгнании. Переход таких фигур, как Гантамиров и Мамадаев, в оппозицию свидетельствовал об очень значительных трудностях в процессах формирования Чечни.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе