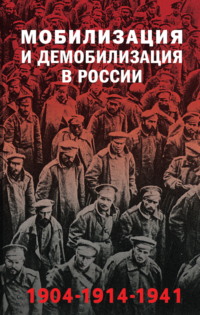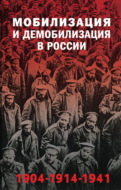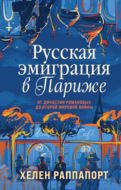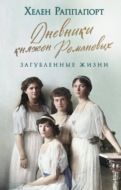Читать книгу: «Мобилизация и демобилизация в России, 1904–1914–1941», страница 3
Вчера я встретил провожаемого матерью и женой запасного. Они втроем ехали на телеге. Он был немного выпивши, лицо жены распухло от слез. Он обратился ко мне:
– Прощай, Лев Николаевич, на Дальний Восток.
– Что же, воевать будешь?
– Надо же кому-нибудь драться.
– Никому не надо драться.
Он задумался.
– Как же быть-то? Куда же денешься?
Я видел, что он понял меня, понял, что то дело, на которое посылают его, дурное дело.
«Куда же денешься?» Вот точное выражение того душевного состояния, которое в официальном и газетном мире переводится словами: «За веру, царя и отечество». Те, которые, бросая голодные семьи, идут на страдания и смерть, говорят то, что чувствуют: Куда же денешься? Те же, которые сидят в безопасности в своих роскошных дворцах, говорят, что все русские готовы пожертвовать жизнью за обожаемого монарха, за славу и величие России.
Вчера я получил от знакомого мне крестьянина одно за другим два письма.
Вот первое:
«Дорогой Лев Николаевич.
– Ну вот, сегодня я получил явочную карту о призыве на службу, завтра должен явиться, на сборный пункт. Вот и все, а там дальше на Дальний Восток под японские пули.
Про мое и горе моей семьи я вам не говорю, вам ли не понять всего ужаса моего положения и ужасов войны. Всем этим вы давно уже переболели и все понимаете. А как мне все хотелось у вас побывать, с вами поговорить. Я было написал вам большое письмо, в котором изложил муки моей души, но не успел переписать, как получил явочную карту. Что делать теперь моей жене с четырьмя детьми? Как старый человек, вы, разумеется, не можете интересоваться судьбой моей семьи, но вы можете попросить кого-либо из ваших друзей, ради прогулки, навестить мою осиротелую семью. Я вас прошу душевно, что если моя жена не выдержит муки своего сиротства с кучей ребят и решится пойти к вам за помощью и советом – вы примите ее и утешьте: она хоть вас и не знает лично, но верит в ваше слово, а это много значит.
Противиться призыву я не мог, но я наперед говорю, что через меня ни одна японская семья сиротой не останется. Господи, как все это ужасно, как тяжко и больно бросать все, чем живешь и интересуешься».
Второе письмо такое:
«Милый Лев Николаевич,
Вот, миновал только день действительной службы, а я уже пережил вечность самой отчаянной муки. С 8 часов утра до 9 часов вечера нас толкли и канителили на казарменном двору, как стадо животных. Три раза повторялась комедия телесного смотра, и все, заявлявшие себя больными, не получили к себе и по 10 минут внимания и были отмечены: «годен». Когда нас, этих годных, 2000 человек, погнали от воинского начальника в казармы, по улице чуть ли не в версту длиной стояла толпа – тысячи родственников, матерей, жен с детьми на руках, и если бы вы слышали и видели, как они цеплялись за своих отцов, мужей, сыновей, и, тащась на их шеях, отчаянно рыдали. Я вообще веду себя сдержанно и владею своими чувствами, но я не выдержал и также плакал…»
(На газетном языке это самое выражается так: подъем патриотизма огромный.)
«Где та мера, чтобы измерить все это огульное горе, которое распространится теперь чуть ли не на одну треть земного шара? А мы, мы теперь пушечное мясо, которое в недалеком будущем не замедлят подставить жертвами богу мщения и ужаса…
Я никак не могу установить внутреннего равновесия. О, как я ненавижу себя за эту двойственность, которая мешает мне служить одному господину и Богу…»
Человек этот недостаточно еще верит в то, что страшно не то, что погубит тело, а то, что погубит и тело и душу, и потому и не может отказаться; но, покидая семью, вперед обещается, что через него не осиротится ни одна японская семья. Он верит в главный закон Бога, закон всех религий: поступать с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. И таких людей в наше время, более или менее сознательно признающих этот закон, не в одном христианском, но и в буддийском, магометанском, конфуцианском, браминском мире не тысячи, а миллионы.
Есть истинные герои – не те, которых чествуют теперь за то, что они, желая убивать других, сами не были убиты, а истинные герои, сидящие теперь по тюрьмам и в Якутской области за то, что они прямо отказались идти в ряды убийц и предпочли мученичество отступлению от закона Христа. Есть и такие, как тот, который пишет мне, которые пойдут, но не будут убивать. Но и то большинство, которое идет, не думая, стараясь не думать о том, что оно делает, в глубине души уже чувствует теперь, что делает дурное дело, повинуясь властям, отрывающим их от труда и семьи и посылающим их на ненужное, противное их душе и вере смертоубийство; но идут только потому, что они так опутаны со всех сторон, что «куда же денешься?»
Те же, которые остаются, не только чувствуют, но знают и выражают это. Вчера я встретил на большой дороге порожнем возвращавшихся из Тулы крестьян. Один из них, идя подле телеги, читал листок.
Я спросил:
– Что это, телеграмма?
Он остановился.
– Это вчерашняя, а есть и нынешняя.
Он достал другую из кармана. Мы остановились. Я читал.
– Что вчера на вокзале было, – начал он, – страсть. Жены, дети, больше тысячи; ревут, обступили поезд, не пускают. Чужие плакали, глядучи. Одна тульская женщина ахнула и тут же померла; пять человек детей распихали по приютам, а его все же погнали… И на что нам эта какая-то Манчжурия? Своей земли много. А что народа побили и денег загубили…
Да, совсем иное отношение людей к войне теперь, чем то, которое было прежде, даже недавно, в 77 году. Никогда не было того, что совершается теперь.
Газеты пишут, что при встречах царя, разъезжающего по России гипнотизировать людей, отправляемых на убийство, проявляется неописуемый восторг в народе. В действительности же проявляется совсем другое. Со всех сторон слышатся рассказы о том, как там повесилось трое призванных запасных, там еще двое, там оставшаяся без мужа женщина принесла детей в воинское присутствие и оставила их там, а другая повесилась во дворе воинского начальника. Все недовольны, мрачны, озлоблены. Слова: «за веру, царя и отечество», гимны и крики «ура» уже не действуют на людей, как прежде: другая, противоположная волна сознания неправды и греха того дела, к которому призываются люди, все больше и больше захватывает народ…
Из книги русского и советского военачальника Александра Свечина «Эволюция военного искусства»30
Борьба за географические пункты, с которой должна была начаться война, утрачивала все предпосылки проявления войсками упорства, начальниками – решимости; а без этих предпосылок победы каждое боевое столкновение обязательно являлось нашим поражением. Даже не слишком углубленный анализ политического состояния России позволял предусмотреть, что стратегическое напряжение России не будет непрерывно нарастать, что кульминационная его точка не слишком удалена, что первые же неудачи разлагающе подействуют на нашу государственность, минированную с разных сторон; революционное брожение должно было неминуемо скоро начаться и отразиться прежде всего на боеспособности посылаемых на Дальний Восток войск. Действительно, мы наблюдаем наибольшую боеспособность в гарнизоне Порт-Артура, который еще до начала процессов распада был отрезан от России. Затем очень боеспособными показали себя сибирские полки, мобилизованные в первую очередь и не связанные слишком тесно с настроениями русских европейских губерний. Чем позднее мобилизовались части, тем менее удовлетворительно настроенных запасных получали они31.
Война для России имела колониальный характер; воинская повинность вообще изобретена не для ведения колониальных войн; во всяком случае, резервные части по своей организации отнюдь не приспособлены к дальним экспедициям. Нужно было оставить резервные части в покое; нужно было обратить особое внимание на мобилизацию отправляемых на Дальний Восток; для этого следовало использовать только три-четыре младших возрастных класса запаса; надо было смело идти на то, что такой отбор лучшей части запаса ухудшит условия мобилизации против Тройственного союза. Корпуса следовало мобилизовать последовательно, за 3 месяца до посадки в вагоны; войска следовало предварительно заставить отбыть трехмесячный лагерный сбор; они должны были бы тщательно, в полном составе провести усиленный курс стрельбы и повысить свои тактические качества учениями и малыми маневрами в полном составе военного времени; следовало войска перед отправкой на Дальний Восток экзаменовать и отчислять негодный командный состав; последний прием употреблялся лишь генерал-инспектором артиллерии по отношению к командирам батарей, не умевшим стрелять, а таковые оказывались в изрядном числе. Лучше, конечно, было бы расходовать наши средства в организованном виде, чем мобилизовать негодную резервную часть и пополнять ее затем командирами, солдатами, материальной частью за счет разрушения лучших полков.
Нужно было готовиться к энергичному ведению военных действий с самого начала; конечно, надо было готовить сразу же и соответствующие укомплектования. От болезней и боев, не считая порт-артурского гарнизона, отрезанного от пополнений, армия понесла 230 тыс. потерь; для устройства тыловых учреждений и потребностей Приамурского военного округа требовалось 175 тыс., а всего нужда в пополнении достигала 405 тыс., или 22 тыс. человек в месяц войны. Возложение подготовки этих пополнений на 19 сибирских запасных батальонов, частично отвлеченных другими задачами, являлось насмешкой. Через 7 месяцев войны некомплект в армии оказался в 30 тыс., а через 9 месяцев некомплект возрос до 80 тыс. Только после ляоянского поражения военное ведомство сообразило добавить к существовавшим 19 запасным батальонам еще 123. Подготовленные ими укомплектования, исключительно запасные, двинулись в Манчжурию зимой 1904/05 г. Отбора запасных не производилось; на отдаленную войну призывались и сорокалетние крестьяне, физически ослабевшие, оставившие дома по шесть человек детей, отнюдь не воинственно настроенные и плохо подготовленные; 10 % их дезертировали в пути. Они прибыли до решительной операции под Мукденом и испортили состав армии: в начале войны кадровых солдат в Манчжурии было 70 %, а запасных – 30 %; к Мукдену отношение стало обратным – 28 % кадровых и 72 % запасных; и все же некомплект в армии оставался в 50 тыс.
Когда судьба войны была уже решена под Мукденом, мы приступили к борьбе за качество; в составе 210 тыс. посланных после Мукдена укомплектований запасных было только 17 %, срочнослужащих 27 % и 56 % представляли подготовленные в европейских полках молодые солдаты для манчжурских армий. Сколько бед от непредусмотрительности. Управлять без предвидения нельзя.
Из воспоминаний32российского государственного деятеля Сергея Витте33
На другой день после того, как я имел счастье быть у Государя, я был у Великого Князя Николая Николаевича. Великий Князь мне сказал, что он, со своей стороны, отказывается высказать какое бы то ни было мнение относительно того, следует ли окончить войну миром и какие условия могут быть приняты; что он, со своей стороны, ограничится только передачей мне того положения, в котором находится наша действующая армия в настоящее время, и затем уже он предоставляет мне вывести из этого те или иные заключения, причем он мне указал, в каком положении находится действующая армия, на что можно надеяться и на что можно рассчитывать, передав, что эти заключения не есть его личные мнения, а что они истекают из тех заключений, к которым пришло совещание из военных, бывших под его председательством.
Великий Князь мне довольно обстоятельно объяснил положение дела со свойственной ему определенностью речи, которая сводилась к следующему:
1. Наша армия не может более потерпеть такого крушения, какое она потерпела в Ляояне и Мукдене;
2. при благоприятных обстоятельствах с возможным усилением нашей армии имеется полная вероятность, что мы оттесним японцев до Квантунского полуострова и в пределы Кореи, т. е. за Ялу, что для этого вероятно потребуется около года времени, миллиарда рублей расхода и тысяч 200–250 раненых и убитых, и
3. что дальнейших успехов без флота мы иметь не можем;
4. что в это время Япония займет Сахалин и значительную часть (Вариант: некоторые части.) Приморской области.
Великий Князь выражал мнение, что во всяком случае невозможно соглашаться на отдачу Японии хотя пяди исконно-русской земли. Управляющий морским министерством Бирилев мне сказал, что вопрос с флотом покончен. Япония является хозяином вод Дальнего Востока. Что же касается мирных условий, то невозможно соглашаться на какие бы то ни было унизительные условия; что касается уступок территориальных, то, по его мнению, возможно уступить часть того, что мы сами в благоприятные времена награбили.
<…> Уже будучи в Париже, я почувствовал чувство патриотического угнетения и обиды. Ко мне, первому уполномоченному русского Самодержавного Государя, публика уже относилась не так, как она относилась прежде только как к русскому министру финансов, когда мне приходилось бывать в Париже, и даже не так, как она относилась прежде ко всякому русскому, занимающему более или менее известное общественное или государственное положение.
<…> Нравственно тяжело быть представителем нации, находящейся в несчастии, тяжело быть представителем великой военной державы России, так ужасно и так глупо разбитой!
И не Poccию разбили японцы, не русскую армию, а наши порядки, или правильнее, наше мальчишеское управление 140-миллионным населением в последние годы.
Это я написал графу Гейдену в письме для Его Величества, о котором сказано ранее. Конечно, меня ненавидели, такую правду Цари редко когда слышат, а Царь Николай совсем не привык слышать…
Глава 2
Демобилизация 1905 г
Из Портсмутского мирного договора34
Императорские Правительства Российское и Японское взаимно обязуются начать вывод своих военных сил из территории Маньчжурии одновременно и немедленно по введении в действие Мирного Договора; и в течение восемнадцати месяцев с того дня войска обеих Держав будут совершенно выведены из Маньчжурии, за исключением арендной территории Ляодунского полуострова.
Войска обеих Держав, занимающие фронтальные позиции, будут отведены первыми.
Высокие Договаривающиеся Стороны предоставляют себе право сохранить стражу для охраны своих железнодорожных линий в Маньчжурии. Количество этой стражи не будет превышать пятнадцати человек на километр; и, в пределах этого максимального количества, командующие русскими и японскими войсками установят, по обоюдному соглашению, число стражников, которые будут назначены в возможно меньшем количестве, согласно действительным потребностям.
Командующие русскими и японскими войсками в Маньчжурии условятся обо всех подробностях относительно выполнения эвакуации, согласно вышеуказанным началам, и примут, по обоюдному соглашению, меры, необходимые для осуществления эвакуации в возможно скорейший срок и во всяком случае не позднее как в течение восемнадцати месяцев35.
Из книги В. В. Вересаева36«На японской войне»
– Ура-а!! – повсюду гремело в напоенном солнцем воздухе.
По дороге ехали в фурманке два солдата-артиллериста, высоко поднимали развевавшийся по ветру полулист «Вестника» и кричали:
– Мир! Мир!
– Ура-а!! – неслось в ответ.
Солдаты бросали в воздух фуражки, обнимались, пожимали друг другу руки. Все жадно читали телеграмму Витте к царю:
Япония приняла Ваши требования относительно мирных условий, и таким образом мир будет восстановлен благодаря мудрым и твердым решениям Вашим…
И опять, и опять перечитывали. За телеграммою шла передовая статья редакции в обычном напыщенном фальшивом стиле:
Ближайшая вероятность заключения мира смутит в некоторой степени наших воинов, кои ожидали боев грядущих, дабы победою снять тяжесть бывших боевых неудач. Всем этим достойным воинам Русской Земли да будет ведомо, что в силу настойчивого их стремления к победе для России создалась возможность, как и до днесь, оставаться Великой державой на Дальнем Востоке.
И опять глаза перебегали к драгоценной телеграмме. Везде было ликование, слышался веселый смех, «ура». «Вестник» с телеграммою Витте рвали друг у друга из рук, в Маймакае платили за номер по полтиннику.
Рассказывают, когда в Харбине была получена телеграмма о мире, шел дождь. В одном ресторане офицер обратился к присутствовавшим, указывая на густо сыпавшиеся с неба капли:
– Господа, посмотрите! Вы думаете, это идет дождь? Нет, это не дождь идет, это льются слезы интендантов, генералов и штабных!
Закончилась великая борьба Христова воинства с «драконом». Ханжи-публицисты могли и теперь еще говорить о святом подвиге, взятом на себя Россией, – солдаты качество этого подвига оценивали совсем иначе. Они облегченно говорили:
– Буде по полям шататься, греха копить. А то, слава богу, сколько греха накоплено!
Ждали ратификации договора. Перемирия заключено не было. На передовых позициях все продолжались стычки, каждый день приходили вести об убитых. Для чего теперь эти ненужные жертвы? Офицеры в ответ посмеивались:
– Спешат все дополучить награды, которых не успели получить. Как только мир будет ратификован, – конец: командующие армиями теряют право собственною властью давать ордена… Вы бы посмотрели, что делается, – ни одного теперь генерала не застанешь дома, все торчат на передовых позициях.
Штабы осаждались офицерами, приезжавшими отовсюду хлопотать об утверждении наград.
Из книги37«Русско-японская война. 1904–1905 гг. Работа военно-исторической комиссии» Число подлежащих увольнению в запас
По сведениям, собранным к началу эвакуации, в рядах армий состояло запасных всех трех категорий 458 700 чел., в Приамурском военном округе 63 491 чел. и в тылу армий 51 499 чел., итого 573 690 чел.; срочно служащих 1900 и 1901 гг. – в армиях – 71 476 чел., в Приамурском военном округе 7415 чел. и в тылу армий 16 020 чел., итого 94 911 чел.; а всего подлежало увольнению в запас 668 601 чел.
Недостаток вагонов для перевозки демобилизованных
Полковник Захаров, командированный для восстановления движения во время первой забастовки, 5 ноября рапортовал главнокомандующему, что Сибирская железная дорога совершенно не подготовлена к массовой эвакуации: вместо 4000 теплушек, которые числились в распоряжении дороги по документам, фактически были доступны для ежедневных перевозок только 132 теплушки.
* * *
Во время войны недостаток вагонов не служил причиной понижения провозной способности железных дорог, связывавших армию с империей, вследствие того, что все силы и средства государства были направлены к достижению военных целей в ущерб прочим потребностям государственной жизни. После заключения мира естественно произошла переоценка важности и неотложности требований, при которой многие из требований военного ведомства, в том числе и быстрота эвакуации, должны были уступить место более насущным потребностям экономической жизни государства. Угроза экономического кризиса, вызванного постепенным угоном подвижного состава с Европейской сети и обостренного Бакинскими погромами и другими искусными ударами революционеров, заставила отказаться от ускорения эвакуации…
Перевозка морем
Главнокомандующий русской армией на Дальнем Востоке сообщал в Санкт-Петербург в Генеральный штаб и военное министерство, что ослабить напряжение, в котором находятся массы военнослужащих, возможно только «скорейшим отправлением в Россию запасных», для чего просил к ненадежным железнодорожным перевозкам добавить отправку демобилизованных морем на арендованных пароходах, в том числе везти русских пленных из Японии (более 72 000 человек) на судах прямо в Одессу.
* * *
Перевозки морем с Дальнего Востока в Европейскую Россию были значительно дороже железнодорожных, однако ради скорейшей отправки власти были готовы к серьезным расходам, потому что:
• опасались волнений среди демобилизованных;
• рассчитывали, что возвращение значительного числа рабочих и земледельцев к своим занятиям успокоит революционные настроения по всей стране;
• хотели снизить гигантские расходы и задолженности казны на содержание армии.
Беспорядки среди демобилизованных и запасных во Владивостоке
30 октября во Владивостоке совершенно неожиданно разразились беспорядки в громадных размерах, с участием нижних чинов. Около 12 ч. дня разнородная толпа, к которой присоединились матросы и нижние чины, главным образом запасные, которых во Владивостоке было до 30 тысяч, начала громить китайские лавки на базаре. Были высланы офицерские патрули, затем дежурные роты, но беспорядок разрастался с поразительной быстротой. В течение дня для подавления беспорядков было вызвано 12 батальонов 8-й строевой дивизии, и к вечеру был вызван еще один полк 10-й строевой дивизии, стоявшей на Русском острове. Но пока собирались эти части, разбросанные по отдаленным фортам, буйствовавшая толпа успела разбить винные магазины, перепилась, окончательно обезумела, принялась грабить магазины и поджигать дома. С наступлением темноты начались вооруженные столкновения с войсками. Значительная часть города пылала.
Волнения среди запасных в Сибири и в эшелонах
Весть о Владивостокском погроме и одновременных с ним волнениях в Кронштадте с быстротой молнии облетела всю Сибирь и Дальний Восток. В Иркутске, в Чите и в действующей армии запасные заволновались. Для деятельности революционных агитаторов открылось широкое поле и благодатная почва. Ближайший результат Владивостокского погрома – немедленное не в очередь увольнение на родину погромщиков – сбивало с толку даже трезвые головы. В Пограничной и в Мысовой вспыхнули беспорядки с человеческими жертвами. В Харбине циркулировали настойчивые слухи о готовящемся побоище. По улицам ходили разнузданные толпы запасных…
* * *
Вследствие вполне понятного желания всех скорее отделаться от слабодисциплинированных и даже бунтующих запасных, Харбинский сборный этап оказался совершенно неисчерпаемым; из Владивостока, Хабаровска и Никольска-Уссурийского38 тоже высылали наиболее беспокойных; прибывавшие из Японии пленные, еще более развращенные, чем запасные, без малейшего промедления, из опасения заразы, везлись на запад. Кроме того, особенно неудачные последствия для Харбина создал приказ главнокомандующего 20 ноября 1905 г. № 2564. Этим приказом было разрешено увольнять в запас всех запасных и признанных неспособными к службе, пожелавших остаться на постоянное или временное жительство на Дальнем Востоке, с предоставлением бесплатного проезда по железным дорогам от места расположения своей части до места, избранного для жительства по увольнении в запас… Уже к 1 декабря в Харбине скопилось более 6000 таких запасных. Прибыв в Харбин, в большинстве случаев с единственной целью раньше товарищей попасть на родину, без всякой работы и не стремясь найти ее, они продавали все, что у них было, голодали и являлись истинным бичом для населения… 20 декабря приказом № 2798 было разъяснено, что увольнение на временное жительство может быть производимо независимо от общей очереди увольнения запасных. С этого времени в Харбин ежедневно начало прибывать с юга 800–900 запасных, стремившихся одиночным порядком раньше очереди попасть в Россию. Пассажирские поезда переполнялись этим безнадзорным, пьяным и буйным людом, еще более опасным, чем эшелоны запасных.
* * *
Спасаясь от угрожавших погромов и вместе с тем стремясь расшатать в конец правительственную армию, революционеры энергично распространяли среди ожидавших эвакуации войск, что забастовочный комитет может предоставить для перевозки сколько угодно поездов и что единственная причина медленности эвакуации заключается в противодействии военного начальства. Тут же объяснялась и цель подобного рода действий властей. В России, по уверению агитаторов, шла кровавая расправа с народом, у которого власти хотели отобрать дарованные царем свободы. По деревням будто бы хозяйничали казаки, избивали мужиков, насиловали баб, жгли крестьянское добро. Начальство потому-де и задерживает запасных, чтобы дать время в России расправиться с народом.
* * *
Командующий войсками Сибирского военного округа генерал Н. Н. Сухотин: «Трудно описать, до чего буйно идет движение эшелонов запасных с востока, особенно на тех многочисленных мелких станциях и разъездах, где, за совершенным отсутствием войсковой и жандармской охраны… Несмотря на все убеждения, призванные из запаса явно переходили в бунт под влиянием пропагандистов и за совершенным отсутствием всякого доброго влияния офицеров и начальства».
* * *
Начальники эшелонов начали выдавать нижним чинам на руки порционные деньги… в размере 50 коп. в сутки. Этот кормовой оклад… давал возможность часть денег тратить на водку, тайная продажа которой процветала вдоль линии железной дороги во все время войны и эвакуации. Истратив выданные порционы, распущенный до невменяемости люд принимался за продажу мундирной одежды и теплых вещей…
* * *
Между тем в конце декабря к главнокомандующему со всех сторон стекались самые тревожные вести о брожении среди запасных, прорывавшемся в некоторых случаях открытым бунтом. Испытывать покорность людей, у которых страстное стремление на родину, при отсутствии всяких других стимулов, перешло в своего рода душевную болезнь, делавшую их положительно невменяемыми, представлялось далеко небезопасным. Ввиду этого главнокомандующий остановился на среднем решении: приказано было… включать в состав каждого эшелона роту срочнослужащих из частей, подлежащих возвращению в Европейскую Россию… На каждой остановке на станциях рота выставляла караульные посты. Ротный командир назначался в то же время комендантом поезда и был обязан поддерживать всеми мерами порядок среди запасных и не допускать каких-либо насилий, пьянства и продажи запасными одежды и вещей. Для поддержания внутреннего порядка эшелонам запасных была придана ротная организация.
Прекращение волнений среди демобилизованных и запасных
Подавление революции, прекращение почтово-телеграфной забастовки и восстановившийся постепенно порядок в железнодорожном движении имели ближайшим следствием успокоение среди запасных. Ко времени приезда (4 февраля) на Дальний Восток вновь назначенного командующего всеми сухопутными и морскими силами Дальнего Востока, генерала от инфантерии Гродекова, почти всё успокоилось, жизнь вошла в нормальную колею, и дальнейшая эвакуация прошла совершенно спокойно.
Из книги Викентия Вересаева «На японской войне»
Мир был ратификован. В середине октября войска пошли на север, на зимние стоянки. Наш корпус стал около станции Куанчендзы.
Когда же домой? Всех томил этот вопрос, все жадно рвались в Россию. Солдатам дело казалось очень простым: мир заключен, садись в вагоны и поезжай. Между тем день шел за днем, неделя за неделею. Сверху было полное молчание. Никто в армии не знал, когда его отправят домой. Распространился слух, что первым идет назад только что пришедший из России тринадцатый корпус… Почему он? Где же справедливость? Естественно было ждать, что назад повезут в той же очереди, в какой войска приходили сюда.
Наконец вышел приказ главнокомандующего, в нем устанавливалась очередь отправки корпусов. Очередь была самая фантастическая. Первым, действительно, уходил только что прибывший тринадцатый корпус, за ним следовали – девятый, несколько мелких частей и первый армейский корпус. На этом пока очередь заканчивалась. Когда пойдут другие корпуса, в какую, по крайней мере, очередь, – приказ не считал нужным сообщить.
Настроение солдат было негодующее и грозное.
А в России и Сибири все железные дороги уже стали. В Харбине выдавались билеты только до станции Маньчжурия. Вскоре прекратилось и телеграфное сообщение с Россией. Была в полном разгаре великая октябрьская забастовка. Слухи доходили смутные и неопределенные. Рассказывали, что во всех городах идет резня, что Петербург горит, что уже подписана конституция.
* * *
Армии стояли на зимних квартирах, изнывали в безделье. Шло непрерывное, жестокое пьянство. Солдаты на последние деньги покупали у китайцев местную сивуху – ханьшин. Продажа крепких напитков в районе стоянки армий была строго запрещена, китайцев арестовывали, но, конечно, ханьшину было сколько угодно.
Все томились одним неотвязным, жадно ждавшим ответа вопросом: когда же, наконец, домой? Но сверху было все то же равнодушное молчание. В солдатах кипело глухое, злобное раздражение, им хотелось сделать что-нибудь такое, чтобы заставить, наконец, поскорее везти их домой. Они грозили «забастовкой». Но какая забастовка могла быть там, где люди все равно ничего не делали?.. Она могла выразиться только в одном, – в избиении офицеров. И этим пахло в воздухе. А тут еще пошли слухи, что правительство боится везти домой возмущенную неудачами и непорядками армию, что решено всю ее оставить здесь. Солдаты зловеще посмеивались и говорили:
– Держат тут, боятся, – домой приедем, бунт устроим. Сколько ни держи, а домой, все одно, приедем, свое дело сделаем.
Линевич назначил смотр войскам нашей армии. Солдаты оживились, они считали дни до смотра. Все ждали, что Линевич объявит, когда домой. Смотр произошел. Линевич благодарил войска за «молодецкий вид» и сказал речь. Солдаты жадно, с горящими глазами, вслушивались, ловили неясные, шамкающие слова. Но перед взорами главнокомандующего были не живые массы измученных, истосковавшихся по родине людей, а официально-молодецкие полки «воинов, кои, ожидая боев грядущих» и т. д. И Линевич говорил, что не понимает, зачем батюшка-царь заключил мир; с такими молодцами он, Линевич, погнал бы японцев от Сыпингая, как зайцев…
После смотра Линевич дал, для распределения между наиболее отличившимися солдатами, по 800 Георгиев на каждый корпус. Шутники объясняли это пожалование тем, что Линевич не ждал мира, заказал двадцать тысяч Георгиев и теперь не знает, куда их девать.
– Восемьсот Георгиев за молодецкий вид! – острили офицеры. – Раньше Георгия давали за воинский подвиг, а теперь вот оно как: за молодецкий вид!
Настроение солдат становилось все грознее. Вспыхнул бунт во Владивостоке, матросы сожгли и разграбили город. Ждали бунта в Харбине. Здесь, на позициях, солдаты держались все более вызывающе, они задирали офицеров, намеренно шли на столкновения. В праздники, когда все были пьяны, чувствовалось, что довольно одной искры, – и пойдет всеобщая, бессмысленная резня. Ощущение было жуткое.
Наконец, и начальство увидело положение дел. Пока было тихо, оно не думало о справедливости, высокомерно игнорировало интересы подчиненных. Делалось то же, что и в России. Каждым шагом начальство внушало своим подвластным одно: если ты что-нибудь хочешь от нас получить, то требуй и борись, иначе ничего не дождешься. 10-го ноября вышел приказ главнокомандующего, отменявший прежнюю несправедливую очередь отправки корпусов.
Ранее император Николай II известил главнокомандующего российской армии о результатах мирных переговоров в Портсмуте и, в частности, рекомендовал главнокомандующему не нарушать боевой готовности армии. В своей телеграмме Николай указывал: «Политические события не всегда поддаются предвидению, а потому будьте готовы на все, не давая, однако, повода с нашей стороны к международным осложнениям. Намеченные и исполняемые для армии меры будут идти своим чередом. Не оставляйте войска праздными и неподвижными в местах, что порождает упадок духа и болезненность. Не ослабляйте военных мер, которые должны поддерживать знание обстановки; напротив, усильте их, ибо, желая отечеству мира, мы должны быть готовы ко всяким неожиданностям. Будьте во всеоружии…» (Русско-японская война. 1904–1905 гг. СПб., 1910. С. 404.).
В сентябре 1905 года командование русской армии готовилось к демобилизации в запас более 600 тысяч военнослужащих. Однако революционные волнения по всей стране, общая неразбериха, забастовки на транспорте и неготовность властей к решению столь масштабных задач создали значительные проблемы: волнения и недовольство в армии росли, и возник риск, что часть демобилизованных присоединится к восстаниям в городах Дальнего Востока, Сибири и Европейской части России.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+14
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе