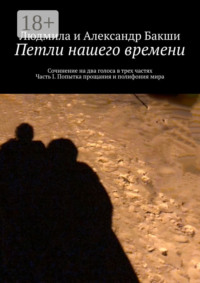Читать книгу: «Петли нашего времени. Сочинение на два голоса в трёх частях. Часть I. Попытка прощания и полифония мира», страница 2
Однажды Дмитрий Николаевич Журавлев торжественно пригласил нас на концерт Святослава Рихтера. Журавлев был знаменитым чтецом, дружил с Пастернаком, был знаком с Цветаевой и Ахматовой, входил в узкий круг друзей Рихтера. Дмитрий Николаевич прислал нам копию письма Пастернака к нему. Там были такие строчки: «Не надо безоглядно поклоняться музыке. Она является раз в столетие, когда Бах, Моцарт, Шопен, Вагнер и Чайковский обнародывают огромные откровения и на этом языке, на котором легче всего притворяться, или выводить голосом и выстукивать пальцами всякие маркированные безделушки, „bijoux“ и прочую ерунду. А в перерывах между такими событиями <…> музыка – самый распространенный вид отлынивания от каких бы то ни было ответов веку, небу и будущему»1.
К залу консерватории пришлось пробираться сквозь плотную толпу безбилетников. Попасть на концерт Рихтера в Москве было практически невозможно. Большую часть зала занимали очень известные люди и небольшая горстка фанатов, готовых не спать ночами, выстаивая очередь за абонементами. Мы оказались на почетных местах среди избранных. В тот вечер маэстро играл Квинтет Брамса с квартетом Бородина. Партия рояля – по большей части аккомпанемент. А весь мелодический материал у струнных. Но казалось, что квартет Бородина старался играть, что называется, под сурдинку, чтобы не заглушить именитого солиста. И Квинтет превратился в бессмысленный концерт для рояля и квартета, где аккомпанемент заглушал все остальное.
После финальных аккордов зал взорвался овацией. А восьмидесятилетний Дмитрий Николаевич вскочил с кресла, замахал руками и хорошо поставленным голосом, перекрывая овации, закричал: «Слава, я здесь!»
А. Б. И в этот момент я впервые осознал смысл ритуала концерта. Это обряд поклонения гению. Он же «помазанник Божий!», носитель «святого» искусства, которое требует жертв, как любой языческий божок. Люди приходят на концерт не музыку слушать, а приобщиться к этой великой «святости». Публике не важно, о чем спорят виолончель и скрипка и кого поддерживает альт. О чем вообще эта музыка – о любви и смерти? О ненависти и вожделении? Нет. Публика восторгается: какой звук!
Герой Достоевского утверждал, что красота спасет мир. Но эстетизм его точно погубит. Вот она, «чистая музыка»! Без смысла и содержания, но с прекрасным звуком.
Неужели профессиональная музыка Европы вышла из лона церкви только для того, чтобы служить языческому культу? Дело, конечно, не в Рихтере и случайной его неудаче – они бывают у всех великих. Рихтер тут вообще ни при чем.
Л. Б. В те годы тебе нужно было вступить в Союз композиторов. Иначе невозможно исполняться в концертах и стать профессионалом. Даже нотную бумагу продавали по членскому билету.
А.Б. «Если хочешь попасть в Союз композиторов, – сказал мне знающий и ответственный человек, – напиши оркестровое произведение. Скажем, „Праздничные фанфары“. Можешь не заморачиваться с поводом. Пиши проще».
Эта задача была для меня невыполнима. Я ненавидел оркестр.
Однажды, проходя мимо Гнесинского института, заметил парочку. Девушка со скрипкой в футляре за спиной, нежно прижимаясь к парню, спрашивает:
– Ну, как тебе концерт?
– Здорово. Очень понравилось, особенно второе отделение.
– А я как звучала?
– Тебя я не слышал.
– Как это не слышал? Я же сидела за третьим пультом!
Весь ее вид выражал сомнение, того ли человека она держит под руку.
Оркестр – сообщество людей без лиц. Стоит музыканту попасть туда, как он немедленно теряет индивидуальность. Никогда не буду писать для оркестра.
Странно. Симфоническую музыку я любил, а ее исполнителей ненавидел. Да и сейчас не переношу. Каждый раз, когда я вижу толпу музыкантов на сцене, мне мерещится какая-то советская демонстрация и голос диктора, вещающего про рабочих завода ЗИЛ и доблестную пехоту.
Советский декаданс был насквозь фальшивым и претенциозным до смешного. Мне хотелось противопоставить ему что-то радикально другое. В это время я почувствовал, что идея инструментального театра меня ограничивает. Почему там нет певцов? Потому что вокалисты поют слова, и это делает их главными персонажами на сцене. Но если не аккомпанировать певцам, если все события будут разыгрываться флейтой, тубой, скрипкой, балалайкой – ситуация изменится. Солист превратится в комментатора событий. А если мужские стихи споет певица?
Нужно найти другие связи слова и музыки. Завет Даргомыжского «Хочу, чтобы звук прямо выражал слово. Хочу правды!» пора забыть. Я тоже хочу правды. Сегодня звук не должен прямо выражать слово. Пришла пора театра для инструменталиста и певцов.
Пять лет сочинял спектакль на стихи Блока и раннего Маяковского «Я – поэт…». Больше всего времени заняла проработка сцен без слов. Одиннадцать инструменталистов, играя на сцене и за кулисами, должны были создать образ бескрайнего российского пространства. Готовясь к работе, перечитал полные собрания сочинений поэтов и всю исследовательскую литературу о них. Страсть к книгам мне передалась по наследству. Мама возила с собой в эвакуацию полное собрание сочинений Шекспира издания Брокгауза и Эфрона. Во время войны не еда и одежда, а Шекспир с ятями был для нее главной ценностью. Эти тома и сейчас стоят у нас на полке. Я был страстным читателем и покупателем книг. Литература была важнейшим источником музыкальных образов и драматургии. В каком-то научном талмуде нашел несколько строчек из дневников Любови Дмитриевны Блок. И один фрагмент был написан на ее текст.
Л. Б. В конце первой части спектакля мы оставались вдвоем на сцене: певица и пианист. Из-за кулис скрипка и виолончель играли тихую медленную фразу. Она монотонно через длинные паузы повторялась. Я пела в былинной манере: «Жили были муж и жена. Обоим жилось плохо. Наконец жена говорит мужу…» Здесь вступал рояль. И я в одном с ним ритме скандировала: «Не-вы-но-си-мо так жить!» И, ускоряя темп, доходя до истерики, почти кричала: «Ты сильнее меня! Если желаешь мне добра, ступай на улицу, найди веревочку, дерни за нее, чтобы перевернуть весь мир!» Пауза. И опять тихий напев виолончели и скрипки. А я вновь, как в начале: «Муж почувствовал, что нельзя прекословить жене. Он вышел на улицу и пригорюнился – не знает, где та веревочка. Вдруг видит…» Здесь музыка обрывалась, и я в полной тишине долго-долго рассматривала людей в зале. Разворачивалась и уходила. Вернее, мы уходили вдвоем.
Спектакль состоял из ряда эпизодов и звуковых картин. В кульминации «Кое-что по поводу дирижера» разыгрывалась сцена в ресторане, где на «зажравшуюся публику» обрушивались «горсти медных слез»: аллюзии и цитаты из музыки разных веков от Баха до Шостаковича наслаивались друг на друга и звучали очень агрессивно. Музыканты медленно выходили на авансцену, закрывая меня от публики. Я кричала из-за их спин: «Мечется в брюхе плач! Мечется в брюхе плач! Мечется в брюхе плач!»
А. Б. Я обращался к тем самым избранным, которые сидели в советских ресторанах, куда несчастный обыватель не ходил. Смысл высказывания был ясен, но протестовать против Маяковского и Блока номенклатурные начальники не могли.
Л. Б. Однако серьезные претензии предъявили. Поющий на сцене музыковед – безобразие. Музыковед должен писать статьи и диссертации. А петь должны певцы.
А. Б. В Союз композиторов меня все-таки приняли. И я получил удостоверение, подписанное Тихоном Хренниковым. Рекомендацию написал Николай Корндорф, самый талантливый и яркий автор нашего поколения. Больше вокальной музыки со словами я не писал.
Л. Б. Восьмидесятые. Революция, которая должна была снести советский декаданс, состоялась. В стране началась перестройка. Разрешили слушать, читать и смотреть абсолютно все. Воздух свободы опьянял. В стране произошел новый культурный взрыв. По телевизору о Шнитке говорили: «Великий гений современности». А в одном из многочисленных интервью Денисов саркастично заметил: «Среди нас гениев нет». Все это было невероятно.
А. Б. Для меня перестройка началась подарком судьбы – творческой командировкой в Прагу. Эта путевка предназначалась кому-то из секретарей Союза композиторов. Но внезапно власть сменилась, и предстоял съезд творческой организации, который решит, кто и как будет управлять процессом. А молодому автору на съезде делать нечего… Так я оказался в роли начальника и понял, почему они так держались за свои посты.
Большой, но уютный номер в первоклассной гостинице, где на завтрак подавали, кроме прочих деликатесов, знаменитые пражские торты. Четыреста рублей на личные расходы – месячный доход профессора консерватории. Но это были инвалютные рубли – они стоили дороже долларов. Все расходы на проживание на принимающей стороне. И, наконец, персональный гид.
Дама почтенного возраста встретила меня в аэропорту.
– Завтра днем у нас встреча в Союзе композиторов. Потом пообедаем и пойдем на концерт. План последующих десяти дней зависит от вас. Что бы вы хотели посмотреть в Праге? Музеи, театры, магазины…
– Все, что связано с Кафкой.
Мой ответ ее ошеломил.
– Вы интересуетесь Кафкой?
– Это мой самый любимый писатель.
– Я живу по соседству с домом его родителей.
О Кафке она знала все – дом, где он жил, улицы, по которым гулял, кафе, где встречался с друзьями, типографию, в которой печатались его рассказы… Цитировала наизусть письма к Максу Броду и Милене… За обедом расспрашивала меня о семье. Узнав, что фамилия моей бабушки Гурари, сказала: «Завтра мы идем на еврейское кладбище, где похоронен Кафка. Вам нужно принести два камушка».
– Где же я найду камушки в Праге? Они здесь на дороге не валяются.
– Я помогу.
Один камушек я положил на надгробие Кафки.
– Что делать со вторым?
Она подвела меня к могиле. На камне был выбит лев.
– Положите сюда. Это ваша родня.
Л. Б. Культурный бум в стране набирал силу. Фестивали современной музыки множились как грибы после дождя. Залы ломились от публики. Но споры о кризисе не прекращались. Музыка всегда была обобщением и метафорой реальной сценической драмы. В театре мы видим конкретных персонажей, а в музыке они предстают в виде интонаций и тем – лирических, драматических, трагических…
Концертные залы строились как театральная коробка, но без кулис, занавесей и возможностей установить декорации. Театру воображения они не нужны. Но со временем концерт превратился в ритуал, и восприятие музыки принципиально изменилось. Так, японская публика ходит на спектакли театра кабуки не за тем, чтобы узнать какую-то историю. Все они давно известны. А для того, чтобы насладиться мастерством исполнения ролей.
А. Б. Принцип, на котором строилась музыкальная драматургия, – контраст и конфликт перестал работать. Коля Корндорф мне посоветовал: «Забудь об этом. Что устарело, то устарело». В его музыке ни контраста, ни конфликта не было. Он овладевал вниманием слушателя и ни на секунду не отпускал. Но его сочинения – всегда монологи. А меня волновала разноголосица. Я верил в музыкальный театр, где без контрастов и конфликтов не обойтись.
Найти музыкантов, готовых долго репетировать спектакль, было невозможно. Они бегали с концерта на концерт. И я решил сочинить пьесу «Осенняя соната» для нас двоих – пианиста и певицы. Меня вдохновил одноименный фильм Бергмана о мужчине и женщине. Но в нашей пьесе конфликт гораздо острее.
Сочинения для вокала без слов всегда демонстрировали возможности прекрасного пения. Классикой стали концерты для голоса с оркестром Вилла-Лобоса и Глиэра. Оркестр аккомпанировал солистам. Но принцип бельканто в конце ХХ века казался абсолютно устаревшим, как эстетика Голливуда пятидесятых годов. Героиня после похищений разбойниками, ночлегов в пещере и буйных скачек на лошадях остается причесанной, в безупречно отглаженном наряде и со свежим макияжем на лице.
В нашем случае на сцену выходит не аккомпаниатор, а герой – солист-виртуоз.
Я вполне сносно играл на рояле, но до виртуоза мне было далеко, как до луны. Я надеялся не стать им, а лишь сыграть эту роль.
Музыка звучала в голове, но я не спешил ее записывать с начала до конца.
Л. Б. Мы репетировали фразу за фразой. Мы обменивались интонациями, как репликами. И я наживала состояния, при которых требовался то крик, то шепот, то плач навзрыд. И вдруг выяснилось, что я выхожу далеко за рамки возможностей лирического сопрано. Открылись какие-то неведомые ресурсы вокальной выразительности. Огромную роль играли паузы. Это не перерыв в звучании, а возможность нажить эмоцию для следующей реплики. Тишина, ничем не наполненная, убивает театр наповал. Слушателю передается не только эмоциональный напор звука, но и это беззвучное напряжение.
Мы решили показать Сонату на секции камерной музыки. Руководили ею люди преклонного возраста. Друзья отговаривали: там никто не примет современную музыку. Не стоит наносить себе лишние травмы. Лучше покажите на молодежной секции, где все свои. Но азарт и самоуверенность победили.
На заседании было много известных лиц. И один из них – полифонист Иосиф Яковлевич Пустыльник, по чьим учебникам мы учились. Петь в такой академической среде неуютно. После исполнения Пустыльник неожиданно улыбнулся и сказал: «Я был убежден, что никогда больше не услышу настоящей вокальной музыки. Ее давно не пишут. Сегодня наконец услышал».
Эта поддержка вдохновила нас на поход в Министерство культуры. Денег тогда совсем не было, и мы рассчитывали, что за Сонату нам что-нибудь заплатят. Держи карман шире!
А. Б. В комиссии министерства сидели не только чиновники, но и мои коллеги-традиционалисты.
Л. Б. На следующий день я пришла узнать результаты, и министерская дама сказала: «Мы не можем купить эту музыку. Ее, кроме вас, никто не споет». Они позвонили в Союз композиторов и настоятельно рекомендовали снять Сонату из программы концерта в зале консерватории2. Мы играли ее в менее престижных залах.
А. Б. Больше в министерство никогда не обращался.
После премьеры пьесы «23/6» для ансамбля Марка Пекарского в Малом зале консерватории я понял, что пора расставаться с концертной сценой.
Помимо обычных инструментов, в сочинении использовались пилы, молотки и прочее в том же роде. Фестивальная публика довольно долго аплодировала и даже что-то одобрительно покрикивала. Успех!
На концерте впереди меня сидел Андрей Эшпай и что-то возмущенно шептал соседу. На следующий день в «Московской правде» вышла разгромная статья, в которой автор писал, что в Малом зале, прославленном великой традицией, на сцене пилят грязные дрова. Я, конечно, обиделся и всем знакомым жаловался на дремучий консерватизм несчастной газетенки. Мне сочувствовали. Успокоившись, понял, что автор заметки прав – нельзя распиливать палки в Малом зале Московской консерватории. Даже если они стерильно чистые. Ритуал есть ритуал, и нарушать его никому не позволено.
В этом контексте любая театрализация выглядит как пародия на классику. Нужно искать другое пространство. «Нужны новые формы», как говаривал Константин Треплев из чеховской «Чайки».
Кульминацией восьмидесятых стал приезд в Москву знаменитых авангардистов, которых мы знали только по записям: Булез, Ксенакис, Пендерецкий…
Мог ли я представить себе, что буду пожимать руку Маурисио Кагелю – одному из создателей инструментального театра?
На спектаклях Штокхаузена мы сидели около пульта, с которого он сам вел представление, регулируя звук и свет. В зале не протолкнуться от желающих увидеть воочию маэстро и его музыкальный театр.
Но последний спектакль я высидел с трудом и вышел из зала с тяжелым чувством, в котором сам себе боялся признаться. И тут знакомая дама-театровед сказала: «Редкий образец спектакля шестидесятых годов».
Так вот в чем дело! Этот театр устарел. Разочаровался не только я.
Л. Б. Массовый интерес к искусству быстро иссяк. Вещество советской музыки истончалось. К концу десятилетия от нее остались одни воспоминания. Концертные залы опустели. Публика растаяла в неведомых далях. Непонятно, почему вдруг исчез ажиотаж вокруг «музыки для избранных». Еще недавно милиция с трудом сдерживала натиск страждущих попасть на концерты. И вдруг пустота… Из страны уехали почти все музыканты. В их числе друзья-композиторы: Николай Корндорф, Леонид Грабовский, Александр Раскатов. И самые яркие звезды старшего поколения: Арво Пярт, Альфред Шнитке, Гия Канчели, София Губайдулина, Родион Щедрин…
Я специализировалась на современном творчестве, и для меня эта ситуация была катастрофой. С тоской перебирала сохранившиеся дома раритеты ушедшей эпохи. Вот рукопись романса Шнитке. Я пела его в концертах Пекарского. А это партитура «Ночь в Мемфисе» Губайдулиной. Она отдала ее мне перед отъездом. Я собиралась писать статью… Не успела. А вот ноты Леонида Грабовского. Он хотел, чтобы я спела это сочинение в концерте. Но не состоялось. А это партитура Денисова с дарственной надписью.
Однажды мы пришли на его концерт загодя, чтобы не мучиться в давке. Но оказалось, что концерт под угрозой срыва. Исполнитель партии колоколов заболел. Ты вызвался его заменить. Времени на репетицию было очень мало, но ты справился. После концерта Денисов подарил партитуру, надписав: «У Вас большое будущее на колоколах».
Я начала писать статью о конце советской музыки. Название придумалось раньше, чем текст: «Попытка прощания».
Летом 91-го года столкнулась на улице со знакомым редактором журнала «Советская музыка». «Как дела? – спросила она. – Хочешь заведовать у нас отделом „Творчество“?» Что за вопрос! Куда же еще стремиться музыковеду? Это единственный профессиональный журнал в стране. Желающих печататься не счесть, а уж работать…
Мечты сбываются, но уж очень не вовремя. Ирония судьбы. Казалось, музыкальная душа страны отлетела. А страна продолжала жить по инерции: политическими страстями, выборами, митингами.
В конце августа я наконец закончила свою «Попытку прощания» и принесла ее в редакцию. По Москве ездили танки. В эти дни распался Советский Союз. Реакция на мой опус оказалась странной. Пристально глядя мне в глаза, зам. главреда спросила: «Вы – чья? Вы – откуда?» Материал явно сочинялся не один месяц. Значит, о конце советской музыки автор писала задолго до распада страны. Небось и путч пережила бестрепетно, заранее зная, чем все это кончится?! От кого?
Журнал переименовали в «Музыкальную академию». Статью очень быстро напечатали. Но через год из редакции мне пришлось уйти.
Конечно, я всегда понимала, что музыка и реальная жизнь с ее политикой и экономикой связаны тесными узами. Искусство транслирует идеалы, которые объединяют людей в сообщества и государства. Но что эта связь такая прямая и может так непосредственно проявиться в истории, в голову никогда не приходило. Я почувствовала себя пророком.
Голодные и холодные девяностые годы в новой стране – Российской Федерации – стали самыми плодотворными в жизни.
Глава 3. Театр Звука
А. Б. Приятель-режиссер Сергей Стародубцев предложил написать музыку к фильму о Вадиме Сидуре. Материал завораживал, и я попросил показать нам мастерскую.
Л. Б. Вадим Сидур (1924—1986) был знаковой фигурой для поколения шестидесятников, живое воплощение мифа о художнике, творящем в подвале шедевры. Здесь можно было встретить Луиджи Ноно, Льва Копелева, Генриха Белля, Владимира Войновича… Скульптор, выставки которого устраивались в Германии, Австралии, Америке, никуда не выезжал и в СССР не выставлялся. Всем казалось, что он так и живет в этом подземелье, в котором уже в семидесятые годы трудно было передвигаться из-за обилия скульптур и картин.
Мы попали в подвал Сидура через несколько лет после его смерти. Посмотрели скульптуры: работы из бронзы и камня, ржавых водопроводных труб, поломанных детских игрушек и прочего городского мусора. По стенам развешаны картины. Все оставалось как при жизни автора. У нас было ощущение, что Сидур где-то здесь – просто вышел на мгновение.
А. Б. Для премьеры фильма «Автопортрет в гробу, в кандалах и с саксофоном» в Доме кино я написал пьесу «Скульптура из звука» для ансамбля ударных и голоса на стихотворение Сидура «Ио, Леда, Даная».
Ио
Леда
Даная
Вас отвергаю…
Зевсу в гарем возвращаю
Всех вас заменит Венера в Подвале
Создам богиню своими руками
………………..
Стихотворение заканчивалось так:
Сотворю себе Еву
Карабкающуюся на древо
Текст Пекарский скандировал в микрофон, играя на рототомах в сопровождении ансамбля. Солировал на водосточных и водопроводных трубах, тормозных колодках, листах металла. Разбрасывал гвозди, швырял на сцену молоток, имитируя работу скульптора. Кульминация резко обрывалась. И после небольшой паузы откуда-то из-за кулис раздавался высокий женский голос – робкое глиссандирующее соло.
Л. Б. Запись из дневника
Возбужденные после премьеры, дома ночью вслух перечитываем текст из каталога Сидура: «Двадцать один год назад я впервые спустился вниз по семнадцати ступенькам и очутился в своем Подвале. Если бы я не говорил эти слова, а писал, то обязательно написал бы Подвал с большой буквы, такое значение приобрело в моей жизни это Подземелье».
– Знаешь, – сказала я неожиданно, – это начало спектакля.
Рано утром звонок Пекарского:
– С Сидуром нужно продолжать. Я, конечно, не знаю как. По-моему, нужно делать спектакль.
А.Б. «Ио, Леда, Даная» стала первой сценой «Маленькой мистерии». Она задавала условия игры: визуальные образы переводились в звуковые. Больше текстов не было. Зато была скульптура – знаменитый автопортрет художника «Раненый» – бюст с наглухо перебинтованной головой, похожей на футбольный мяч. Так выглядел Вадим Сидур во время войны после ранения в голову. В конце мистерии скульптура оживала.
Л. Б. В составе ансамбля ударных был монтировщик Славочка, который иногда выходил на сцену, чтобы раз-другой стукнуть по барабану. Это был человек очень маленького роста, широкоплечий, с крупной головой. Роль Раненого он исполнял самоотверженно. За полчаса до начала спектакля надевал застиранное больничное белье скульптора. Вдова Сидура Юлия подарила нам его для спектакля. Славочке наглухо забинтовывали голову. Он садился в большой деревянный ящик на сцене и сидел неподвижно до конца.
Ремарка из партитуры
«Действие происходит в бывшей мастерской скульптора. На сцене валяются водосточные трубы, тормозные колодки, куски жести, старое ведро. Из деревянного ящика выглядывает неподвижный белый шар перебинтованной головы. В видимом беспорядке расставлены музыкальные инструменты и кофры. Полумрак. Издалека слышен звук спускаемой воды в унитазе. Капли. Тесной группой с улицы входят музыканты. Осматриваются…»
А. Б. По ходу спектакля музыканты превращались в ожившие скульптуры.
Один со звякающим мешком в руках механично выкрикивал: «Ха-эс!» Другой ожесточенно растягивал меха трофейного немецкого аккордеона, как бы пытаясь запеть, но петь не мог – изо рта торчала свистулька-паровоз, в которую он дул. Третий переступал ногами, встряхивал громадным коровьим колоколом и резко выкрикивал: «Хальд-Вальд!»
В финальной сцене Марк делал куклы из музыкальных инструментов. С их помощью разыгрывалась история Адама и Евы, где роль змея исполняла пружинка.
Л. Б. Вот как эту сцену описала Юлия Сидур в своей повести «Пастораль на грязной воде». В ней реальные люди действуют под вымышленными именами: Соломой – Вадим Сидур, Соломония – Юлия Сидур, Пекарь – Пекарский, Башкат – Александр Бакши, Башката – я.
«На деревянном возвышении Пекарь и Башката затеяли любовную игру. Они перебирали звучащие как кристаллики украшения. Медные ступочки в руках Пекаря издавали хитрые зазывные мелодии. Он что-то хрустально пересыпал из одной склянки в другую. Стеклянные бусики божественно позвякивали. Он вращал змееобразную музыкальную пружину, многоцветно сверкающую под разнообразным освещением. Башката с готовностью откликалась на его призывы то гортанной мелодией, перемежающейся небесными переливами, то легкомысленным щебетанием и тяжкими вздохами. Оба начинали переплетаться руками. Черная рука Пекаря и золотая Башкаты сцеплялись, расцеплялись и запутывались одна в другой. Все это Башката сопровождала похотливыми повизгиваниями. Наконец, в немыслимую голосовую высоту взвился совместный мужской и женский вопль. Послышалось усталое ворчание старой собаки и удовлетворенные женские всхлипывания»3.
А. Б. Кульминацию обрывал возглас трубы и мощный удар большого барабана. Один из музыкантов нес к столу, как гроб, крышку от колокольчиков, укладывал в нее кукол и зажигал свечу. Эротические стоны превращались в плач, и траурная процессия под рев трубы, бой барабанов, завывание органа уходила в темноту.
В наступившей тишине белый шар над ящиком шевелился, скульптура оживала, и человек без лица, прихрамывая, подходил к инструментам Марка, притрагивался к ним, и пространство отвечало скрипом ржавых качелей, обрывком вальса, женским смехом… Раненый покидал сцену. Затемнение.

«Сидур-мистерия». Марк Пекарский, Людмила Бакши
Л. Б. В повести Юлии Сидур сцена «Адам и Ева» описывается как озвучка порнофильма. Она, конечно, выглядит рискованно с точки зрения академической традиции. Но грани приличий мы не перешли.
А. Б. Маленькая мистерия под названием «Никто не воскреснет» была показана в июне 1992 года в зале «Ленкома» на Мейерхольдовском фестивале. Там ее увидел Валерий Фокин и предложил поставить спектакль. Сам факт интереса крупного режиссера означал, что Театр Звука может стать настоящим театром. Только «Маленькая мистерия» была слишком коротка для театрального представления. Валерий посоветовал ее досочинить.
И тут в действие вступили какие-то иррациональные силы. Неведомо откуда появился скульптор Вадим Морозов, который придумал скульптуру с необычайными музыкальными возможностями, и мы заказали ему инструмент с заданными параметрами.
Л. Б. Второй акт в спектакле выглядел так: под рокот барабана, повизгивание флейт, рев трубы музыканты выкатывали на сцену огромную конструкцию. Несколько изогнутых листов металла, один за другим на тонких струнах прикрепленные к четырехметровой раме, свободно парили и вибрировали в воздухе и под цветными фонарями напоминали китайскую пагоду. Музыканты притрагивались смычками к струнам, и конструкция отвечала виолончельным пением, контрабасовым рыком, скрипичным пассажем. На голос певицы она отзывалась мощным эхом. Инструмент выдавал все новые и новые звучания и в конце концов достигал мощного оркестрового tutti. Начинался пляс вокруг скульптуры, переходящий в шаманскую оргию, и все дальнейшее действо перерастало в ритуал поклонения. Занятная груда металла становилась тотемом, а музыканты – его жрецами с шаманом во главе. Ритуал поклонения оканчивался бескровным жертвоприношением. Певицу привязывали к скульптуре. И в знак того, что жертва принята, конструкция сотворяла чудо. Герои мистерии касались деревянными молоточками латунных трубок, и скульптура отвечала прозрачным хором почти женских голосов. Откуда-то сверху спускался сидуровский Раненый, прихрамывая, подходил к своему ящику и со стоном бессильно валился наземь. Последний аккорд долго затухал. Музыканты застывали в неудобных неестественных позах. Цветной свет сменялся белым, и загадочная пагода конструкции превращалась в нагромождение облупившегося и ржавого металла. Слышны были капли. И зритель вновь оказывался в звуковом пространстве подвала, с которого начинался первый акт. Круг замыкался. Спасительная «вечность» искусства оказывалась иллюзией.
А. Б. Мистерия была данью любви Вадиму Сидуру и всему этому поколению. И одновременно прощанием с их идеалами. Здесь утверждалась идея искусства как радостной коллективной игры, которая не претендует на вечное существование. Искусство живет не дольше, чем длится спектакль. И каждый раз нужны новые усилия, чтобы оно возродилось.
Работа над мистерией с Валерием Фокиным началась с выбора зала. Для него это было принципиально важно. После долгих поисков он нашел наконец подходящее помещение бывшего Еврейского театра на Таганке.
Валерий пригласил известного архитектора и художника Александра Великанова, который превратил унылый, как сарай, зал с высоким черным потолком в разноуровневое асимметричное пространство с уходящими ввысь лестницами. Великанов придумал образ заброшенной мастерской, где с потолка свисал поломанный стул, на котором стояла сковородка с недоеденной яичницей. По полу разбросаны ведра, мусор, обрывки газет и бумаг. На помосте рядом с ящиком Раненого стоял холст в подрамнике. Во время сцены «Диалог с пространством» холст оживал: на нем проявлялись рисунки. Великанов придумал фокус, как рисовать на холсте с обратной стороны, оставаясь невидимым для публики. Художник приходил на каждый спектакль.


Л. Б. Режиссерские мизансцены изменили мистерию. Валерий поместил меня на узкий балкончик под потолком над сценой. Я сидела там в темноте для того, чтобы в конце «Ио, Леда, Даная» ожить и спеть свои несколько фраз. А перед сценой «Адам и Ева» долго спускалась по крутой пятиметровой лестнице в темноте и пела.
А. Б. Эта работа заставила пересмотреть взгляды на Театр Звука. Моя уверенность, что зрелищный ряд принципиально не нужен, испарилась.
Л. Б. Спектакль шел целый сезон. У нас появилась доброжелательная и недоброжелательная публика, и зал всегда был полным. А студенты театральной школы Анатолия Васильева поставили своеобразный рекорд, пропустив только одно представление.
Последний раз в сезоне мы играли его в июне в Париже на IX Международном театральном фестивале.
Запись из дневника. 11—12 июня 1993 года
Арена Монмартра. Амфитеатр на склоне знаменитой горы. Дождь. Порывистый ветер. Холод. Зал без стен. «Подвальные» декорации, которые устанавливали всю ночь, сносит ветром. Невозмутимые французские осветители, как юнги на корабле, на гигантской высоте устанавливают фонари. Неужели они верят, что все состоится? На этот вопрос нашей переводчицы они спокойно отвечают, что в этом театре отмен не бывает. Играть никто еще не отказывался. Пекарский и Фокин совещаются. В диалоге мелькает слово «форс-мажор». Это означает, что по независящим от нас обстоятельствам представление невозможно. Но приходят зрители, и мы вдруг решаем играть. Режиссер предлагает убрать все декорации. Спектакль наш будет не о подвале, а о мансарде. По крыше льет дождь. Париж как на ладони. Другая атмосфера. Не закрытого пространства, а буквально открытого всем ветрам. Пекарский в плаще дирижирует. Я в золотом парчовом платье пою под зонтом. И несколько сотен человек в зале приветствуют рождение скульптуры из звука.
«Сидур-мистерия» стала первым полноценным спектаклем нового музыкального театра4. Хайнер Геббельс, с которым мы познакомились в 2001 году, выпустил свою знаменитую работу «Черным по белому» в 1996 году.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+41
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе