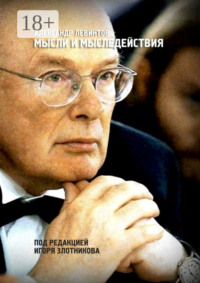Читать книгу: «Мысли и мыследействия. Под редакцией Игоря Злотникова», страница 4
Поиски смыслов как интеллектуальное освоение мира
Ничто, никакие потрясения и катастрофы, так прочно и уверено не возвращают нас в животный и даже растительный мир, ничто не наводит большего уныния и скуки бытия, как потеря смыслов этого бытия. И уже ничто не отвратит от краха и исчезновения страну, если потеря смысла жизни поражает всё общество, от властных слоёв до властимых, делает его угрюмым стадом, то покорным и травоядным, то вдруг хищным и бунтующим – что мы и наблюдаем сегодня в России.
Нас раздражает бессмысленность принимаемых законов и бессмысленность их применения и исполнения, бессмысленность бесконечного наращивания богатства одних и бессмысленное же скатывание в нищету остальных и многих. «С какого глуза? – спрашиваем мы себя, – мы лезем с советами и угрозами к своим ближним и дальним соседям? Пичкаем своё опасное от несовершенства изготовления оружие всяким придуркам и отморозкам? Чего мы лезем, куда нас не ждали и где нам не рады? Чью волю исполняет исполнительная власть и зачем она порхает со стерхами и опускается на полметра в глубины морские, чтобы достать оттуда только что положенные туда амфоры? Что за бадминтон такой, из-за которого два недоумка гоняют по полю на комбайнах, а третьего заставляет сочинять результаты выборов?»
Если Бог хочет обидеть, то он прежде отнимает разум, если того же хочет дьявол – то отнимает смысл и тем вселяет в нас тяжкий грех уныния.
Мы страдаем по мере потери нами смыслов – но какой восторг вызывают порождения смысла! Не меньший, чем удачное стихотворение, сложившаяся мелодия, точный рисунок или верно найденное слово.
Что же такое смысл? Почему нам так важен и нужен этот эфемер нашего сознания?
Смысл – это сгусток мышления, прежде всего. Если мысль – единица мышления, ухваченная и приватизированная нами частица той или иной независимо от нас существующей идеи, то смысл теряет свою привязку к индивидууму и начинает распространяться по человеческому материалу подобно вирусной болезни. Не идеи движут массами и народами – смыслы. Они становятся ориентирами движения и поведения, трансформируются в цели, намерения, мотивы. И поэтому обессмысливание – операция антигуманная, нечеловеческая, продиктованная злом.
Мы осмысляем – и тем делаем существующим. Каким образом, какими средствами мы находим и порождаем смыслы?
Когда кончаются слова, начинается поэзия, начинается порождение смысла. И мы прозреваем. Любоваться ничем нельзя, если не понимаешь смысла наблюдаемого или переживаемого. И любить бессмысленно невозможно.
Понимание как интеллектуальное усилие может носить пассивный и активный характер. Пассивно мы восстанавливаем смыслы, заложенные автором или Творцом, активно – мы создаем свои смыслы и тем вдыхаем жизнь в то, что было до сих пор для нас бессмысленно. Другое дело, что эти, порожденные нами смыслы, могут оказаться уродливыми настолько, что в мы в стыде и ужасе отказываемся от них и отворачиваемся.
Мы порождаем смыслы словами, но слова сами обладают смыслами, порожденными не нами, а давным-давно, ещё допрежь этого мира, поскольку «В начале было слово». В сути начала – слово. И смыслы эти потаённы от нас, поэтому тот, кому мы передаём смысл, порождает свой, отличный от нашего:
– в чём смысл цветных революций? – спрашивает меня мальчик в бабочке.
– в ошибках и преступлениях власти
– но я сам хочу делать цветные революции, я хочу совершить белую революцию
– тогда подумай о смысле своей революции и смысле будущего, которое ты хочешь создать, ведь ты не хочешь вернуть безвозвратно потерянное прошлое?
– конечно, не хочу
– а кто ты?
– пока никто, актёр.
Этот мальчик – из элиты, которая, единственная, задаёт новые смыслы, потому что в этом её предназначение.
Понимание держится на понятиях – но, наверно, не только на этом, а ещё на интуитивном проникновении в суть и смысл вещей. Мы никогда не можем точно описать и определить, как и когда мы поняли смысл – он нам даётся, если мы прикладываем к этому усилия.
Есть много разных способов проникновения в реальность, в мир вещей, в вещающий нам мир. Мы умеем делать это эстетически, чувственно, эмоционально, Отчего же мы так ценим интеллектуальное проникновение и освоение смысла? – от того, что это наше, личное, индивидуальное усилие, это наше, собственное сопротивление бессмысленности.
И именно поэтому нам так властно кричат сверху:
– бессмысленно искать смысл! Стой у корыта и жри, скотина!
Октябрь 2013
Понимание как свобода
Она послаще
любви, привязанности, веры
(креста, овала),
поскольку и до нашей эры
существовала.
И. Бродский «Пьяцца Матеи»
Свободу, эту высшую человеческую ценность, поскольку многие славные отдавали за неё жизнь, можно только понимать: знать осознавать, чувствовать её нам не дано.
Чувства
Понимание раскрепощает и освобождает эмоции, неважно, какие – горестные, печальные, грустные, радостные, весёлые. В отличие от мышления, индифферентного к эмоциям и даже чуждого им (поскольку они мешают мыслить и быть логичным), понимание выступает в качестве некоего проводника между эмоциями и мышлением. Именно поэтому понимание более присуще женщинам, чем мужчинам. Его, понимание, часто путают с интуицией, которая всё-таки есть свёрнутое мышление, мышление в латентных формах, когда логические построения отбрасываются как тривиальные, а потому решение кажется неожиданным и немотивированным даже для субъекта решения.
Понимание порождает эмоции как внешние проявления чувств, делающие наши чувства доступными для других, которые благодаря этому начинают нас понимать: так возникает невербальная коммуникация, которая гораздо богаче слов. Более того, понимание вводит нас в мир внутренних, интимных чувств и переживаний, позволяет нам прорваться к сантиментам, сентиментальной сфере, куда стыдливо не допускается никто, где одиноко и свободно, где мы подлинно наедине с самими собой, и никто не смеет подглядывать за нами. И других средств этого прорыва в сантиментальную жизнь, в одиночество, уединение, помимо понимания, кажется, нет. Понимание, следовательно, порождает всю гамму и полноту чувств, не их палитру, но глубину.
И это – не единственный аспект.
Культура
Когда мы говорим, что собака нас понимает, но не говорит, мы не лукавим и не обманываемся – как и мы, собака понимает нас из культуры, но только своей, собачьей, более нормированной, чем наша, но обладающей той же природой, что и наша культура.
Но, в отличие от собак, в понимании мы перестаём быть рабами культуры (Ницше) – мы с пониманием освобождаемся от культуры, поскольку мы пытаемся понять больше того, что знаем. В понимании мы способны не только достичь самих крайних пределов культуры, но и преодолеть их в своих интерпретациях. На этом, собственно, и строится свобода музыканта-исполнителя от музыканта-композитора, свобода театра и кино от литературной основы спектакля и фильма. На этом основаны толкования Священного писания.
Знания
Знания умирают во время их родов.
Но в своей смерти они открывают живое незнание, необозримое пространство незнаемого, куда мы проникаем творчески или пониманием. Творческая свобода и свобода понимания настолько сродни друг другу, что вслед до Коллингвудом можно сказать: текст возникает не у автора, а у того, кто читает этот текст (подтекстом Коллингвуд понимал и музыку, и живопись, и собственно текст, и вообще всё сочинённое).
Мы в жестокой зависимости от мёртвых знаний, да. Масса знаний фундаментальней и основательней, полней любого понимания, да. Но понимание, в силу своей эфемерности, зыбкости, трепетной сиюминутности и, главное, бесконечности, дарит нам надежду на освобождение от гнёта знаний.
В иудаистской традиции есть фиксация интерпретаций каждого слова Торы. По поводу этой интерпретации пишется и тем фиксируется следующая и т. д. каждое священное слово обрастает по кругу (периметру) всё новыми и новыми интерпретациями – и этот шлейф накапливается с веками и тысячелетиями и никогда не может быть закончен, не может омертветь, он открыт и свободен для новых толкований.
Воля
Свобода носит всеобщий, безличностный характер. Она, вообще, кажется, возникла до человека и лежит в основании мироздания – по крайней мере, в это хочется верить.
Воля – это редукция идеи свободы до индивидуальности. В этом смысле воля может быть даже противопоставлена свободе (Бердяев).
«Мир есть воля и представление» – утверждал крайний индивидуалист Шопенгауэр. Но мир есть также воля и понимание. Мы вольны в понимании мира и потому владеем им: в силу своей воли и своего понимания. В конце концов, мир таков, каким мы его понимаем и потому каждый живёт в своём мире, свободный от всех других миров, существовавших, существующих и будущих существовать. Мир каждого из нас – свободный мир, будучи нашей волей и нашим пониманием его.
Причинность
Вот ещё одна пута рабства – причинность, детерминированность всего окружающего. Пророк этой несвободы, Аристотель, именно этим и скучен.
Спонтанность, в том числе спонтанность нашего понимания (ага-эффект понимания) освобождает нас от причинности и объяснимости всего и вся причинами и следствиями. Это является также деятельностным основанием: понимание позволяет нам формировать цели и видеть мир телеологически. Мы действуем (=ставим цели и реализуем их) в силу и меру своего понимания. И это делает нас также свободными от унылой причинности действий муравьёв, пчёл, саранчи и других стайных насекомых.
Вера
Вера несовместима с пониманием и свободой: «неисповедимы пути Господни», а, следовательно, и непонятны. Не зря те, кто верит, называется себя рабами Божьими, и стремятся к этому рабству как блаженству. Их кредо – «верую ибо абсурдно» (Тертуллиан). Но тут следует, на наш взгляд, различать верящего и верующего. Верящий, то есть уверовавший бесповоротно, в понимании не нуждается, а потому любые толкования отвергает, кроме канонических. Верующий ещё идёт (бредёт) к своей вере, ему ещё доступны сомнения, борения, непонимание и понимание, он ещё не в Боге и свободен в этой своей покинутости Богом. И в этом своём искании Бога он должен придерживаться завета «И помни весь путь, которым вёл тебя Господь, Бог твой» (Вт., 8:2), потому что это путь рабства и утери свободы.
Ноябрь 2015
II. О Мышлении и Деятельности
Мышление: логика и онтология
Большинство людей уверено, что мышление – функция мозга и располагается именно там, несмотря на очевидность трепанаций и вскрытий, ни разу не обнаруживших там ни одной мысли или даже ее обрывка или обмылка.
Мозг наш, по сравнению с любым пентиумом, вещь глупенькая и примитивная. То, что компьютер порожден нами, вовсе не свидетельствует о превосходстве мозга над ним: ведь в компьютере заключен труд и достижения многих людей, даже поколений людей, компьютер – плод коллективных усилий.
Мыслишки наши короткие и, несмотря на призывы буддистов поддерживать в себе каждую мысль хотя бы в течение одного вдоха, судорожно мелькают с частотой испорченного осциллографа. Чтобы как-то упорядочить этот поток мы придумали письменность, растягивающую мыслительный процесс в действительный процесс, а не мелькание чего-то там. И все первые писатели по большей части были мыслителями, философами, мудрецами, а остальные пишущие были поэтами, презренными Платоном.
Существует, как мне кажется, некоторый Разум, называвшийся тем же Платоном миром идей. Мысль человеческая способна проникать в этот мир. И способом проникновения является мышление: по каналам или каналу логики мы проникаем в этот мир и видим там некую онтологию, картину мира, даваемую нам именно как картина, как некое озарение, образ – и чем это не наше, тем убедительней и очевидней, тем истинней.
Или – мы получаем эту картину интуитивно, трансцендентно, а затем начинаем выстраивать логические каналы и мосты, объясняющие нам эту картину.
И все это проходит в некоторой коммуникации, выразимости, пусть даже это коммуникация с самим собой, с собственным двойником и отражением. Собственно, так и действуют писатели, художники, музыканты и т.п., используя свои специфические средства коммуникации – слова, краски, звуки…
Однажды в аудитории, по привычке болтая о том о сем (бесцельная, без нажима и продавливания учебного материала коммуникация – лучшая среда для обучения), я предложил своим студентам расставить по порядку значимости прилагательные к некоему, неизвестному существительному: сначала на английском языке (а я – на русском), а потом – как им кажется этот порядок в русском языке. Так как это был экспромт, то я набрал всего 11 характеристик, и мы приступили к работе, но не на абстрактном уровне самих характеристик, а на их конкретных примерах (например, цвет – белый, размер – большой, и т.д.).
Вот, что у нас получилось в результате 10-минутных размышлений (тут важна спонтанность решений):

Фактически в американской и русской картинах мира совпадают и близки такие свойства, как материал (деревянное, железное), поверхность (гладкая, шероховатая) и такие утилитарные качества как назначение\функции (военное, транспортное) и возраст (старое, молодое). И это не очень интересно.
Гораздо интересней то, что для них совершенно неважно сравнение (похожесть, непохожесть) с другими вещами и объектами, а для нас, обладающих весьма синонимичным языком это весьма существенно. Еще разительней расхождение в удаленности (далекое, близкое) – ведь для нас это, прежде всего мера доступности, а в американском сознании, отравленном развитыми инфраструктурами, нет проблем доступности.
Зато американцам очень важен вид объекта (красивое, некрасивое) – они сразу делают его оценку, а, следовательно и устанавливают цену как меру привлекательности. Для нас же это – дело личного вкуса и потому в коммуникации не главное.
Любопытно также, что для американцев цвет гораздо менее важен, чем для нас, живущих в довольно сером и унылом, монотонном мире.
Надо также заметить, что американцы предполагают в нас гораздо большую идеалистичность (пренебрежение материалом) и (вот парадокс!) большую практичность (ориентированность на назначение и функции) в сравнении с собой и с тем, как оно есть на самом деле.
Наш эксперимент у доски с тремя рядами липучих бумажек затянулся: выстроенные спонтанно ряды теперь требовали логических обоснований.
Что касается американского мнения о нашем порядке прилагательных, то тут все достаточно просто: они просто вспоминали разные примеры из учебников и тупо воспроизводили их – а как еще они могли действовать? Собственные же онтологии мы вынуждены были доказывать и объяснять друг другу.
И тут я обнаружил, что при всех онтологических различиях мы имеем общую, взаимопонятную логику. «Эге» – подумал я, «если у нас столь похожие логики, то именно они и являются главным обучающим средством». Я высказал это соображение своим собеседникам, и они радостно закивали головами: «Да, да, когда что-нибудь объясняют и становится понятным, оно сразу и надолго запоминается, даже если это одно из многочисленных исключений из правил». «Тогда давайте забудем о правилах – все равно в русском языке очень много неправильного и во всем сплошные исключения, совсем как в английском (они засмеялись, не веря в это), и будем впредь только объяснять непонятное».
И мы перешли к другой игре в русский язык, а я еще раз убедился, что и онтология внеположена относительно каждого (ведь студентов было несколько и они практически не спорили, что за чем идет в их родном языке) и уж тем более логика отстранена от нас (ведь обсуждали мы свой выбор, будучи разноязычными), но и то и другое дается нам в коммуникации.
Работы с будущим
Данный текст возник на методологическом семинаре в Сан-Франциско и представляет собой некоторое обобщение опыта работы с работами с будущим. В этом смысле текст почти лишен новизны и представляет собой скорее типологический или конструктивный интерес. Понятийный аппарат здесь – в традиционных методологических рамках и потому не особо нуждается в литературных ссылках и ссылках на источники.
Прежде, чем обсуждать основные виды работ с будущим, следует ввести одно рассуждение, делающее всякие попытки и поползновения таких работ сомнительными и чреватыми.
Всякая деятельность использует некий исходный материал: ту часть материала, что непосредственно включена в деятельность, принято называть ресурсом деятельности. Ресурс может быть точно описан количественно, качественно и по границам своего существования. Резерв – та часть исходного материала, которая также известна (быть может, не так хорошо и точно, как ресурс), но которая лишь ожидает своего включения в деятельность. Наконец, имеются слабо изученные и нелокализованные запасы будущей деятельности
Вместе с тем, результаты деятельности также дифференцированы: имеются целевые продукты деятельности, точно соответствующие ее цели (например, при добыче нефти целью является сама нефть), побочные продукты (попутный газ, сера, парафины и тому подобное), которые не входили в цели и получены по совокупности. Побочные продукты рано или поздно находят себе применение и даже способны заменить собой целевые. Наконец, имеются разнообразные и многочисленные последствия (негативные результаты), предсказать которые или даже локализовать заранее их проявление весьма затруднительно.
Из этого рассуждения имеются два основных вывода:
– всякая деятельность происходит в ущерб запасов других – существующих или возможных деятельностей
– всякая деятельность имеет последствия, выходящие за рамки этой деятельности.
Из этих двух выводов, в частности, вытекает вся экологическая проблематика, интерпретируемая не как конфликт между природой и обществом, а как конфликт деятельностей: прошлых, настоящих и будущих, но разворачивающихся в единой среде.
Любая работа с будущим проспективно рефлексивна. Основные различия между важнейшими типами работ с будущим представлена в следующей таблице:

Прожектирование
Прожектирование обладает максимальной креативной способностью. Прожектирование обычно входит в проект как его онтологическая составляющая, а может также использоваться в организационно-деятельностной технике при мозговых атаках или в процедуре распредмечивания, освобождения от рутины и догм. Прожективное мышление в обычной среде подавляется здравым смыслом, рассудком или директивно-репрессивными средствами, однако в предпринимательской деятельности и любых видах творчества прожектирование и необходимо и неизбежно.
Планирование
Планирование предполагает, что только субъект планирования обладает целями, волей и самодвижением, собственно, всеми интеллектуальными способностями, объект же планирования либо лишен этих качеств, либо их можно игнорировать. Разумеется, при этом, что цели планирования лежат вне объекта планирования. Эффект планирования прекрасно описан А. Платоновым: можно заставить людей быть всех счастливыми, даже если они этого не хотят. Планирование, таким образом, всегда есть некоторое уравнение, выравнивание материала, придание ему гармонического однообразия, иными словами – опошление материала до представлений планирующего. Ленин, например, вел расчеты сроков реализации плана ГОЭЛРО и построения социализма в лопато-часах трудовых армий. Так, например, районная планировка, как вид работы над территорией, выродилась в монотонное выравнивание и типизацию жизни, не взирая на всякие географические и исторические различия.
Планирование – вполне допустимый вид социальных работ: врача в реанимационном отделении, командира – во время боя и в ряде других случаев.
Проектирование
Проектирование предполагает некоторую степень самостоятельности и самодвижения материала: старения строительных материалов, взросления людей и даже социальные изменения.
Проектирование включает в себя не только представление о проектируемой деятельности или жизнедеятельности, но также представление о том, как осуществить, реализовать эту деятельность. При этом проектируемая деятельность включается вовнутрь реализующей ее деятельности. «Что» включается в «как» и, следовательно, зависит от этого «как»: как построим дом, так и будем в нем жить: с недоделками, протечками и прочими неудобствами или, наоборот, в привилегированном и престижном доме мы будем вести привилегированную и престижную жизнь: под охраной и с пальмами на лестничной площадке. Советские люди за полвека жизни на Карельском перешейке так и не смогли приспособиться к финскому образу жизни, заложенному в проект жилья – мызы, а советские коровы вешаются от тоски и шизофрении в немецких коровниках Восточной Пруссии: они чувствуют себя в этих просторных стойлах скорее шавками, чем коровами.
Наличиеуказанных двух представлений у проектировщика необходимо для оценки как реализации проекта (относительно этих представлений), так и самих представлений (относительно реализации). Это, собственно, либо печально знаменитое «хотели как лучше, а получилось как всегда» либо еще более знаменитое «хорошо» в конце каждого дня творения: хороши, по мнению Создателя, и проект мира и ход его реализации и сама реальность.
Исходя из различий этих представлений, имеются три основные типа проектирования:
Прожективное проектирование
Наиболее мощный по своей креативности тип проектирования, не опирающийся и неоглядывающийся на ресурсы, их наличие и качество, либо исходящий из предположения их бесконечной неисчерпаемости. К такому типу проектирования относится «линия Ниццоли» – дизайн-идея, завоевавшая практически всю сферу современной технической цивилизации. Сюда же можно отнести и все сотворенное Гауди, особенно «Саградо Фамилиа» в Барселоне. Прожектированиие как самостоятельный жанр работы с будущим в свое время был осмеян, опозорен и выкинут: теперь мы, в основном, перелицовываем старые идеи и анекдоты.
Нормативное проектирование
Данный вид проектирования почти напрочь отметает творчество и утверждает примат норм и нормативов предыдущей или действующей культурной парадигмы. В рамках одной культурной парадигмы этот вид проектирования вполне оправдан, но перестает действовать и становится бессмысленным при серьезных социальных изменениях или смене культурных стилей. Буржуазное жилье, доставшееся советской власти, оказалось невыносимо для Шарикова и Швондера, советские нормативы жилья превратили все советское жилье в трущобы всего за одно десятилетие постсоветской жизни.
Доведенное до догматизма, нормативное проектирование способно творить чудеса, включая анатомические: согласно рекреационным СНИПам (строительным нормам проектирования) сутки отдыха составляют всего 16 часов, а на одного отдыхающего должно приходиться 20 погонных сантиметров пляжа независимо от ширины пляжа и конфигурации рекреанта.
Проектирование по прототипам и шаблонам
Наиболее распространенный и все более утверждающий себя в технологизированном и компьютеризированном обществе способ проектирования. Очень удобен и безошибочен (все уже проверено и апробировано), обладает всего одним и мало заметным недостатком: ничего нового.
Проектирование за счет своих реализаций представляет собой рефлексивное средство воспроизводства и социо-культурной трансляции, равномощное образованию.
Программирование
Программирование смиренно предполагает, что объект программирования одновременно является и его субъектом, что его цели не являются в программируемой ситуации доминирующими и даже основными, что навязывать свои цели никому не удастся и что, следовательно, речь может идти только о согласовании целей, даже если они противоречивы и взаимно исключают друг друга.
Как осознанный жанр, программирование возникло в начале Первой мировой войны, когда немцы, минуя спасительную для французов линию Мажино, устроили полный хаос: командование французской армии, разобщенное с правительством и собственной армией, потерявшее контакт соприкосновения с противником, оказалось в полном неведении, в информационном «молоке» и густом тумане непонимания ситуации.
Шаг за шагом, грамм за граммом, французский генштаб выпутывался из сложившейся ситуации. Заодно нашлись достаточно умные и рефлектирующие головы, зафиксировавшие основные шаги программирования, важнейшими из которых являются:
тематизация (определение границ и жанра ситуации)
ситуационный анализ – восстановление картины попадания в ситуацию, оценка основных позиций и позиционеров, включая, естественно, собственную, их целей, оснований, связей между собой и взаимоотношений
анализ ситуации – поиск выхода или разрешения ситуации, движения в ней или из нее, ядерное и рамочное самоопределение в ситуации (кто мы и где мы в ситуации)
целеполагание – постановка целей
поиск средств реализации целей
проблематизация – установление несоответствия средств целям или недостаточность средств относительно целей (об этом – чуть подробнее далее)
перевод проблем в задачи
планирование как установление алгоритма решения задач, последовательность ходов, действий и решений.
Ключевой процедурой програмирования является проблематизация.
Слово «проблема» означает по-гречески «камень, брошенный впереди себя».
После крито-микенской катастрофы, вошедшей в историю как Всемирный потоп и гибель Атлантиды, Пелопоннес освободился от людей и следов цивилизации. Новые люди двинулись на пустующие земли. Они шли из северного Причерноморья, мест степных и просторных, солнечных. И путь их лежал по перевалам гор, по ущельям, порой в облаках и туманах. Самым опасным и туманным был Олимпийский перевал. И каждый нес свой камень, бросая его впереди себя, чтобы узнать по звуку камня, что же там впереди. Если человек слышал звук камня, он шел вперед, если нет – он останавливался: впереди пропасть, обрыв, провал. Но – где впереди? В двадцати шагах? В десяти? В двух? Следующий? И куда сворачивать: вправо или влево? – В этой драматической ситуации (назад дороги также нет!) ничего другого не оставалось, как ждать… чего? – озарения молнией. Частые грозы у Олимпа с его причудливой фаллической формой сделали это место не только страшным, но и чудесным. Так возник образ бога-громовержца, отца и спасителя людей. Так впервые была решена проблема как работа с будущим, очень коротеньким, но опасным. И мы до сих пор так и решаем проблемы – в ожидании озарения, потому что назад, в прошлое, дороги нет, а вперед – страх не пускает.
Программирование может начинаться в любом месте и на любом шаге. Более того, оно имеет еще три вектора разворачивания:
– каждый шаг после своего завершения вызывает необходимость возвращений к предыдущему или предыдущим шагам: ситуационный анализ порождает новую тематизацию, анализ ситуации – новый ситуационный анализ и тематизацию: программирование идет не только по вертикали, но и по горизонтали – до бесконечности
– в пределах каждого шага необходимо проделать все шаги программирования: тематизацию ситуационного анализа (например), сит. анализ сит. анализа, анализ ситуации в сит. анализе, целеполагание в сит. анализе и т. д.
– кроме того, имеется такое направление программирование как «тематизация темы», «тематизация сит. анализа», «тематизация анализа ситуации» и так далее.
Таким образом, задается четырехмерное пространство программирования, при этом один из векторов этого пространства бесконечен. Программирование превращается в процесс, разворачивающийся сам собой и обладающий мощным рефлексивным потенциалом управления и соорганизации.
Прогнозирование
Жанр прогнозирования уместен тогда, когда имеются лишь цели, но, относительно объекта прогнозирования, средства решительно отсутствуют или неадекватно слабы. Таковы, например, прогнозы погоды, прогнозы отдаленных событий или событий в местах и странах нам недоступных.
Прогнозирование – и это отличает его от пророчеств, прорицаний, предсказаний, предвидений, ясновидения и прочих чудесных, а потому не поддающихся рефлексии видений будущего – базируется на теории, неважно, это правильная или неправильная теория. Существует, например, в метеорологии теория западного переноса воздушных масс и, исходя из этой теории, строятся прогнозы погоды, в частности, ожидается прибытие в Европу циклонов, зарождающихся в Карибском море, а в Калифорнию – тихоокеанских циклонов.
Отсутствие теории обрекает прогнозирование на простую экстраполяцию и вероятность: если вчера был день, то день будет и завтра, что не всегда очевидно. Действительно, вероятность наступления дня завтра весьма высока, но не потому, что день был и вчера: вероятность не дожить до завтрашнего дня у столетнего старика гораздо выше, чем у годовалого младенца, хотя статистический ряд явно на стороне первого.
В социальной среде прогнозам свойственно самооправдание, самореализация: достаточно объявить, что завтра кончится сахар – и он кончится, будет раскуплен уже сегодня. Порой прогнозирование играет с нами дурные шутки. На заре инфляции, когда никто ничего не понимал ни в рыночной экономике, ни тем более в российской «рыночной» экономике, газета «Коммерсантъ» регулярно публиковала прогноз курса доллара относительно рубля, исходя из каких-то своих представлений об этом. Удивительным образом прогнозы эти сбывались с необыкновенной точностью, пока один из начальников государственного банка РФ (тогда единственного биржевого продавца валюты и одновременно главного покупателя, которому принадлежало до 70% покупок) не признался, что на валютных торгах они устанавливали цены в соответствии с прогнозом «КоммерсантЪ» «а, так как никаких других оснований для цены не было.
Эта особенность прогнозов чуть не сделала их тотально бессмысленными (для социальной сферы), однако именно благодаря свойству самореализации прогнозы в настоящее время остаются на вооружении. Стало понятно, что их задача – вовсе не угадывание предстоящего состояния или события, а мобилизация людей. Для этого достаточно, чтобы прогноз был негативным и даже мрачным: «будущее будет не так плохо, как кажется, а гораздо хуже». Прогнозы, сделанные в начале 70-х годов в нашумевшей книге «Пределы роста» благополучно не оправдались, но породили ресурсосберегающие технологии и идеологии, экономическую политику регулирования добычи и потребления нефти и других природных ресурсов, сильно продвинули экологическое сознание – в планетарном масштабе.
Концепция
До сих пор речь шла о целенаправленной работе с будущим, хотя место и значение целей субъекта постепенно, от типа к типу, менялись и девальвировались. Концепция – принципиально нецелевая работа с будущим.
Основанием концепции является либо кредо – некоторое утверждение, символ веры, непререкаемая и неусомневаемая истина, нечто, что не поддается рефлексии и анализу, но обладает невероятной силой убеждения: «аз есмь!» – утверждает христианин, и с таким же пафосом парторг вторит ему: «есть такое слово – надо!», демократ же шепчет распухшими от дефолта губами: «рынок» или что-нибудь похожее про приватизацию и свободу.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+7
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе