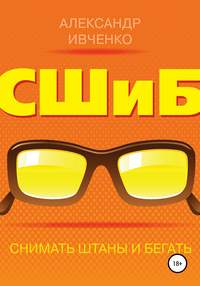Читать книгу: «Снимать штаны и бегать», страница 24
Василий же, который ни на секунду не терял бдительности, неожиданно разглядел у трибуны удивленно-обиженное лицо Отца Геннадия и тут же осознал необходимость нанесения упреждающего удара по священнослужителю:
– Также позвольте мне сказать теплые слова в адрес отца Геннадия – настоятеля храма, в котором в 1835-м году прошло отпевание усопшего генерала Бубнеева! За свое неравнодушное отношение к восстановлению исторической правды он награждается Почетной грамотой Славинской городской Думы. Эта грамота – высшая общественная награда Славина после звания «Почетный гражданин». Такие же грамоты получают активнейшие участники историко-культурного движения «Отчизны славные сыны» краевед Николай Пилюгин и поэт Александр Шашкин! Награждение Памятным знаком и Почетной лентой через плечо, а так же почетными грамотами состоится несколькими днями позже – в День города…
Василий замолчал и опустил глаза. Толпа, решив, что выступление окончено, снова принялась жизнерадостно галдеть. Но тут Василий неожиданно вскинул подбородок и посмотрел на толпу вопрошающим взглядом. Толпа, будто поперхнувшись, неловко утихла. А когда Василий снова заговорил, возвысив голос, никто не смог понять – плачет он, смеется, или захлебывается в патриотически-восторженном экстазе:
– В заключении позвольте мне выразить наше общее мнение… Впервые за долгие годы общественные награды Славина присуждались не тем, кто прославил город. В смысле, не тем, кто прославил его в какой-то отдельной области: искусстве, промышленном производстве или спорте. Мы могли бы наградить этим почетным званием композитора или детского писателя, хлебороба или неподкупного милиционера. Но на этот раз единственным критерием нашего народного выбора стало самое истинное, самое человеческое качество – любовь… Любовь бывает разная. К деньгам и славе. К своему городу и к его жителям. Иногда легко спутать. Но я верю, что на примере Харитона Ильича Зозули вы научитесь видеть разницу. Я верю, что всеобъемлющая и всепроникающая любовь на долгие годы вперед станет главной и определяющей ценностью для каждого жителя Славина…
Я искренне вам этого желаю, люди!
Толпа молчала. Быть может, наиболее пытливые умы уже были готовы к тому, чтобы понять истинный смысл слов Раздайбедина. Но эту тишину откровения вдруг разорвали трубные звуки оркестра, который снова заквакал торжественный марш. Толпа стряхнула оцепенение и вновь жизнерадостно зааплодировала.
– А ловко ты их, ядрен-батон! – тихонько засмеялся Харитон Ильич на ухо Василию. Думский председатель все еще пребывал в эйфории и не разглядел в речи своего политконсультанта двойного дна. – Только это… Самоуправство какое-то с этими Почетными гражданами Левого и Правого берега выходит! Нету у нас такой общественной награды!
– Так считайте, что мы прямо сейчас ее принародно утвердили, – устало ответил Василий. – На общем собрании города единогласным «За». Разве ж вы сами иное слышали?
– Так ведь ленты через плечо… – продолжил, было, сомнения Харитон Ильич, но Василий остановил его:
– А ленты через плечо пусть изготовит Зинаида Леонидовна. Кажется, она отвечает за связи с общественностью? Следовательно, общественные награды – это тоже ее компетенция. Ей и кисти в руки, и кумач на шею! А мы давайте-ка делом займемся. Вы, кажется, обещали народу «могилку захоронить»? Самое время!
– В самом деле! – всполошился Харитон Ильич и шагнул к микрофону.
– Дорогие согражданы! – воскликнул Зозуля, и голос его дрогнул от избытка чувств. Он прочистил горло, но слезная дрожь никуда не исчезла.
– Дорогие согражданы! – повторил он. – Сейчас генерал Бубнеев будет обретать вечный покой!
Из динамиков тут же полились чьи-то ангельские голоса. Услышав возвышенно-печальный мотив, Промышленный Аналитик Ярослав Дусин замер, украдкой смахнул слезу из-под монументальных очков и прошептал:
– «Agnus Dei»… Джузеппе Верди…
Никита Монастырный, находясь в трех шагах от Дусина, напряг слух и тут же авторитетно кивнул головой:
– Оно самое! Ни с чем не спутать! Как тонко… Ох, тонко!
И тут же воровато черкнул в своем блокноте: «блеснуть эруд-ей (!!!) написать за муз. Агнус Д. И. «Джузепе верьте!». После чего довольно усмехнулся про себя: «Верьте-верьте! Джузепа не обманет!»
Из-за здания клуба, сверкая сапогами и эполетами, вышел почетный караул курсантов местного военного училища. Четверо дюжих гренадеров несли на плечах объемный гроб, обитый красным атласом. Толпу охватил тот странный трепет, который всегда возникает у постороннего человека вблизи чужих могил, останков и вообще всего того, что когда-то было живым, а теперь уже совершенно мертвое. Подобная смесь суеверной дрожи и нездорового любопытства обычно служит обывателю неплохой заменой истинной скорби и оправдывает его присутствие на любых похоронах. Сродные чувства влекут его в музеи и кунсткамеры, когда там выставляются древние мумии и заспиртованные уродцы. Здесь же, пожалуй, кроется и разгадка тайны неугасимого интереса к «вечно живому» обитателю центрального Мавзолея страны…
Едва завидев гроб, толпа вздохнула и подалась вперед, заставив милицейский кордон сомкнуться плотнее. Ей было простительно это движение, поскольку подавляющее большинство наивно полагало, будто в гробу действительно что-то есть. Лишь немногие посвященные думали, что гроб пуст, но вполне объяснимо помалкивали. И лишь один Харитон Ильич знал истинное положение вещей.
Накануне вечером он сам лично придирчиво выбирал этот гроб. После знакомства с ценами на культовые товары и услуги, ведущий патриот города Славина поскучнел. В его душе попеременно одерживали верх то жадность, то желание пустить пыль в глаза всему городу. Наконец, он нашел оптимальное соотношение цены и качества, выбрав гроб довольно большой и нарядный, но не очень дорогой – из сырых сосновых досок. Большого будущего у этого изделия быть не могло – непросушенная древесина имеет свойство рассыхаться, трескаться и крутиться винтом. Но Харитон Ильич вполне здраво рассудил, что путь, предначертанный этому сосновому ящику, будет довольно коротким, хотя и очень ярким.
Дабы не допустить утечки информации, пустой гроб заколачивали в обстановке строгой секретности, скрывшись от посторонних глаз в полумраке слободского клуба. На церемонии присутствовали лишь избранные: сам Харитон Ильич в качестве идейного вдохновителя проекта, председателя историко-культурного движения и т. д., а также Василий, которому на этот раз досталась скромная роль исполнителя. Голомёдов, хоть и был приглашен, мероприятие проигнорировал, сославшись на неотложные дела.
В самом начале этой закрытой клубной тусовки Раздайбедин отошел в сторонку и воспользовался деревянным настилом сцены, чтобы приобрести первичные навыки заколачивания гвоздей. Пока из темноты доносились глухие удары молотка, перемежаемые звонкими восклицаниями Василия, Харитон Ильич осторожно сдвинул крышку гроба и боязливо заглянул в черную щель. Он не забыл высказываний Голомёдова о том, что в пустом гробу будут похоронены его политические оппоненты, но отнесся к этим словам куда более серьезно, чем сам Кирилл. Пошарив за пазухой, Зозуля торопливо извлек из внутреннего кармана календарь с изображением Хохловцевой, мятую листовку Дрисвятова и вчетверо сложенный газетный лист с портретом Павла Болдырева. Эту наглядную агитацию конкурентов Зозуля запас заранее, еще не до конца отдавая себе отчета в том, что намеревается сделать. Теперь же он быстро оглянулся, убедился в том, что внимание Раздайбедина целиком направлено на ушибленный палец, и понял, что момент настал.
Дрожащими руками он ухватил сначала календарь, потом листовку, потом газету и поочередно опустил их в щель, словно избирательные бюллетени – в урну для голосования. В общем и целом его действия мало отличались от стандартной процедуры плебисцита, которым власти регулярно баловали народонаселение города Славина. Не смотря на то, что граждане послушно бросали заполненные бланки не в гроб, а в другой специально сконструированный ящик, разница была невелика. Все демократические волеизъявления и надежды плебса на светлое будущее были так же надежно похоронены в высоком ящике с прорезью, как были бы упокоены в длинном и узком ящике с крышкой.
Харитон Ильич нетерпеливо приплясывал от волнения и сопровождал каждую агитку невнятными проклятиями. Потом он пошевелил усами, нахмурился, быстро плюнул в гроб и надвинул крышку. Окончив сей мрачный ритуал, Харитон Ильич нарочито громко кашлянул и принялся напевать какой-то мотив. Немного погодя, он понял, что поет: «Ох, полным-полна моя коробочка…»
Этот же легкомысленный напев завертелся у него в голове, когда площади появился почетный караул с гробом. Харитон Ильич сделал нетерпеливое движение рукой, будто отмахнулся от мухи, и патетически воскликнул:
– Наш Лев Бубнеев участвовал в полста-двух сражениях. Был награжден разными наградами. И саблей «За храбрость». Почтим его память!
С голов зрителей поползли намокшие кепки, картузы и полиэтиленовые пакеты. Участницы народного хора начали утирать глаза расшитыми рукавами. Щелкали фотоаппараты, работали телекамеры. Взвод курсантов выстроился в почетном карауле справа от постамента. Четверо будущих офицеров ловко подхватили гроб на длинные полотенца и начали медленно опускать его в могилу. Толпа придвинулась еще ближе, рискуя спихнуть милицейское оцепление в яму вслед за гробом.
Харитон Ильич спустился с трибуны и первым бросил на сосновую крышку ком глины. Крышка отозвалась пустым звуком, который в свою очередь отозвался в сердце Зозули острым тревожным уколом. Но никто ничего не заподозрил. Вслед за Зозулей выстроилась целая очередь. Меценат Брыков полез, было, вперед, но вдруг остановился и галантно пропустил перед собой скульптора Сквочковского. Отец Геннадий был тут же и уже затянул: «Господи, поми-илуй!». Почетный караул, вскинув автоматы, дал семикратный холостой залп в небо. При звуках салюта гражданка Тушко вытянулась в струнку с таким бравым видом, что ей тут же хотелось подать горящую избу и коня на скаку.
Василий наблюдал за происходящим с трибуны. Он окидывал взглядом тысячеликую толпу и не мог понять своей тоски и чувства стыда. Раздайбедин в десятый раз спрашивал себя, что прошло не так, и не находил ответа. Даже выступления Шашкина и Пилюгина он не мог назвать неудачными, поскольку толпа, не разбираясь, проглотила их речи и даже аплодировала. Василий поискал глазами поэта и краеведа, но не нашел. Зато увидел Голомёдова, который стоял чуть поодаль, нисколько не обращая внимания на успехи своего кандидата. Отрешенными глазами смотрел он вдоль кривого переулка, который убегал от клуба в сторону Беспуты. В руках Кирилл бездумно мял объемную зеленую тетрадь.
Тем временем Харитон Ильич уже обтер руки от глины о полы пиджака и оказался у подножья постамента. Ухватив переносной микрофон, он прокричал:
– Согражданы! Разрешите мне от вашего имени открыть этот памятный монумент!
Как точно должно в таких ситуациях выглядеть разрешение масс, и что произойдет, если таковое не будет получено, никто не знал. Но всем, опять же, было чуть-чуть приятно. Вероятнее всего, никакого разрешения Харитону Ильичу и не требовалось, поскольку он без дальнейшего промедления ухватился за какой-то шнур и натужно закряхтел. Намокшие покровы подались сначала неохотно, а потом вдруг тяжело упали к подножью постамента.
Впоследствии «Славинский вестник» бойким пером Никиты Монастырного написал об этом мгновении: «При виде долгожданного памятника все гости праздника восторженно ахнули в один голос!» Следует сказать, что публицист кривил душой лишь отчасти.
Толпа действительно ахнула. Но причина возгласа была не в том, что упавшая ткань открыла взорам монументальное детище Андриана Сквочковского, а в том, что при своем падении мокрая материя скрыла под собою незадачливого Харитона Ильича.
Впрочем, благодаря микрофону и звукоусиливающей аппаратуре, Зозуля продолжал присутствовать на торжестве – пусть и незримо, зато очень слышимо.
– Эй! Шо за дела, ядрен-батон?! – неслось из колонок. – Помогите, эй!
Судя по этим словам и ряду других нечленораздельных междометий, борьба с мокрым полотнищем шла не на жизнь, а насмерть. Не ясно, каким мог бы быть ее исход, если бы гражданка Тушко не проявила вдруг отчаянной решимости. Она ухватила бесформенный ком на руки, в считанные минуты распеленала своего руководителя и установила его на ноги.
Когда полузадушенный Харитон Ильич, наконец, выбрался из заточения, толпа торжествующе взревела. В этом звуке слилось воедино много чувств и эмоций. Главным, конечно, была обожание свежеобретенного кумира Зозули. Присутствовал так же эстетический восторг от созерцания бронзового воина с шашкой в руке. Что греха таить – имела место и усталость от многочасовой пытки моросящим дождем и народным хором. Словом, рев у толпы вышел, что надо.
Галки наверху болезненно восприняли вызов и тоже показали, на что способны по части крика. Вышло тоже достойно и, к слову, очень похоже.
Чувствуя патетику момента, Харитон Ильич не мог смолчать. Он отчаянно напряг память и, выудив из нее хвостик подходящей цитаты, патетически воскликнул:
– Кто к знамени присягал… У оного до смерти стоять будет!
Толпа, напитанная дождем и возвышенными словесами, даже не заметила, что Зозуля взамен оригинальной мысли императора Петра нечаянно подсунул ей секрет мужского долголетия. Человечество долгие века билось над этим рецептом, но все-таки пропустило его мимо ушей. Толпе уже не важно было, что именно говорит Зозуля – любое его заявление воспринялось, как библейская истина, и поддерживалось продолжительным ревом.
Оглушенный Раздайбедин прижал руки к ушам и обвел толпу взглядом. Ему показалось, что все лица слились в одну большую яростно-страстную гримасу. Пользуясь тем, что на трибуне никого не осталось, Василий показал этой огромной тупой физиономии язык и сообщил лекторским голосом:
– Старинный русский праздник Холуин по праву считается одним из самых любимых и почитаемых в народе…
Неожиданно он осекся. На краю площади, там, откуда схлынула толпа, Василий вдруг разглядел еще одно лицо. Другое, непохожее на остальные, но такое знакомое и близкое. Он не поверил своим глазам, а точнее – очкам. Василий снял их, быстро протер от водяной пыли и водрузил на нос. Лицо исчезло. Но Василий уже кинулся с трибуны, не замечая ступенек. Он продирался сквозь толпу, выкрикивая:
– Елизавета! Елизавета!
Толпа бросала ему в спину:
– Куда прешь, чумной?!
Впрочем, эта мелочь не испортила толпе праздника. Славинские СМИ буквально задыхались в патриотическом восторге, описывая этот день по мгновениям, переходя от скорбных и торжественных к радостным и возвышенным. Харитон Ильич раздавал интервью направо и налево. Но читатель, вероятно, уже сыт по горло его мыслями и чувствами в этот день, а потому приводить здесь его речи не имеет смысла.
Для Зозули этот вечер окончился грандиозным застольем. По правую руку от него восседал Почетный гражданин Правого берега Андриан Эрастович Сквочковский, а по левую – Почетный гражданин Левого берега Вениамин Сергеевич Брыков. А потом, когда Харитон Ильич «пошел по рукам» (то есть, начал движение от стола к столу, принимая поздравления и осушая бокалы в свою честь), последние камни стены отчуждения между меценатом и скульптором рухнули. Поначалу Вениамин Сергеевич и Андриан Эрастович сидели плечом к плечу и рассуждали на легкие и приятные темы, вроде: «Да кто там разберет – Левого или Правого берега гражданин? Для серой массы – Почетный, он и есть Почетный!» А потом, по мере выпитого, меценат и скульптор уж вовсе уперлись лбами и перевели беседу на вечную тему:
– Вот скжи… Тымня увжаешь? Вот я ття увжаю!
– А я тте как пчетный гржданин гррю: я ття ще больше увжаю!
– Не-е-е-ет! Этто я ття увжаю!
Этому единению не мешал даже бас отца Геннадия, который из-за соседнего столика пароходным гудком тянул:
– Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны
Выплывают расписные
Стеньки Разина штаны…
Стоит упомянуть, что два других заслуженных человека, которых общественность Славина отметила высокими наградами, к концу вечера также смогли заметно сблизиться – пусть не идейно, но хотя бы географически. Дело в том, что поэт Шашкин не дождался известия о своем награждении. Обидевшись на всех и вся, он отправился домой упиваться своим горем. Под родной крышей поэт, выпив водки пополам со слезами, взялся за сочинение стихотворной посмертной записки.
Начиналось это произведение отменно сильной строкой: «А вы, надменные потомки!». Но дальше дело не пошло, поскольку у Александра Александровича закончилась водка. Свои запасы он пополнил в ближайшем гастрономе. Но, выйдя на крыльцо магазина, поэт не смог держать в себе разочарование, помноженное к тому же на бунтарский дух, присущий, как известно, всем творцам. Крыльцо вдруг показалось ему трибуной, а несколько бродячих собак и бродячих старушек – благодарной аудиторией. Поэт хлебнул водки прямо из горлышка и воодушевленно повторил свою пламенную речь о пользе молока предков, и несколько раз подряд прочитал гениальную Оду. Здесь же, на крыльце, он был задержан нарядом милиции, слегка поколочен для профилактики и доставлен в ближайший райотдел.
Краевед Пилюгин, был поколочен чуть раньше – непосредственно после своего выступления, когда Василий и Кирилл стащили его с трибуны и сдали на руки наряду милиции. Новость о своем награждении он выслушал, сидя в тесном «обезьяннике» милицейского УАЗа. По этому поводу он, естественно, начал качать права, за что был еще раз поколочен, после чего доставлен в райотдел и помещен в соседнюю с Шашкиным клетку.
Те, кто составлял многоликую толпу на площади Беспутной Слободы, окончили этот день по-разному. Описание каждой истории по отдельности будет слишком долгим, да и не столь интересным читателю, поскольку он знаком далеко не с каждым жителем Славина и интересуется отнюдь не каждой судьбой. Следует сказать лишь, что очень не многие славинцы оставили без должного внимания такой замечательный повод, как Годовщина Бородинской битвы. И если то в одной, то в другой квартире пьяный глава семьи и стучал кулаком по столу, требуя очередную бутылку водки – так ведь, согласитесь, он имел на то полное право. Это ведь вам не хухры-мухры, а историческая память и воспитание патриотизма. Проявлять в таких важных вопросах слабину равносильно предательству Родины.
Если же говорить о знакомых читателю персонажах, то ни Голомёдов, ни Раздайбедин почему-то на торжественном банкете у Зозули не присутствовали. Впрочем, Харитон Ильич, упиваясь своим успехом, не особо по ним и скучал.
А еще очевидцы из местных утверждают, что последним с площади Беспутной Слободы уходил хмурый человек в очках, бороде и полиэтиленовом дождевике. Быть может, читатель узнал в этом описании Ярослава Дусина. Уж отсмеялась над могилой генерала фальшивая гармонь аккомпаниатора народного хора, уж подрались за клубом стенка на стенку слободские с городскими, уже и галки окончили свой воздушный патруль, а промышленный аналитик все бродил по площади. Он многократно обходил монумент, разглядывал то свежий могильный холм, то груды подсолнуховой шелухи и пустой тары, которые оставили после себя патриотически настроенные славинцы. Ярослав Дусин ерошил под дождевиком свою дремучую бороду, хмурил густые брови и протирал монументальные очки. Его аналитический ум напряженно работал, пытаясь понять, что же такого странного было в постаменте и бронзовой табличке, привинченной к нему. В тысячный раз взглянул Ярослав Дусин на надпись:

Он наклонил голову набок, отчего стал похож на сову, и вдруг крякнул озадаченно и даже испуганно. Ребус нашел свое разрешение. Первые буквы каждой строки отчетливо сложились в слово:
ЛОЖНО
Глава 31. Дорога на пьедестал
Зеленая тетрадь, запись рукой Голомёдова:
Завтра мы будем хоронить генерала. Нет. Мы будем закапывать пустой гроб. Хотя снова мимо. Завтра мы похороним памятник Всем Людям, который Чапай строил много лет. Чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что Чапай прав – люди ставят памятники не героям, мудрецам и первопроходцам. В первую очередь они возводят памятники самим себе.
Разве бронзовый истукан, который возвышается на каждой площади страны – это не памятник нам, уверенно шагающим туда, куда нас посылают? Что символизирует эта железная рука, простертая над страной уже без малого сто лет? «Вперед, к светлому будущему!»? Но мы уже знаем, что светлое будущее в какой-то другой стороне. Правда, пока не поняли – в какой. Так почему же мы с надеждой продолжаем смотреть туда, куда указывает нам металлическая длань? Неужели, потому, что мы настолько сильно любим, чтим и помним Вождя мирового пролетариата? Нет. Это не памятник нашей любви. Это памятник нашей боязни иметь собственное мнение, отличное от Генеральной Линии. Это памятник многолетних отношений власти и народа. «Все на йух!» – взмахивает власть рукой в повелительном жесте. «Ура!!!» отвечает народ и марширует в указанном направлении стройными колоннами.
Мы решительно отреклись от прошлого и осудили ошибки наших отцов и дедов. Мы точно знаем, что произошли большие конструктивные перемены, и назад дороги нет. Что жизнь в России стала гораздо лучше и светлее, чем при загнивающем социализме. А памятник стоит. И будет стоять, потому что это памятник нам.
Ведь это только кажется, что мы стали другими и жизнь стала другой. А на деле… Так ли уж велика разница? Вот, разве что, раньше из страны бежали обиженные и ограбленные, а теперь ее покидают разбогатевшие и довольные. А в остальном…
Да, мы уже не стоим в очередях. Настало изобилие. Кругом одни парикмахерские и банки. Но люди по-прежнему ходят лохматые и без денег. Почему? Потому что хорошо работать мы еще не можем, а плохо зарабатывать уже не хотим. Рабочий и колхозница – это уже не престижно. Престижно – девелопер и супервайзер. Да – еще чиновник и политик, но это престижно во все времена. А в чем разница между сегодняшним мерчендайзером и вчерашним товароведом? В чем разница между теми членами различных президиумов и этими, нынешними?
Народный депутат новой эпохи Сидоров все так же мчит с мигалкой на красный свет. Мчит по делу государственной важности в загородную баню. А мерчендайзер, девелопер и супервайзер уступают ему дорогу. Только что шапки перед барином не снимают. И то потому, что шапки им корпоративным дресс-кодом не прописаны. За что депутат Сидоров, как и в прежние времена, считает народ быдлом.
А чиновник Петров, ознакомленный с новой Генеральной Линией новой Генеральной Партии, с надеждой повторяет: «Я не буду брать взятки! Россия поборет коррупцию!» Он чувствует себя обновленным, он верит в правильность нового курса. «Россия поборет коррупцию! И я не буду брать взятки!» – твердит он все утро, отправляясь на работу. Но вечером чиновник Петров снова и снова возвращается домой разочарованный, с разбитыми надеждами…
Нет, нам не нужны новые памятники! И этих, указывающих нам наше место, вполне достаточно, чтобы понять, кто мы и что мы. К тому же, ведь любая урна, любой мусорный контейнер – это монумент во славу нашей личной чистоплотности, степени нашего уважения к чужому труду и количества любви к окружающим. Разве горы пакетов с мусором, брошенные нами на полпути к мусоропроводу, не смотрятся монументально? Разве стены и заборы, разрисованные свастикой и наскальными письменами, менее красноречиво говорят об уровне нашей культуры, чем памятник Осипу Мандельштаму в заброшенном сквере? Разве разбитые дороги и утонувшие в грязи тротуары не в полной мере отражают заботу высокопоставленных вождей о судьбах своего народа?
Мы равнодушны и на все согласны. Завтра у ног бронзового истукана соберутся многие тысячи, и каждый в глубине души будет называть происходящее фарсом. Но ведь никто не засмеется, и фарс продолжится до конца.
Почему?! Разве мы слепые и немые? Нет! Но наши зрение и речь – странного свойства. Мы видим, что происходит на самом деле, а вслух произносим лишь то, что предписано Генеральной линией. Когда появится поколение, которое будет видеть мир своими глазами? И появится ли?
А я завтра буду хоронить в этом гробу совесть – не гражданскую – свою, личную. И я заслужил тот траур, в котором сейчас пребываю.
А вот Чапай никакой обиды не заслужил. Кажется, только сейчас я начинаю с ужасом догадываться, сколько света, тепла и радости исчезает вместе с его детской площадкой!
Я всегда поражался – откуда у него столько жизнелюбия, хорошего настроения, умения видеть во всем самые светлые стороны? Этот запас так велик, что Чапай, не скупясь, раздает его направо и налево! Посмотришь и позавидуешь – кажется, что нет у человека никаких печалей… Однажды я так спросил его: «С вами хоть какое-то горе случалось?»
Вижу его, как сейчас. Чапай сидит на верстаке и обстругивает ножом бока деревянной коровы, которую хочет отправить пастись на ватное поле между двумя оконными рамами. Он по-мальчишески болтает ногами под верстаком и чему-то улыбается. При моем вопросе он задумывается, улыбка сбегает с его лица. Он откладывает свое рукоделие в сторону и смотрит на меня пронзительными голубыми глазами. Я так и не успеваю понять, что в них: боль, упрек, вопрос? Но туча быстро уходит, и на лицо вновь набегает солнечная улыбка.
– Го-о-о-ря? – тянет Чапай. – Про горю говоришь? Да я ее столько пережил, что любому другому двадцать два раза грудя бы разорвало, а мне – хоть бы хны!
– И какое оно, ваше горе? – осторожно интересуюсь я, в надежде услышать еще один необычный рассказ.
– А горя – она разная. Когда и с радостью в один узел скрученная, а когда – сама по себе. – философски изрекает Чапай и подмигивает.
– Как же это – с радостью? – не понимаю я.
– Эх ты, инкубаторский! – снова беззлобно сетует Чапай. – Ну вот, положим для примера, ты в субботу на танцульки выдвинулся. Шагаешь козырным тузом, сам черт тебе не брат. И вдруг в лепеху коровью ступил. Горя?
– Горе! – не могу не согласиться я. – А радость в чем?
– А радость Кирюха, в том, что ты в Клуб не бо́сый пошел!
– Здорово! – улыбаюсь я.
– А ты как думал! – снова подмигивает Чапай. – У меня сызмальства так повелось. И радости и гори – хочешь ешь, а хошь – за пазуху про запас складывай.
Он собирается с мыслями, и будто ныряет с головой в воспоминания.
– Жили-то мы бедно опосля войны. На Урале жили. Батьку еще в 41-м на фронте убило. Мамка и две сестренки так померли – от голодного тифа. Потом для полной художественности и дом наш погорел – во как! И остался я вдвоем со своим дедом полуслепым бедовать. И всего-то у нас на двоих богатства было – вошь в кармане, и та на аркане.
И вот однажды прослышал дед от людей, что на югах жизня больно хорошая. Земля там хлеб сама родит, на деревьях фрукты-ягоды растут, да сами норовят в рот упасть. Долго думать не стал – собрались мы с ним и потопали на юга по фрукты. До югов не дотянули – здесь нас зима-то застала, в Слободе. Дед при колхозе скотником устроился. А я устроился при нем – за полработника.
И зажили. Хорошо зажили! Когда, бывает, доярки молоком угостят. Когда дед какой-никакой паек получит. Славно!
Чапай качает головой и прищелкивает языком. Его голубые глаза, щурясь, смотрят в те нелегкие дни с улыбкой.
– Шел мне тогда, Кирюха, уже восьмой год, и была у меня тогда ба-а-альшая горя. Ох, большая! Ведь все имелось. Правление деду хату старую выделило. Дед крышу перекрыл. Плотничал он помаленьку и меня приучал. Потом огородик распахали. А осенью меня уже и в школу обещали взять. И жить бы – не тужить. Так ведь не живется! Вот веришь ты, или нет, а не было у меня, Кирюха… трусов…
Дед Чапай быстро вскидывает на меня по-детски смущенные глаза. Но, увидев мою улыбку, переходит в яростную атаку:
– Ты вот все зубья скалишь, а мне тогда не до смеху было! Сам посуди. Нету у меня трусов, и отродясь не было! За делом все недосуг было справить. Так и бегал – то в рубашке до колен, то в портках дырявых. А зимой, бывало, неделями дома сидел. И такой я был через это несчастный, что и сказать не можно! Конечно, по тому послевоенному времени в деревнях у ребятни их ни у кого в заводе не было. Но вот, поди ж ты – втемяшилась мне блажь в голову и все! Или трусы подавай, или в речке топи…
Вот пришел однажды я к деду и речь держу:
– Меня, мол, деда, ребятня на улице дюже дразнит, что портки худые, и зад просвечивает…
Дед смеется и ответсвует:
– Дразнят – не бьют. А бьют – сдачи давай!
– А как же, говорю, по твоему разумению меня в школу за знанием пустют, ежели у меня, к примеру, трусов нет? Отправят дальше на улицу голой задницей сверкать, покуда не обзаведусь. Нет, говорю, дед. Ты как знаешь, а трусы – предмет серьезный и всем взрослым людям положенный. Как хошь крутись, а трусы мне до конца лета справь!
Дед голову почесал и согласился. А как тут не согласишься, когда я ему такую аргументу важную представил? Да только вот толку в том согласии не много было. Денег-то в колхозе не дают, одни палочки в табель ставят за трудодни. А трусов на палочки в магазинах отпущать было не положено.
Думал дед, думал, да так до осени ничего и не надумал. А я уж от гори своей и на улицу выходить перестал, чтоб мальчишкам на глаза не попадаться. Выскочу еще затемно, убегу на скотный двор, да там и охаживаюсь, покуда солнце не сядет.
Холодать уже по утрам начало – лето на закат покатилось. И вот в ту пору как-то раз с утречка мне дед и говорит:
– Сходи-ка ты, друг ситный, без меня сегодня на скотный двор. Я там работы не дюже много оставил. А у меня в городе дело сурьезное есть.
Ну, как сказал, так и сделали. Не впервой. У нас здесь все за разными надобностями в город направляются. Только я уж вечером домой прибег, все жданики съел, а деда нету и нету.
Вернулся он уже по темну.
– В городе, говорит, был. На базаре. Примеряй обнову!
И достает штаны, потом рубаху, потом пижмак с подкладом! Даже ботинки мне справил к школе. Хоть и не новые, но еще со скрыпом – важные! А на голову мне шапку лохматую нахлобучил – на манер папахи. Чтобы, говорит, зимой ухи твои в трубку не скрутились. А то, говорит, за какой предмет тебя учитель тягать будет, ежели ты нашкодишь чего или урок не выучишь?
А я и радый обновке, да горя моя мне покою не дает – душу терзает.
– Деда! – говорю. – А как же трусы-то?
Засмеялся дед, по носу меня щелкнул. А я – в слезы.
– Не пойду, говорю, в школу, и все тут!
Дед в сени вышел, вернулся с пакетом. Пошелестел газетой и, веришь – нет, достает трусы. У меня аж дух от счастья захватило! Нарядные до чего – в цветок! Давай я их скорее примерять. Натянул под самые подмышки, а они все равно пол метут. Но я тому еще боле радый.
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе