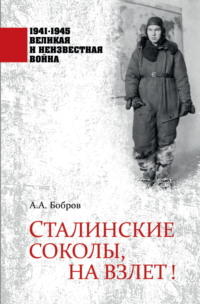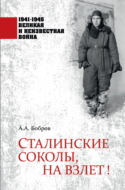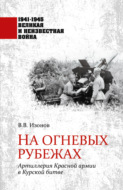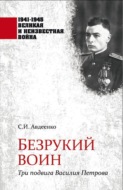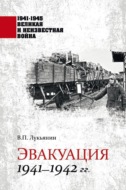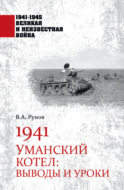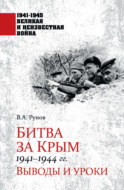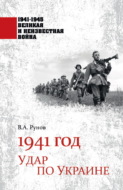Читать книгу: «Сталинские соколы, на взлет!», страница 2
Потрясает разрыв в цифрах: после объявления частичной мобилизации, по предварительным подсчётам, записалось добровольцами 70 000 человек, а выехало заграницу, причём в соседние недогосударства, более 200 000 человек. Кто-то и больше называет – как учесть, когда через границу в Верхнем Ларсе сквозь жидкие наряды пограничников прорывались. А ведь я бывал там, в месте нового российского позора! Во время пленума в Осетии мы прилетали к пограничникам, выступали с патриотическими стихами, слушали об их нелёгкой службе в малолюдном месте. И вдруг – Бродвей, к злорадству грузин, бандеровцев и всех врагов Отчизны…
К моему удивлению, спецназ под названием «Верхний Ларс» успешно прошёл проверку на выживание. Я серьёзно говорю – целыми сутками толкаться в ненаселённой теснине, не иметь доступа к питьевой воде и санузлам, питаться чёрт знает чем и при этом сносить стресс и страх до поноса – это такая школа, которую я, бывалый турист, не мог себе вообразить. Вот что могут здоровые мужики, бегущие от призыва!
Жаль, что их энергию изворотливости и терпения нельзя направить на благо Родины. Но и Родина – не делает никаких выводов, грозится только беспомощно: «Мы перепишем всех!» Как? Толпой ведь через границу ломанулись. Вот что надо обсуждать на трёп-шоу, а не стыдливо упоминать и предлагать что-то делать с теми, кто уклонился от армии, грозить пальчиком: карьеру сломаем. Да у нас отпрыски элиты и мажоры нагло законы попирают, а не какие-то карточки учёта! Тоже проблема острейшая, требующая государственного решения с помощью СМИ. А у Дмитрия Куликова только Маргарита Симоньян справедливо заметила: «Мы же знаем, как у нас получали отсрочку от армии, через что – и теперь они снова в шоколаде: призывают-то только отслуживших». Ну да, многие прямо знают: кому, сколько… А не хотите устроить всероссийскую переаттестацию, медицинскую перепроверку в новых условиях? Чего проще! Глядишь, и военкомы как на ладони предстанут… Нет, всё по накатанной колее!
* * *
Пишу о самых очевидных вещах и больных проблемах в предисловии к книге, которую продиктовало время и новые дороги по следам Героев. Само выражение «сталинские соколы», всплывшее в названии, родилось в 1936 году – 24 июля впервые в «Правде» появляется эпитет «сталинский сокол» по отношению к Чкалову, который в то время совершал свой героический перелёт. Статья так и называлась: «Слава сталинским соколам». Правда, ещё с 1935 года в Германии уже существовала специальная летная дивизия с названием Goring FaLke-Division («Соколы Геринга»). И всё-таки это не слепая калька, а опора на общую мифологическую основу и родную фольклорную почву. Исследователи советской культуры 1930-х – начала 1950-х годов неоднократно отмечали специфическую роль, отводившуюся фольклору в политико-идеологических дискурсах того времени. Интерес сталинского общества к народно-поэтическому творчеству общеизвестен, достаточно сказать, что выходил журнал «Советский фольклор». Сказительница Марфа Семеновна Крюкова из деревни Золотица являлась яркой представительницей фольклорной эпической традиции Зимнего берега Белого моря. Первые записи старин (былин) от Марфы Крюковой были сделаны А.В. Марковым в 1899 и 1901 годах. В 1937 году, когда страна готовилась отметить 20-летие Октябрьской революции, фольклористы попытались найти в народе эпические произведения, воспевающие советскую власть. Собиратели-профессионалы решили «помочь» сказителям в создании «новин» – былин на советские темы. Необычайный импровизационный дар М.С. Крюковой, способной облекать даже бытовую речь в строй и ритм былинного стиха, оказался востребованным временем и господствовавшей идеологией.
В марте 1937 года редакция газеты «Правда» вызвала Марфу Крюкову в Москву, где после посещения музея В.И. Ленина и Мавзолея родился знаменитый плач о вожде «Каменна Москва вся проплакала», опубликованный 9 сентября в газете «Правда» и многократно перепечатанный в других изданиях. В то же время появляется новина «Слава Сталину будет вечная», которая была включена в сборник редакции газеты «Правда» под названием «Творчество народов СССР». В него вошли многочисленные произведения народных сказителей. Над этим ещё недавно было принято иронизировать, но государство всегда должно искать новые формы работы с талантами из народа. К нашей теме – именно Крюкова в новине «Поколен-борода и ясные соколы» передала в народном духе основные обстоятельства экспедиции на пароходе «Челюскин» (1933–1934 гг.), подробно описала плавание и гибель корабля. При этом внимание сказительницы фокусируется на эпизоде спасения участников экспедиции: «День идет ко вечеру, / Соньце катится ко западу, / Загудела, зашумела птица прилетная, / Птица прилетная, советский богатырь, ясный сокол». С тех пор словосочетание, идущее от фольклора, становится устойчивым.
Вторую жизнь это определение получает в марте 1942 года, когда фраза «семь сталинских соколов» стала известна миллионам советских людей, а уж тем более всем военным лётчикам, в том числе и моему старшему брату Николаю Боброву – стрелку-радисту 44-го авиационного полка. Знаменитый бой «Семи сталинских соколов против 25 немецких стервятников», случившийся на Юго-Западном фронте 9 марта 1942 года, был освещён подробно: газета «Красная звезда» писала об этом бое три дня подряд, с 12 по 14 марта 1942 года, а подробную статью от 12 марта, по словам будущего великого аса Ивана Кожедуба, они зачитали до дыр. Считается, что этот воздушный бой, продолжавшийся около четверти часа, стал первым за всю войну, в котором группа советских истребителей численностью меньше немецкой смогла разогнать вражеские самолеты и выйти из боя победителями. Сначала было заявлено 5 сбитых немецких самолетов, потом по уточненным данным везде писали, что было сбито 7 немцев. Все наши летчики вернулись на аэродром на своих машинах.
С тех пор этот высокий фразеологизм стал устойчивым, общепринятым, и поныне в моих ушах на дорогах по местам сражений и гибели славных лётчиков, на не стихающих ветрах Русской и Украинской равнины постоянно звучит команда: «Сталинские соколы, на взлёт!» Это относится и к лучшему из Бобровых – Герою Советского Союза Николаю Боброву, и к другому защитнику ленинградского неба – Герою Советского Союза Александру Лукьянову, перед которым я долго чувствовал невольную вину (об этом – позже). Они – выходцы из простых русских семей, дети первого послереволюционного поколения – стали в двадцать лет опорой и гордостью страны, которой снова предстоит пройти через суровые испытания.
* * *
Вновь взлетают поперёк ветров
И творят безумие на трассах
Молодёжь – Лукьянов и Бобров.
Что уж говорить о старых асах…
Кто за их бессмертие нальёт,
Кто поход продолжит – ногу в стремя?
Сталинские соколы, на взлёт!
Не пройдёт в России ваше время…
Да, время Героев и Подвига не может пройти в воюющей стране, как бы ни пыталась опорочить их «пятая колонна», пацифистская либеральная общественность, корыстная чиновничья рать и прочие враги России. Не должно быть неизвестных страниц в книге Подвига великого народа.
1. Пикирующие соколы
…и круг замкнулся в лесу
В 2024 году Россия будет отмечать 80-летие полного освобождения Ленинграда от блокады, а в 2022 году поездками, статьями и стихами я отметил 80 лет подвига брата: 11 июля 1942 года, в 4—50 утра финская зенитная батарея на Мустоловских высотах поразила советский бомбардировщик СБ-2. Загорелся мотор. Меньше километра до передовой, но машина не дотянет, и экипаж принял решение накрыть горящим самолётом батарею противника. Донесения обеих батарей я с помощью финского писателя Карла Геуста нашёл в военном архиве Хельсинки. Слава богу, до вступления Финляндии в НАТО. Так мы доказали, что найденный поисковиками бомбардировщик с останками – экипаж брата, и уточнили дату подвига – 11 июля (на памятнике: 12 июля – день донесения о гибели героического экипажа), произвели захоронение через столько лет… Хотел в году 80-летия подвига встретить это утро в Лемболово. Доживу ли до следующего юбилея?
Был я здесь бесчисленное количество раз – и один, и с внуками, и при большом стечении народа – в день торжественного захоронения 4 ноября 2018 года, через 76 лет после гибели на финской передовой…. Но в этот раз переночевал под соснами в лагере отдыха «Пионер», детишек не было – пересменка. Проснулся в 3 ночи, когда начало светлеть небо между кронами сосен. В такое же время экипаж капитана Алёшина взлетел в Сосново в блокадном Ленинграде и взял курс навстречу гибели… Стрелку-радисту Коле Боброву только недавно исполнился 21 год.
Лемболовское озеро
Вот и открылось мне снова
В тихом свечении вод
Озеро Духа лесного —
С финского перевод.
Движется время к закату,
Тихо качнёт огоньки
Лемболово, где брату —
Памятник и венки.
Я засыпаю последним,
Озеро Духа – не спит.
Утром, таким же летним,
Был самолет их сбит…
Опекала в лагере меня Алевтина Александровна Живилова, которая начинала работать с детьми, когда здесь ещё был лагерь «Металлург» от славного завода «Красный выборжец». Я подарил ей книгу о брате, изданную НППЛ «Родные просторы». Через несколько дней получил от неё письмо: «Уважаемый Александр Александрович, низкий поклон Вашим родителям, Вашему брату и Вам! Спасибо за книгу. Как жаль, что ее я не имела в момент моей работы с детьми, когда мы здесь «Зарницу» проводили, стартовали у памятника. Я благодарна судьбе за встречу с Вами. Но воспитанники лагеря «Металлург» в Лемболово от завода «Красный выборжец» меня навещают, и я с удовольствием с ними поделюсь впечатлениями о Вашей замечательной книге «Сосна у селенья Бобровка». Огромное Вам СПАСИБО. Берегите себя!»
Солнечным утром подъехал к памятнику учитель истории – основатель музея в школе имени Николая Боброва в соседнем посёлке Лесное – Владимир Коптелов. А вокруг вовсю кипела работа: солдаты в/ч 6716 – учебки Росгвардии, которая шефствует над памятником, под командованием капитана Кравченко Ильи Михайловича благоустраивали территорию: «Ничего, что в рабочей форме слушать писателя будут?» Кратко рассказал ребятам о подвиге экипажа, о новой задуманной книге «Сталинские соколы, на взлёт!». Подарил свои книги для библиотеки части.
Задуманное сделал, снова вспомнил захоронение…
* * *
Впервые за тринадцать лет я ощутил 4 ноября как истинно праздничный день с оттенком высокой трагедии: близ станции Лемболово на Карельском перешейке, у памятника летчикам, погибшим при защите Ленинграда, состоялось торжественное захоронение останков героического экипажа. Никогда в эту пору не было столь солнечной, яркой погоды, никогда здесь не было так многолюдно и единодушно до слёз. Да, мы были заодно: высокие должностные лица и случайные дачники, лётчики-ветераны и детишки из соседней школы посёлка Лесное, опытные поисковики и родственники старшего сержанта Николая Боброва всех поколений, от моего 84-летнего брата Анатолия, продолжающего работать для защиты Родины в объединении «Алмаз-Антей», до внучек Марины и Ольги (поисковики говорят: «Как похожа, даже на скульптурный портрет!») и до правнучатого племянника Олега, увы, из Швейцарии… Ведь более всего объединяет высокий подвиг и светлая, бескорыстная память! Завершился грандиозный круг: вылет экипажа с аэродрома Сосновка 11 июля 1942 года (теперь там мемориал и братское кладбище лётчиков), атака под низкой облачностью на тылы и батареи противника, прямое попадание зенитной батареи в один из моторов, горящий рейд без попытки выпрыгнуть с парашютом в плен и, наконец, огненный таран на передовые финские позиции за 300 метров до наших траншей… На памятнике ошибочно указано 12 июля – по донесению, наверное…
Родители долго вообще точно не знали, где погиб старший сын-Герой. Потом открылось «Близ станции Лемболово…», и в 1965 году установили памятник рядом с одноимённой платформой. Кто-то считал, что это вообще было сделано рядом с братской могилой. И уже через много лет, в 2004 году, совершенно случайно отряд «Безымянный» наткнулся в Мустоловском урочище на следы скоростного бомбардировщика. Два года копали, нашли множество деталей (например, три парашютных кольца, три пары подошв и рукоять пулемёта, из которого стрелял мой брат), наконец, и сам мотор на глубине трёх метров откопали. Казалось – вот оно, главное доказательство, да номер – не родной, мотор пришёл из ремонта, а документы именно этого месяца были утрачены. Двенадцать лет – новые раскопки, поиски второго мотора, сбор доказательств. И вот – круг замкнулся: по письму губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко была создана серьёзная комиссия, которая приняла долгожданное решение, и 4 ноября, на Казанскую, в небывало светлую погоду состоялось торжественное захоронение останков экипажа – трогательно, красиво, чётко. К сожалению, были только многочисленные Бобровы… Племянники командира Алёшина из Тамбовской области не приехали (писал в музей Знаменского), родные украинца Гончарука – вообще затерялись (писал, пробовал найти тоже через одесских коллег). Увы…
Ровно в полдень начался торжественный митинг на территории объекта культурного наследия федерального значения – «Памятника-стелы летчикам Героям Советского Союза Семёну Михеевичу Алёшину, Николаю Александровичу Боброву, Владимиру Андреевичу Гончаруку, повторившим подвиг Николая Гастелло», на котором собралось множество народа. Вице-губернатор Ленинградской области Николай Емельянов в своей речи напомнил о том, что правительство региона уделяет большое внимание поисковым работам на территории области. По его словам, только за последний год найдено 3000 солдат, но только 180 имён установлено… Сразу вспомнил, как поставил себе цель посетить место огненного падения СБ-2. Дождались с сыном осенней прохлады и тронулись в путь. Ещё на лесной дороге за разрушенным мостиком, где пришлось оставить машину, Дима спросил у Германа Сакса: как часто устанавливается личность погибшего солдата?
Командир «Безымянного» отчеканил:
– На местах советско-финской войны – один из ста, Великой Отечественной – один из десяти. У врагов – пятьдесят на пятьдесят: у них медальоны, именные вещи, антропологические данные на всех солдат. А у нас не было этого. Нашли, помню, одного бойца из расчёта артиллерийского – гигантского роста. Сначала подумал на останки, что это – кости лося. Нет, такой вот великан воевал и нигде не зафиксирован, а то бы весь расчёт идентифицировали…
Тогда я спросил, как Герман Юрьевич, тратящий на нас свой чиновничий выходной, увлёкся поисковой работой.
– Это в детстве началось. Мы играли с ребятами в Тосно в большие металлические солдатики, расстреливали их камнями на песке. А меня, как самого младшего, посылали потом искать и откапывать – какой-то азарт поисковый просыпался. Потом попал в детский лагерь на местах боёв – траншеи, блиндажи, а никто ничего не знает, даже взрослые: «Была какая-то финская зимняя война». Заинтересовался, сам стал книжки покупать: на завтраки деньги давали, а я в магазин старой книги бежал. Потом старшие товарищи в поисковый отряд пригласили, научили методике поисков погибших, работе с картами и документами. Ну, а когда сам первого солдатика нашего нашёл – всё другим смыслом наполнилось, не только азартным. В 1995 году купил старый «Москвич» и уже сам с отрядом «Безымянный» стал ездить. Вокруг Ладоги по местам боёв, свирский плацдарм – до Карелии, особенно люблю Лоухи, где есть нетронутые участки, где читается прямо книга сражений. Нашли одно место: вот немецкая разведка спрятала парашюты и банки от консервов под корни, вот наш разведчик обнаружил, сбросил ремень с подсумком и гранатами, чтоб не гремели. Но был обнаружен, отстреливался на бегу, веером, но был сражён в движении – так и остался лежать скелет… Конечно, таких мест всё меньше, а в Ленинградской области – сплошное коттеджное строительство, прямо на местах боёв, до обследования. С 1 октября должен выйти закон, запрещающий такие действия, и чиновники торопятся, продают, нарезают без согласования.
Словно подтверждение этих слов – сама дорога к месту падения самолёта. Мы заплутали, потому что огромный ельник с вековыми деревьями, к которому и прижималась понятная дорога вдоль бывших финских полей, начисто сведён под огромный дачный посёлок. Просто – гигантские размеры уничтоженного леса, даже мысль преследует: неужели мегаполису не нужны лёгкие? Неужели надо сводить нетронутый лес вместо поиска никчёмных участков? Ну и дорогу таджики строят с грандиозной техникой, отсыпают песчаную подушку в пробитом тоннеле с корневищами по краям. Весь ландшафт перевёрнут, и Герман даже малость растерялся: неужели и место падения закатали? Побежал по опушке будущего дачного рая, вышел к речке Муратовке и вдоль неё по рельефу и финским траншеям отыскал нужную укромную тропинку. Осталось, значит, место падения. Я даже не ожидал, что так явственно осталось… Мы промокли насквозь, наломали ноги по изуродованному лесу и просекам, но усталость только на фото осталась. А в душе – всё перевернулось!
Столько лет прошло, а вся трагическая повесть читается на нетронутой местности в заросшей глуши: вытянутое место падения, где до сих пор не растёт выжженный лес, коридор, оставленный падавшей машиной с вываливающимися из пламени моторами – она накрыла страшным огненным тараном позиции врага. Один мотор был разбит прямым попаданием мощного зенитного орудия (сфотографировал в музее в Лаанперанте), горел и оплавился, второй, более тяжёлый, ушёл в землю метра на четыре. Ребята-поисковики долго копали, потом лебёдкой поднимали, на газике вывозили, наводя мосты через ручьи и колдобины. Теперь этот мотор – в экспозиции Военного музея в Выборге… Явственно пролегли остатки финской траншеи, которую проложили прямо по яме падения, чтобы меньше копать. Ведь это – передовая: всего 300 м не дотянул бомбардировщик до своих в июле 1942 года, а ровно через 2 года наши войска начали наступать на эти позиции: до неудачного штурма бомбили, обрабатывали артиллерией, сами финны топтались и воевали над останками лётчиков и машины. И столько всё-таки осталось находок… Испорченный пулемёт брата и три парашютных кольца (даже не собирались выбрасываться в плен из подбитой машины), три пары подмёток (у нас почему-то антропологические измерения экипажа не делали, а то бы не было вопросов по принадлежности) и даже финка с наборной ручкой. Ну и останки – косточки, которые остались в одном сапоге и в складках искорёженного алюминия. Брат был в хвосте, при страшном падении хвост улетел вперёд («Вон, до той ёлки», – сказал Герман обыденно). А какие чувства я мог испытывать, подойдя по папоротнику к этой ели?..
Я был как-то убеждён, что на самолёт вышли по финским документам, по донесению двух подразделений – зенитной батареи, которая подбила СБ-2 (перевод донесения из Центрального финского архива у меня есть), и того подразделения на передовой, куда экипаж направил горящую машину. Оказывается, нет – совершенно случайно: «Мы уже заканчивали здесь копать, – говорит Герман, – и вдруг на подходе к траншее, в глухомани, я почти споткнулся о часть кресла пилота – из земли торчала. Начали обследовать, нашли финскую помойку с остатками поделок из алюминия, стали методично прозванивать и поняли: это останки рухнувшего самолёта. Долго и тщательно работали. Есть фото, сколько вещей, косточек и деталей нашли». Вот такое чудо… Какой путь я совершил в течение жизни! Меня мама привезла в Ленинград ещё до школы. Тогда вообще ей не сообщали, в каком районе погиб старший сын. Она, помню, спустилась по гранитным ступеням к Неве, зачерпнула слегка пахнущую мазутом воду и сказала: «Где-то здесь Коля покоится». Оказалось, далеко не здесь… Потом, к 20-летию Победы, открыли данные: близ станции Лемболово, где и был возведён памятник героическому экипажу. Маму с батей, старшей сестрой и братом пригласили на открытие, а меня дуболомы – армейские начальники, не пустили из части. Вот как губили истинную патриотическую, а не формальную работу!
Ну и с тех пор езжу в Лемболово, в исчезнувшую Бобровку, пишу о брате, о войне на Карельском перешейке, но давно был уверен: в Финляндии надо искать следы точного места гибели экипажа. Однако русская судьба натолкнула Германа Сакса с поисковиками отряда «Безымянный» на слепое место. Финские документы, усилия Баира Иринчеева из Выборга, помощь финского писателя Карла Геуста только помогали нам установить достоверность и подтвердить гибель именно этого экипажа: по горькой иронии пропали все документы, даже на найденный мотор с номером! 44-й полк отправил бумаги на списание самолётов и моторов, но оформил что-то не так, командование Ленфронта вернуло документы, переделывать уже времени не было – полк был отправлен на переформировку, переучивание пилотов на Пе-2. Так что экипаж брата погиб в одном из последних вылетов: может, вообще бомбы оставались и решили бомбить мост без последующего особенного наступления. Что теперь рассуждать и сетовать… Главное, что круг замкнулся.
* * *
Вот какие слова написаны в наградном листе о моём брате: «Мужественный стрелок-радист, обращавший в бегство своим пулемётным огнём не один десяток истребителей противника. Им проведено 12 выигранных боев, из которых он вышел победителем, обеспечивая этим выполнение поставленной задачи. В дни Отечественной войны он произвёл 67 боевых вылетов, из которых 47 – ночью. За мужество, проявленное в борьбе с немецким фашизмом, награждён орденом Красное Знамя». А по приказу наркома обороны Сталина за такое количество ночных вылетов он должен быть дважды Героем Советского Союза! Однако, помню, каких трудов мне стоило, чтобы школе 1429 в Бауманском районе присвоили имя Николя Боброва – тогдашний спикер Совета Федерации Сергей Миронов по моей просьбе как петербуржец письмо мэру Лужкову написал. А ведь в каждой школе с историей есть свои славные выпускники – защитники Отечества.
Первым оперативно и подробно написал о торжестве 4 ноября сайт «Красная весна». Процитирую коллег: «На мероприятии присутствовали родственники стрелка-радиста Николая Боброва, одного из Героев, в честь подвига которых в советское время был возведен мемориал у станции Лемболово. Младший брат Николая Боброва – Александр Бобров отметил, что для него этот день особый, и как для родственника, и как для писателя, журналиста, который многие годы работает для сохранения памяти о войне и подвиге ее Героев: «Эта земля нам от них досталась. Какой она будет – решать более молодым поколениям. Погибшие Герои из великого поколения отдали свой долг сполна. Мы старались, как могли, защищали Родину, хотя страну не уберегли. Но я надеюсь, что эта земля будет хранить память, что ребята пали не только за особняки и дачные поселки на этой земле, и что это будет прекрасный «Зеленый пояс» Ленинграда, место памяти, место славы».
Еще один брат Николая Боброва – Анатолий Бобров, хорошо помнящий погибшего брата, рассказал, что с детства живет с мыслью, как бы не осрамить имя брата-Героя, как бы не совершить чего-нибудь неподобающего. В свои 84 года он продолжает дело брата по защите Родины, работает в концерне «Алмаз-Антей», выпускающем вооружения для ПВО и ПРО России. Он также посетовал на то, что «в лихие 90-е» кто-то снял огромную бронзовую звезду с мемориала. Вместо нее долгое время висела деревянная звезда. Сейчас она заменена на алюминиевую и плоскую, тогда как настоящая звезда медали, которую вручали Героям Советского Союза, имела двухгранные лучи. Братья Бобровы обратились к присутствовавшему вице-губернатору области с просьбой восстановить звезду на мемориале в первозданном виде». В 2023 году я простился со средним братом Анатолием, продолжавшим работать на защиту Родины и в преклонном возрасте…
Тройственный выстрел
Командиру отряда «Безымянный» Герману Саксу
В осеннем лесу, над поляной,
Мне слышится шелест знамён…
Спасибо, отряд «Безымянный»
За сонм возвращённых имён!
К Вуоксе идут электрички.
Когда настаёт тишина,
На самой большой перекличке
Героев звучат имена.
Я много прошёл и осмыслил,
И вот замыкается круг:
Мне слышится тройственный выстрел:
Алёшин, Бобров, Гончарук.
И отзвук разносится грустный,
Но как-то спокойнее мне,
Что прах упокоен на русской,
На взятой с боями
Земле!
Итак, круг поисков, доказательств, тропинок к истине замкнулся, но книга и летопись дел продолжается. По лётчикам-коммунистам отслужена панихида, но точка не была поставлена. Прежде всего – обозначили недалеко от дачного посёлка, на поляне у песчаной дороги место падения СБ-2 и итоги великой работы поисковиков Германа Сакса. Рабочие Выборга в свободное от работы время, как в советские времена, изготовили металлический обелиск. Средней школе в посёлке Лесной, где Владимир Коптелов продолжает расширять и отцифровывать музей лётчиков, присвоили имя Николая Боброва. Теперь, через четыре года, пришла в неподобающее состояние сама могила возле памятника, стали заниматься надгробием гранитным, а тут возникли свои трудности: что является памятником федерального значения, а что областного? И вечный вопрос: где искать средства? Мы с сыном готовы вложиться, но ведь это не частная могила на общем кладбище. Дела, не только творческие, никогда не кончаются!
На торжественном захоронении собралось 12 членов семьи Бобровых и близких родственников. Не все, конечно, но в электричке до станции Лемболово и за поминальным столом вспоминали любимое наше Замоскворечье и родные Кадаши. А младших внуков привёз через год – подросли и стали всё понимать. Но дорога позвала меня дальше по Ленинградской области, в Волхов, где находится могила другого Героя-лётчика – Александра Лукьянова, сгоревшего в ленинградском небе…Ещё одна неизвестная страница…
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+10
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе