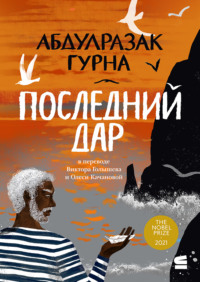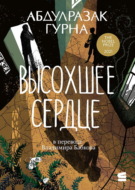Читать книгу: «Последний дар», страница 2
Полиция провела расследование, подозреваемые были, но определенно установить личность матери не удалось. Если бы с этим происшествием было связано другое преступление, расследование провели бы тщательнее, но тут был заурядный случай: девица расплатилась за свое легкомыслие, и, по всем данным – в сущности, лишь слухам, – наиболее вероятной подозреваемой уже не было в Эксетере. Мариам отдали приемным родителям. Датой ее рождения определили 3 октября 1956 года.
Приемными родителями стали мистер и миссис Риггс – пожилая чета, уже воспитывавшая двух маленьких девочек. Мариам всегда думала о них как о маме и папе, хотя прожила с ними всего несколько первых лет. Ей дали их фамилию: она стала Мариам Риггс. Самыми ранними были воспоминания о жизни с ними и комнате с двумя маленькими девочками.
Мать их была высокая, полная, медлительная женщина с родинкой на щеке. Родинка была большая, иногда мать расчесывала ее, кожа вокруг краснела и воспалялась. Разговаривала она с ними добрым, ворчливым, монотонным голосом, разговаривала всё время, даже когда оставалась одна. Когда сердилась, голос становился резким, слышать его было больно, он как будто ранил. Начав, долго не могла остановиться и даже от короткого слова или вздоха в ответ заводилась снова. Она кормила их тушеными овощами, разбавляла молоко водой из экономии, готовила им сладкие запеканки на нутряном сале и каменные оладьи. Называли они ее Мамой.
Дом был холодный. Они носили по несколько одежек, у Мамы платья были до щиколоток. В них она выглядела как женщина другой эпохи, и Папа иногда называл ее королевой Викторией. Детей она стригла коротко, чтобы не завелись, как она их называла, гниды. Купала раз в неделю, в мелкой оцинкованной лоханке, всех в одной воде, которую грела в кастрюлях. У Мамы были большие руки, она терла детей жесткой фланелевой тряпкой, стоя на коленях, на каменном полу, иногда с сигаретой во рту. Камин был только в одной комнате. Кухня нагревалась только готовкой и кастрюлями для купания; вода быстро остывала, поэтому мылись на скорую руку. Папа мылся после них, поэтому надо было успеть, пока вода для него не совсем остыла. После купания дети бежали наверх, скорее под одеяло. Рассказывая об этом купании своим детям, Мариам улыбалась и объясняла, что это было отчасти забавно.
Их отец работал в магазине ковров неподалеку и часто заглядывал домой. Прежде он был водителем фургона в этом магазине, но в войну был ранен во время бомбежки и теперь водить машину не мог из-за плохого зрения. Под правым глазом у него тянулся, как туннель, толстый шрам. Теперь магазин держал его для разных работ: он подметал, занимался мелкими починками и вообще помогал, где требовалась помощь. На работу он ходил в костюме и в галстуке – костюм был в елочку, старый и единственный. Мариам не догадывалась тогда, что папу держали на работе из доброты и жалованье он получал, наверное, маленькое. Всё это она сообразила позже, вспоминая его.
Дома папа вечно что-то чинил, рукодельничал, по его выражению, и курил трубку. Дома ее звали Мери, и она только гораздо позже узнала, что ее имя Мариам. Старшую девочку у них звали Мэгги. Ее имя постоянно было на устах у Мамы: принеси то, прекрати это, ты плохо кончишь, это точно. Вторую девочку звали Джилл, она была хворая. Детям разрешали сидеть в общей комнате после чая, когда родители слушали радио. Папа любил посадить кого-нибудь из девочек на колени, гладил их, целовал в щечку и называл их мальками. В семь часов вечера их отправляли спать, даже если светило солнце. Она не помнила, чтобы ее хоть раз шлепнули или отчитали, а с Мэгги это бывало – за то, что огрызалась или совала нос не в свое дело. Мама говорила, что нет ничего хуже любопытства. От любопытных все неприятности на свете.
Туалет с унитазом был снаружи, прямо за домом. Дверь туалета не подходила к раме. Над дверью и под ней были широкие щели, и Мариам помнила, как ранним утром в унитазе бывала корка льда. В туалете стоял звериный запах, как будто там жило какое-то животное, и в темное время она боялась туда заходить. Когда ей было пять лет, двух других детей отдали. Мама объяснила, что их удочерили и теперь у них свои семьи. Другие родители. Она спросила пятилетнюю Мариам, хочет ли она остаться здесь навсегда. Мариам сказала, что хочет. На самом деле она не понимала, о чем ее спрашивают. Ей не приходило в голову, что кто-то может жить по-другому, чем она с мамой и папой. Не приходило в голову, что ее могут забрать от них куда-то.
Но когда мама и папа попросили оставить ее у них навсегда, им было отказано ввиду их преклонного возраста. Мама ворчала из-за этого целыми днями, объясняя Мариам глупость людей, решивших, что ей с папой по возрасту поздно удочерить одного ребенка, ребенка, которого они любят как родного, – а когда они растили троих как родных, оказывается, было не поздно. Папа сказал, что он потрясен. Он всегда говорил так, когда происходило что-то несуразное. Они подумали даже обратиться в суд, но, когда эта мысль у них возникла, Мариам уже забрали от них: социальные работники сказали, что эта история расстраивает ребенка. Так она потеряла маму и папу. За ней приехали на машине мужчина и женщина и забрали ее, она ничего не поняла, потому что мама разговаривала с ней как обычно, как будто ничего странного не происходит.
Теперь ее воспитывали в другой семье. Об этой она мало что помнила. Она думала, что с другим их ребенком произошло что-то плохое: мальчик был старше ее, часто дрожал, как будто его знобило. В доме у них тоже было холодно, но еще и пахло. Окна никогда не открывались, и плохо пахли постели. Её новый отец был крупный мужчина, и, если она попадалась ему под ноги, он грубо ее отпихивал. Однажды он выплеснул в нее пиво из-за того, что она плакала. Мать была худая, с длинными волосами, вечно подгоняла и дергала обоих детей и говорила, что они посланы ей в наказание. Когда Мариам вспоминала детство, ей казалось, что она прожила с ними совсем недолго, но впоследствии, подсчитав аккуратнее, поняла, что не так уж мало – при них она пошла в школу. Может быть, ей просто не хотелось вспоминать.
Это время помнилось совсем плохо. Она жила в других семьях, но воспоминания были смутными. Где-то ее били, это она помнила, а как-то раз заперли одну в комнате на всю ночь – семья ушла куда-то. Может быть, и не на всю ночь, но она в конце концов уснула на полу. Утром, когда проснулась, дверь была отперта. Она часто плакала, звала маму и папу, но так их и не разыскала. Ее отдали в другую семью, где было двое родных детей ее возраста. Мать была темнокожая и попросила темнокожего приемыша – ей отдали Мариам, всё больше темневшую. А Мариам по-прежнему часто плакала («Ты уже не маленькая», – говорила ей приемная мать) и не хотела играть с ее родными детьми. Она ходила уже в среднюю школу, и ее постоянно обижали. Однажды она ударила пристававшую девочку. Учительница поставила им на стол вазу с цветами для рисования, но соседка всё время передвигала вазу, корябала на ее бумаге и говорила, что от нее пахнет. Девочка плюнула в нее. Мариам выхватила у нее из рук вазу с водой и цветами и бросила ей в лицо. Учительница посадила Мариам в коридоре дожидаться матери. Мать сказала, что больше не хочет терпеть ее дома, и для исправления ее отдали в другую семью.
Угодить этим родителям было невозможно. У них была родная дочь, на год старше Мариам. Ее звали Вивьен, она следила за Мариам и доносила родителям, когда та нарушала какое-нибудь из множества родительских правил. Отец был учителем, устраивал ей контрольные по чтению и умственному развитию и говорил, что она отсталая. Он установил для нее расписание, чтобы улучшить ее обучаемость, и задавал домашние работы. Дочь докладывала о любом нарушении режима, но перед этим сама отчитывала Мариам за глупость, щипала и шлепала. Мать учила ее, как вести себя за столом, где держать руки, когда ложишься спать, и тщательно подтираться, чтобы не пачкать трусики. В итоге семья так и не смогла ее полюбить, хотя Мариам прожила у них больше года. Они старались, но исправить ее не могли и отправили обратно.
К этому времени Мариам исполнилось девять лет и она вполне сознавала свою никчемность. Поэтому, когда ей нашли новую приемную семью, где новая мама называла ее Мариам, гладила по головке и говорила, какая она милая девочка, она решила изо всех сил стараться быть милой, чтобы новая мама ее никогда не разлюбила. Ей выделили отдельную комнатку, новая мама украсила ее картинками животных и повесила на нитке над кроватью алую с золотом бабочку. Это была худенькая улыбчивая женщина с булькающим смехом. При звуке его Мариам сама начинала смеяться. Мама была медицинской сестрой, а новый отец – электриком в той же больнице. «Это психиатрическая больница – понимаешь, что это значит?» Так с ней разговаривали с самого начала. Сколько помнила Мариам, с ней никто так не разговаривал, не ждал от нее вопросов, не старался всё объяснить. По крайней мере, так ей хотелось помнить маму – человека, разговаривавшего с ней не так, как все другие, и ожидавшего от нее любознательности. Звали ее Феруз, и родом она была с Маврикия, так она сказала. А мужа звали Виджей, он был родом из Индии. Феруз достала атлас, показала, где Маврикий, рассказала, как остров получил название, что он когда-то был необитаемым, кто живет там теперь и чем они занимаются. Потом показала, где Индия, показала город, откуда Виджей родом, вернее, город, ближайший к деревне, где он родился. Словом, показала карту, рассказала о местах, про которые Мариам никогда не слышала, дала какое-то представление о большом мире.
И многое рассказала об их жизни. Виджей сильно хромал: в детстве он попал под машину, и у него что-то неправильно срослось. Из-за религии родители решительно противились их женитьбе. Ее родные были истовыми мусульманами, видными людьми на Маврикии и запретили ей выходить за индийца, а у Виджея – темными крестьянами, и они слышать не хотели о мусульманке. Может быть, дело облегчилось бы, если бы они завели детей, но они не могли. Может быть, они слишком обидели родителей, а без их благословения им не дано было родить. Но теперь у них была милая девочка, и они даже вспоминать не хотели о своих тяжелых семьях. Они сами будут семьей.
Такова была история Феруз, и Мариам рассказала ее своим детям. Рассказала не всё – не о том, как поломалась жизнь и она навсегда потеряла Феруз и Виджея. Она не знала, как говорить о некоторых вещах с детьми, еще не взрослыми. Историю свою она заканчивала рассказом об их отце. Он был тогда матросом, приехал в Эксетер повидаться с другом. Когда познакомился с Мариам, устроился на работу, чтобы быть поближе к ней, но Феруз и Виджей его невзлюбили, и они решили сбежать. «Yallah, давай уедем отсюда», – так он ей сказал. Такова история их любви. Так она ее рассказала. Они встретились и сбежали, и больше он не возвращался в море. Детям понравились эти слова: «Yallah, давай уедем отсюда», – и они иногда говорили так в шутку.
Кода появилась Ханна, Мариам хотела связаться с Феруз, но не смогла ее найти. На письма ответа не было, а однажды, когда набралась храбрости позвонить, телефон молчал. Она пожалела, что так долго откладывала.
Он потихоньку выздоравливал, и у них постепенно складывался новый распорядок. Конечно, какой-то распорядок был всегда, он менялся с годами, как менялась их жизнь. Так бывает, когда вместе стареют, – шаркаешь, уступаешь пространство, учишься быть удобным – если тебе повезло. Может быть, она всерьез не думала, что они стареют вместе. Себя она старой не чувствовала и Аббаса не воспринимала как старика, хотя многие признаки явно говорили о возрасте, даже еще до болезни. Не из-за старости им стало уютно друг с другом. Скорее это привычка жить вместе, когда нет нужды что-то обсуждать, а о чем-то вообще заговаривать не надо – из вежливости, чтобы не потянулось за этим другое. Она видела людей, приходивших в больницу, семейные пары, такие усталые, побитые жизнью, что непонятно было, кто из двоих больной. Вот он хлопочет над ней, поддерживает, когда она спотыкается на неровной плитке, а потом она терпеливо ждет, пока он решает, идти им прямо или налево или спросить у кого-то дорогу. Потом она делает шаг, берет его под руку, они достигают какого-то согласия и движутся дальше.
Утром она вставала первой, как всегда, спускалась в кухню и заваривала чай. Чай пили в постели, почти молча, порой задремывая на несколько секунд. Она любила эти тихие минуты наедине, неторопливость; иногда он обещал, что на будущей неделе первым встанет и заварит чай. «Да, – соглашалась она, – когда окрепнешь». После чего вставала, умывалась и живо спускалась вновь – приготовить себе завтрак и собраться на работу. Так было у нее всегда: минуты покоя, а потом суматоха, спешка – история ее жизни, она не умела держать ровный темп. Накрывала ему стол: он завтракал позже. Даже когда был здоров еще, перед работой выпивал только чашку чая и перед уходом прихватывал яблоко или грушу – привычка к экономии с ранних лет. Она знала, что, спустившись, он отставит тарелку и приборы в сторону и нальет себе чай. К ее уходу он уже поднимется с кровати, вымоется, оденется и сядет в гостиной с какой-нибудь книгой. Когда он немного окреп, это снова была «Одиссея», и она уходила, думая, что скоро закончится этот вынужденный отпуск и он выйдет на работу. Иногда утром он выходил купить газету, но читать о том, что творится в Ираке, было для него невыносимо, так что чаще он просто выходил пройтись.
Однажды субботним утром, разбирая только что купленные в супермаркете продукты, она услышала какой-то тихий звук в гостиной, еще успела подумать, что он уронил книгу, но тут же послышался его сдавленный голос: «Ох, yallah». Она побежала туда – он лежал в кресле и тяжело дышал. Лицо было искаженно от боли, тело завалилось вбок, и его трясло. Она сделала, как учили, – разжала зубы ложкой убедиться, что не проглотил язык. Потом позвонила в скорую помощь, уложила его на пол, чтобы легче было дышать, готовая сделать искусственное дыхание изо рта в рот. Когда приехала скорая, он был без сознания, но дышал сам. В машине на Мариам навалился страх, уже хорошо знакомый. Он умрет.
Ханна и Джамал приехали в тот же день, и все они услышали от врачей, что у Аббаса инсульт и оценить его тяжесть можно будет лишь через несколько дней. Сейчас ему дают снотворное, чтобы организм частично восстановил равновесие, но пока непосредственной опасности для жизни, вероятно, нет. Втроем они пошли посмотреть на него. Он как будто усох – худой, темнокожий, с трубками в ноздрях и у локтя, но дышал самостоятельно. «Он не умрет», – твердо подумала Мариам. «Он не умрет». Она хотела сказать это детям, но они, наверное, и не догадывались, насколько близко прошла угроза.
Врач их успокаивал. Возможно, для детей Аббас выглядел еще непривычнее, чем для нее, – последний раз они видели его еще до болезни – и ее, и его не навещали несколько недель и, вероятно, представляли их себе здоровыми и благополучными. А может, это всё ее сентиментальность – полагать, что дети наивнее, чем на самом деле. Может, они нисколько не были удивлены, когда стояли у кровати отца и скептически слушали ее заверения, что он поправляется. Они прекрасно знали, сколько ему лет, и втайне ужасались тому, что может ждать их впереди.
Домой они вернулись мрачными, но потрясение сблизило их, как подобие траура. Они пошли за Мариам на кухню и, пока она готовила ужин, говорили о папе, вспоминали его чудачества. Потом Джамал ушел в гостиную смотреть их древний, как он выражался, телевизор.
– У тебя есть в доме выпить? – спросила Ханна, заглянув в несколько кухонных шкафов.
Мариам кивнула на крайний справа и посмотрела на дочь, повернувшуюся к нему с решительным видом. Ханне очень хотелось выпить. Ей было двадцать восемь лет, она уже пять лет учительствовала, а теперь собиралась уйти с работы и переехать со своим другом Ником в Брайтон, где он получил место преподавателя в университете. С каждой встречей Ханна казалась матери всё более уверенной: голос, взгляд, манера одеваться, как будто всякий раз это определялось сложным выбором. Да, конечно, без выбора не обойтись, но казалось, что дочь сознательно переделывает себя из той, какой она себе не нравится. Мариам замечала, что и речь ее меняется, прежний голос уходит, и уже звучит другой, тоже теплый (по большей части), но с нотками вызова и светскости, чего раньше не было. Теперь это был голос молодой англичанки, делающей карьеру. «Не так ли и другие родители присматриваются к своим детям, – думала она, – наблюдают, как они превращаются в мужчин и женщин, и учатся вести себя с ними осторожнее? А сами дети – что они думают, глядя на нас? Как с нами трудно, какие мы скучные, какими несостоятельными оказались?» У нее самой не было родителей (настоящих), не было семьи, и невозможно было сравнить то, что она знала теперь, с тем, что знала прежде. И Аббас никогда (почти никогда) не вспоминал родителей, так что ей оставалось только гадать, додумывать.
– Теперь ему придется уйти на пенсию? – сказала Ханна и отпила из бокала. – Ты сумеешь собрать документы, или тебе помочь?
– Да-да, ему придется уйти, – ответила Мариам.
Если останется жив. Вопросы были заданы из лучших побуждений, но в разговорах с матерью Ханна держалась какого-то настойчивого тона, словно у той плоховато с памятью.
– Подождем, что скажет доктор. Но думаю, скажут, что пора на пенсию, – продолжала она.
– Хорошо, сообщи, если понадобится моя помощь, – сказала Ханна. Она подошла к матери и обняла ее. – Ник шлет тебе привет. Жалеет, что не мог приехать. Он ездит на работу в Брайтон и устает, но через две недели переезжаем. Он снял квартиру, а я нашла преподавательскую подработку. Первое время будет суетливо, но, если понадобится, я приеду.
– Да, сообщу, но сейчас хочу только, чтобы ему полегчало, – сказала Мариам, не в силах справиться с дрожью в голосе.
На другой день, перед тем как Ханне уезжать в Лондон, они навестили Аббаса. Мариам повезла Ханну на вокзал, а Джамал остался в больнице. Он сидел у постели отца, смотрел на его лицо, спокойное и ясное, несмотря на трубки, и улыбался. Не верил, что тот скоро умрет. Отец дышал ровно, глаза были закрыты, он молчал и был, казалось, где-то далеко. Но пепельный цвет лица, движения дряхлого горла говорили о перенесенной боли и, может быть, еще не отпустившей. Отец был молчуном, предпочитал одиночество, так что, возможно, не испытывал сейчас мучений – там, где пребывал сейчас. Это была лишь фантазия сына – так ему хотелось верить. Мать часто говорила, как они похожи, Джамал и Аббас, в своей любви к тишине. Может быть, и правда, но молчания Аббаса бывали мрачными, в его тяге к уединению было что-то угрожающее, словно там, куда он отправлялся, встретиться с ним было бы неприятно. В этих случаях лицо его становилось угрюмым, недовольным, он хмурился, в глазах стояла то ли боль, то ли стыд. Когда он заговаривал в таком состоянии, даже с Мариам, голос его был груб, а слова тяжелы. Джамал терпеть не мог этих его настроений и в особенности того, как он говорил с матерью. Он внутренне сжимался от тревоги – что последует за его словами, как сильно они должны ранить мать. Он сидел у постели отца, смотрел на худое лицо, спокойное после утихшей боли, и думал, что не хочет вспоминать эти мрачные молчания, этот рычащий голос. Он хотел думать о другом папе и, сидя с ним рядом, проникнуть в его мысли: это дало бы ему силы отразить отца угрюмого.
Когда они были детьми и не очень шумели, а папа был в настроении, он любил рассказывать им истории. (Джамал вспоминал его таким – смешливым рассказчиком, увлеченным своими фантазиями.) Он начинал, и они сразу к нему подсаживались. Иногда он даже кричал: «По местам!», чтобы они скорее сели. «”По местам!” – командуют дети, когда играют в матросов», – объяснял он. Какие дети? Где? На эти вопросы он не трудился отвечать. Велел замолчать и сесть рядом. Они садились как можно ближе и, широко раскрыв глаза, слушали чудесные небылицы. Истории были самые невероятные, и Джамал с Ханной слушали раскрыв рот. Он умел их увлечь, и они видели по его лицу, что истории правдивые. Свои небылицы он рассказывал так, что и они им верили, и, наверное, сам начинал верить по ходу рассказа. Один рассказ был о том, как за ним гналось стадо смеющихся слонов. Он описывал их детям – огромных, с топотом бежавших за ним, громоздких, толстокожих, вислоухих, хохочущих, сопящих, с качающимися на ходу громадными животами. Вы знаете, почему их называют толстокожими? Потому что их не прошибешь. Он их обманул в конце концов – повалился на землю. Слоны стояли вокруг него, и уже не смеясь, а с грустным недоумением. Потом ушли. «Надо понимать, – сказал им папа, – что слоны считают недостойным топтать кого-то смирно лежащего на земле. Но лежать надо совсем тихо, иначе тебе конец, каюк, крышка».
В другой раз папе пришлось играть в прятки с голодной акулой среди коралловых рифов Сулавеси. «Тамошние акулы знамениты своей величиной и прожорливостью, – рассказывал он. – Они любят свою работу – рыскать по океану и набрасываться на всё, что попадется. Если наблюдать за ними внимательно, держась на расстоянии, конечно, увидишь, как они с улыбкой раскрывают громадную пасть и заглатывают проплывающую мимо безобидную рыбку-попугая. Но они не умные – вечно натыкаются на разные предметы, и если держаться подальше от этих громадных зубов, то можешь уцелеть». Эта акула в Сулавеси часами гонялась за ним, но в конце концов папа ее обманул, заплыв в узкий коралловый коридор; акула же застряла в нем, и папа спасся.
А однажды он неделю просидел на дереве, когда стая гиен с лаем караулила его внизу и, подняв зады, пускала в его сторону струи ядовитого кала. Вы не знали, что дерьмо у гиен жгучее? Это их страшное оружие. Гиены стреляют калом в глаза своей жертве и потом набрасываются. У папы не было выбора – только взобраться повыше на дерево и ждать, когда они опорожнят свой боезапас. Он даже задремать боялся, чтобы не сползти по стволу: иначе страшные гиеньи челюсти раскусили бы его кости в два счета.
А любимым у них был рассказ о говорящем верблюде. Папа был моряком до того, как познакомился с мамой, побывал везде и в Индии познакомился с говорящим верблюдом. В Индии полно чудес: небывалых волшебных зверей; а еще Ладху, халва-бадам, драгоценные камни, которые вылупляются из птичьих яиц, мраморные дворцы и ледяные реки. Говорящий верблюд рассказывал папе разные истории, и они так подружились, что папа пригласил его в гости. Так что, может, они с ним еще познакомятся, хотя Индия далеко и говорящему верблюду долго идти до Англии. А пока что папа рассказал детям кое-что из историй, которые ему рассказал говорящий верблюд. Историй было без конца и края – столько их знал верблюд. В них не было ни гиен, ни акул, а только верблюжата, обезьяны, лебеди и разные другие маленькие дружелюбные создания.
Иногда он рассказывал им настоящие истории, которые знал с детства. Но только по особым случаям и когда они были моложе – в дни рождения и на Рождество. С днями рождения вначале было сложно – папа считал, что в них есть самодовольство, иностранцы портят ими своих детей. Что в тебе такого важного, чтобы праздновать день твоего рождения? Свой день рождения он не празднует. Мама свой день рождения не празднует. Никто не празднует. Кроме европейских иностранцев, он не знает никого, кто празднует день рождения. Чем они важнее мамы и папы и всех остальных в мире неевропейцев? Никаких дней рождения. Но в конце концов он вынужден был уступить, и на дни рождения мама пекла торт, ставила в него свечи, готовила особые угощения, и однажды, вернувшись с работы, отец увидел увешанную воздушными шарами кухню и маленькую вечеринку на полном ходу. Так что оставалось только улыбаться, признав поражение, и наблюдать торжественную радость детей. «Yallah, мы становимся цивилизованными», – сказал он. С Рождеством было так же трудно поначалу: расточительный праздник языческого пьянства – так он его называл. Но однажды втайне от всех он купил маленькую серебряную елку и гирлянду лампочек и смеялся вместе с детьми, когда они с радостным удивлением прыгали вокруг. Когда они утихомирились, все сели на пол кружком – мама, Ханна, Джамал, – и он начал. Hapo zamani za kale. В старые добрые времена. Для разных персонажей у него были разные голоса. Когда смеялся жестокий человек, голос у папы становился хриплым и злым, он крутил воображаемый ус и расправлял свои худые плечи, как драчун. Когда красивая молодая мать молила о помощи, он делался жалким, заламывал руки и моргал. Когда хороший человек наводил в мире порядок, он становился властным, решительно поднимал подбородок и сверкал глазами. Это было примитивное актерство, но дети были в восторге, и, когда он закончил, они аплодировали и осыпа́ли его поцелуями. Он тоже был доволен, их папа: улыбался, похохатывал и умолял маму спасти его от детей.
Джамал улыбнулся, вспомнив это представление, и наклонился, чтобы тронуть отца за руку. А спектакли эти были особенно забавны оттого, что папа не был веселым или шумным человеком. В отличие от мамы, он не участвовал в их веселых играх и не любил, когда они шумели. Возможно, потому, что был намного старше мамы. Мама соглашалась вести себя по-детски, но папа снизойти до этого не мог. Когда наступало время телевизора, он уходил наверх; но надо сказать, что прогоняли его детские передачи и старые мюзиклы по выходным. Он смотрел новости. Часто он уставал после работы, целый день его не было дома, он успевал отвыкнуть от их возни, криков, беззлобных детских препирательств. Но сам был тихим и, наверное, с годами делался еще тише. Когда Джамал подрос, ему казалось порой, что молчанье отца означает, что он его огорчил, – чем, непонятно. Каким утомительным бывает потомство: не можешь посидеть тихо – тут же начинают думать, что чем-то тебя огорчили!
В общем, папа был неразговорчив. Никогда не подходил к телефону, почти никогда. Когда был один дома, телефон мог звонить и звонить, пока звонивший не сдавался. Здесь никого нет, уважаемый. Мама придумала способ, как подозвать его к телефону в случае надобности. Два звонка и отбой. Еще два звонка и отбой. Третий раз звонить, пока он не подойдет. На третий он всегда подходил. Когда все были дома и как-то развлекались, он мог сидеть с ними, но участия обычно не принимал. Не потому, что был недоволен, не ворчал – почти никогда, – просто сидел на своем обычном месте, иногда улыбался, иногда произносил несколько слов, но ворчал очень редко. Только когда на него вдруг накатывало – тогда его было не остановить, пока не выговорится. Остановить его или сменить тему было невозможно – как бывает с политиками, когда им задают вопрос, на который они не хотят отвечать. А обычно, если не очень шумели, сидел с газетой, с кроссвордом или книгой и говорил мало. Да, мало говорил. Он любил книги о море, приключения, романы, книги о морских обитателях, о странствиях, путешествиях, о человеческой стойкости. Они обожали, когда он пересказывал их и разыгрывал. Это было тем радостнее, что они помнили, каков он в других настроениях.
Когда они были маленькие и до той поры, когда Джамалу исполнилось десять или одиннадцать, они часто выезжали на природу. Папа любил эти вылазки. Он находил в местной газете объявления о чем-то занимательном и говорил: «Дети, давайте поедем, посмотрим, что там будет в воскресенье». Воскресным утром они прихорашивались, одевались, как будто предстоял далекий путь, брали одеяло для пикника, полотенце на случай, если что прольется, и дождевики. Далеко не ездили, но накануне вечером папа изучал карту дорог, как будто они собирались в экспедицию, а он был руководителем. Они посещали ботанические сады, заказники, древние церкви, ярмарочные представления, разъездные выставки. Мама никогда не противилась его выбору. Экскурсиями командовал он. Она только готовила еду: сандвичи с помидорами – папа их обожал, а остальные терпеть не могли, – сандвичи с сыром, тефтели, йогурты, чипсы, лимонад и термос сладкого чая с молоком специально для папы. Набор всегда был один и тот же, и Джамал знал, что до конца жизни, когда подадут тефтели, он будет вспоминать эти вылазки. Собравшись, они садились в машину и выезжали. Иногда через несколько минут им приходилось возвращаться – папа спрашивал: «Ты заперла заднюю дверь? Отопление мы выключили? Мой бумажник у тебя?» За рулем всегда была мама, а папа, как турист, поглядывал вокруг и привлекал внимание детей к самым обычным видам: к овцам на лугу, к ветряной мельнице, к веренице столбов в поле. Если даже цель поездки казалась странной, Ханна и Джамал строили рожи друг другу, но всё равно радовались. В поездке всегда бывало угощение. Иногда мама запевала веселые песни, и папа старался терпеть шум.
Ханна иногда говорила Джамалу, что они странная семья, чудна́я. Мама была подкидышем, не знала настоящих родителей, а папа о своих никогда не говорил. Джамалу их семья не казалась необычной или странной, но с Ханной, когда она это говорила, соглашался. В ее рассказах так получалось. Он не помнил, когда впервые услышал рассказ о детстве матери и от кого услышал – от нее или от Ханны. В детстве всё ему рассказывала Ханна. Но казалось, он всю жизнь знал эту историю, только с годами смысл ее как будто расширялся, и всё более странным представлялось молчание папы. Он не помнил, было ли им велено не рассказывать чужим о детстве матери, но он не рассказывал. Никогда и никому. С годами мама, случалось, заговаривала об этом, иногда он узнавал какую-то новую подробность. Эти ее рассказы были не такие, как те, что родители перебирали вместе, пересказывали друг другу, смеясь над памятными эпизодами, которые изначально вовсе не были смешными, истории об их любви, ухаживании, о стойкости и нелепостях, иногда на грани катастрофы. История жизни матери складывалась из отрывочков – посреди рассказа другой истории или выговора детям вспоминалось какое-то чувство или впечатление, когда мысль начинала блуждать. А Джамал слушал по-особенному, не потому, что этому научился или заставлял себя, – это пришло само. Он слушал молча. Не перебивал, не спрашивал о подробностях. Теперь он задавался вопросом: так ли слушают все дети, или это он был таким послушным и одиноким мальчиком, или мамины рассказы были такими занятными, что не требовали вопросов? Мама кратко излагала ситуацию, он рисовал ее в своем воображении и помещал этот образ среди уже имевшихся.
Начислим
+10
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе