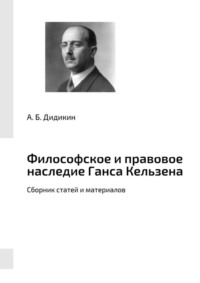Читать книгу: «Философское и правовое наследие Ганса Кельзена. Сборник статей и материалов»
© А. Б. Дидикин, 2018
ISBN 978-5-4490-7075-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
СТАТЬИ
НОРМАТИВИЗМ И ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ
Нормативизм относится к числу наиболее известных концепций в философии права и аналитической юриспруденции, получивший также название «чистое учение о праве». Методологически это означало раскрытие сущности права вне зависимости от политических, социологических и психологических факторов, которые определяют социальные и исторические основания развития правовой системы. Критики Ганса Кельзена указывали нередко на то, что этот методологический проект не удался, и что его автор напрасно догматически поддерживал свою концепцию на протяжении всего научного творчества. Однако некоторые аспекты мировоззрения Г. Кельзена и ставшие доступными его публикации позднего, «американского периода» жизни (1943—1973 гг.), позволяют более детально осмыслить его научные и философские взгляды о государстве и праве.
Философия права Ганса Кельзена (1881—1973) является примером детально проработанного с теоретической и методологической точек зрения учения, в котором в концентрированном виде были отражены попытки дать ответы на классические философско-правовые вопросы. Г. Кельзен стремился дать рационально-логическое обоснование существованию правовой реальности на основе гипотетических правовых конструкций, и допуская существование правовой реальности в метафизическом смысле. 1
Отношение к научному наследию Г. Кельзена в России было и остается неоднозначным и двусмысленным, в отличие от достаточно большого количества исследований за рубежом. С одной стороны, нормативизм (или «чистая теория права») изучается в юриспруденции и является одной из основ восприятия различных концепций сущности права. С другой стороны, наследие Г. Кельзена в различные периоды его жизни не только игнорируется, но и практически не изучается – за последние два десятилетия так и не появились монографии, посвященные малоизвестным страницам трудов Г. Кельзена, многие научные статьи Г. Кельзена до сих пор не переведены на русский язык. О Кельзене как философе, и в том числе как историке философии, не упоминается порой даже в философских и научных обзорах.
Исключение составляют публикации российского ученого-правоведа М. В. Антонова, в том числе его многолетняя работа по публикации переводов отдельных работ Кельзена, а также публикации А. А. Краевского. Кроме того, помимо известного с конца 80-х гг. перевода «Чистого учения о праве» (новая и полная версия этого перевода опубликована М. В. Антоновым в 2015 г.), существуют переводы отдельных произведений Г. Кельзена и их фрагментов на русском и украинском языках, что в целом совершенно недостаточно для комплексного изучения его философского и научного наследия. Правовые взгляды Г. Кельзена в области конституционного и международного права также практически неизвестны постсоветской юриспруденции (поскольку статьи Кельзена 40-50-х гг., посвященные теории демократии и международного права, недоступны в переводах и не цитируются учеными в оригинале), за исключением недавней публикации на Украине в 2014 году. 2 3 4 5 6
ГАНС КЕЛЬЗЕН КАК ИСТОРИК ФИЛОСОФИИ
Влияние Марбургской школы неокантианства и аналитической философии способствовало формированию у Г. Кельзена глубоких и обоснованных идей для реконструкции истории античной философии. Г. Кельзен как историк философии опубликовал серию историко-философских статей в 30-е годы XX столетия в ведущих западных журналах, в частности, статьи в журнале в 1938 г. Годом ранее в « Кельзен опубликовал статью «, посвященную исторической и интеллектуальной реконструкции философии Аристотеля, в которых им был предложен интересный методологический подход в контексте теории нормативизма – попытка реконструировать этические и политико-философские взгляды Платона и Аристотеля в свете их представлений о метафизике. Такой принцип единства позволяет не только подчеркнуть оригинальность аргументации, но и вписать философские взгляды мыслителей в социально-исторические условия его времени. Труды Г. Кельзена написаны как обширные по содержанию и аргументации трактаты о философии Платона и Аристотеля, и заслуживают внимания. Platonic Justice Ethics International Journal of Ethics» The Philosophy of Aristotle and the Hellenic-Macedonian Policy» 7 8
Кельзен отмечает, что фундаментальной основой метафизического учения Платона является радикальный дуализм мира идей и вещного мира, когда душа может созерцать трансцедентное, бескрайнее и вневременное царство идеи как вещи в себе, истинной и абсолютной реальности, противопоставленной чувственно воспринимаемой эмпирической реальности, подобной иллюзии. Рациональное постижение истинного знания тем самым относимо лишь к миру идей, в то время как чувственное восприятие порождает лишь мнение. Отсюда рассуждения платонизма в форме противоположностей между духом и природой, ценностью и актуальностью, мыслями и чувствами, активным творчеством и пассивной восприимчивостью. По мнению Кельзена, метафизический дуализм в платонизме неизбежно проецируется на этический дуализм добра и зла как наиболее глубоких по содержанию категорий. Сам по себе переход между двумя мирами идей и вещей мыслится в контексте противопоставления мира ценностей и мира, где ценности отсутствуют. Таким образом, первый тезис нормативизма применительно к интерпретации философии Платона – это первичность этики по отношению к метафизике. Кельзен полагает, что сама форма диалога как способа философского рассуждения в произведениях Платона приводит к пониманию того, что именно нравственные идеи выступают целью аргументации оппонентов, а не сведение таких рассуждений к изменчивой практике и земным благам. Чистое мышление, создающее гипотетические сущности в учении нормативизма (как, например, понятие «основной нормы»), в историко-философской реконструкции платонизма создает подобный же образ чистого рационального мышления, ведущего к пониманию блага. Мир идей содержит в себе идею добра как центральную и основную идею, и эта идея противопоставлена по смыслу миру чувственно воспринимаемых вещей, миру зла. И по аналогии с нормативизмом, тяготеющим к апелляции к абсолютным и неизменным сущностям, такая интерпретация метафизики платонизма представлена Кельзеном как логически обоснованная. Мысль, направленная на познание высшего блага, должна быть выше чувственного восприятия (формирующего лишь мнение, а не знание), точно также как этика приоритетна по отношению к естественным наукам для того, чтобы благо было действительно реализовано. В то же время Кельзен полагает такой дуализм в философии Платона пессимистическим, поскольку переход от мнения к знанию неясен и непрозрачен.
Платонизм интерпретируется в концепции нормативизма как пример возможности направить интеллектуальные усилия моралиста в область политической практики. Вся статья Кельзена посвящена обоснованию тезиса о том, что этика Платона побуждала его предпринимать активные политические действия по воплощению идеала справедливости и реформированию политического строя (Kelsen 1938, p. 368—369). В платонизме справедливость выступает критерием единственного оправдания управления одних людей над другими, и потому изменения системы управления возможны лишь в случае изменений в сообществе людей, в понимании ими идеи общественного блага. Человеческие страсти могут и должны быть направлены на исполнение патриотического долга перед государством и это должно быть целью деятельности политиков – сформировать сообщество ответственных перед государством граждан. Для платонизма идея образования и воспитания становится ключевой в механизме обеспечения законов и построения идеального государства. Кельзен полагает, что внимание Платона к распределению обязанностей между социальными группами в скорее характеризует мыслителя как политика, а не теоретика и мыслителя. Но политическая активность Платона, зафиксированная в его жизненной биографии, не позволяет судить о наличии у него воли к власти и качеств настоящего политика. Скорее он проповедует о справедливости и политических инструментах ее достижения. И на этом пути сформированный им образ философа как идеального правителя в государстве, обладающего идеей блага и добра в полном объеме, является как раз таким инструментом. Этика и политические действия. Platonic Justice Государстве
Платон настойчив в своей идее дать философам как знатокам истинной философии возможность управлять государством. Кельзен полагает, что эту идею платонизм черпает из реальной биографии Платона, несколько раз участвовавшего в политических событиях на Сицилии с целью внедрения идеальных представлений об управлении в условиях политической тирании. Кроме того, использование в платоновских диалогах гипотетических фигур собеседников (оппонирующих Сократу, или друг другу) позволяет Платону прибегать к риторическим и мифологическим приемам, проповедовать, а не обосновывать философские суждения. В нормативизме делается важный тезис в связи с этим, что Платон как политик превращает теорию не в инструмент поиска нового знания, а скорее в средство направить волю на эффективное управление государством и его институтами. И чем более правильным в этическом смысле будет представление о благе и справедливости, тем более эффективными станут политические действия. Для нормативизма это особенность методологической позиции, поскольку Кельзен в представлении о государстве рассматривает его как тождественное правопорядку, системе правил, установленных обществом. В такой системе правил правитель не может быть не связан с системой относительных ценностей, разделяемых в обществе. Диалектические рассуждения в платонизме направлены, по сути, на то же самое – знание выступает средством осуществления правильных действий.
Однако в нормативистской интерпретации Кельзен не останавливается только на постулировании Платоном политического идеала. Формулировка законов, регулирующих социальные отношения, и осмысление этих законов в общественных науках ведет к тому, что эти науки могут быть поставлены на службу политике и идеологии, а не поиску исключительно объективного знания. Кельзен полагает, что в платоновском идеальном государстве ложь и обман могут быть средством улучшения благосостояния общества и управления им. Необходимость лжи в платонизме объясняется, например, государственным регулированием вопроса рождаемости, поскольку дети, рожденные в семьях, отбираются государством по их талантам и склонностям, воспитываются применительно к конкретным социальным группам и обязанностям перед государством. Отсюда восприятие поэзии как имитирующей и создающей иллюзии творческой деятельности и по своей сути вредной для развития идеального государства. Платон обосновывает право государства определять и формировать мнение своих граждан в нужном для государства направлении характерным примером образного разделения граждан на три хора – для мальчиков, молодежи и стариков. Каждый такой хор должен петь песни, предписанные государством и воплощающие учения, полезные государству, в частности учение о том, что справедливость способствует счастью, а несправедливость – несчастью граждан. Впрочем, это провозглашенное учение может быть воспринято гражданами по-разному, и потому законодатель может использовать более полезные фикции для побуждения граждан к соблюдению властных предписаний. Тем самым наука, поэзия и религия должны быть направлены на обслуживание политической идеологии и системы политического управления. Этика и политическая власть.
Кельзен полагает, что Платон вплотную подходит в таких рассуждениях к возможности ограничения личной свободы ради интересов всего общества, установления монополии государства на транслируемую идеологию, выступая в данном случае прагматически мыслящим политиком о том, что все полезное для государства будет выражением справедливости и истины. Но оговорки в духе радикального дуализма все же сохраняются, ведь с одной стороны в метафизике платонизма существует теория идей как высшей и абсолютной цели рационального познания, а с другой стороны в платоновском учении признается существование множества мнений и религиозных представлений, которые могут выступать средствами политического управления в конкретном обществе. Для политической философии Платона политическая и религиозная истины первичны по отношению к рациональной научной истине (Kelsen 1938, p. 383). В платоновских диалогах описание того, как душа достигает другого мира после смерти, сопровождается признанием неуверенности, что разумный человек может обосновать соответствие этих рассуждений действительности. Аналогично в утверждение о том, что знание зависит от воспоминаний души об увиденном в других мирах до ее рождения, дополняется в споре Платона с софистами неуверенностью мыслителя в правильности высказанных им аргументов (Kelsen 1938, p. 385). Меноне
Представление о справедливости как проявлении добра и возмездии за зло, по мнению Кельзена, часто приводит к незавершенным или неясным рассуждениям в платонизме. Если в и Платон обсуждает правильность тезисов о том, что лучше страдать от несправедливости, чем совершить ее, или же, что лучше подчиниться законному наказанию, чем уклоняться от него, то возникает вопрос о сущности идеи справедливости. Справедливость в том, чтобы каждый получал по заслугам? Но в чем состоит сущность добра, отрицанием которого является зло? Кельзен полагает, что рассуждения Платона о справедливости в контексте природы добра и блага оказались незавершенными. В то же время в материальном мире государство выступает аппаратом возмездия и обеспечения справедливости и это выступает основанием формулировки концепции идеального государства в платонизме (Kelsen 1938, p. 390). Противоречия платонизма. Горгии Государстве
Г. Кельзен утверждает, что этика и политическое учение Аристотеля существенно важны для осмысления моральных проблем современного миропорядка. Учение о добродетелях остается важным и для понимания природы юридических норм, и для осмысления форм государства, и для формирования общественного идеала. Тезис Г. Кельзена о необходимости постижения аксиологии Аристотеля через метафизику детально раскрывается в структуре его статьи о философии Аристотеля (Kelsen 1937, p. 1—64). Он утверждает, что в своем учении о бытии Аристотель остается учеником Платона, в частности разделяет его принцип дуализма между идеями и реальностью. Это проявляется в анализе различий между Богом и материальным миром, причем Бог рассматривается как трансцендентальная абсолютная ценность, наивысшее бытие, по отношению к которому мир как совокупность эмпирических явлений взаимосвязан через существование моральных ценностей. В концепции Божества Аристотель подчеркивает различие онтологии и аксиологии через наличие противоположностей между формой и содержанием, движимым и недвижимым, материальным и нематериальным, чувственно постигаемым и непостижимым. В учении Аристотеля о Боге как перводвигателе и первопричине, по мнению Г. Кельзена, проявляется аргументация мыслителя о взаимосвязи этики и метафизики. Нематериальное и неподвижное не существует в пространстве, поскольку это источник всякого движения, сам по себе остающийся неподвижным. Такой перводвигатель не только неподвижен, но и выступает абсолютной причиной. Его способ бытия – причина происходящих в мире явлений, и такой способ бытия является благом. Г. Кельзен утверждает, что аристотелевская метафизика определяет Бога как персональное бытие, не существующее с точки зрения воли и действия, а существующее лишь в мышлении. Это наивысший уровень человеческого опыта и счастья в предполагаемой системе ценностей. В таком случае понятие добра идентично существованию Божества, порождающего все процессы в чувственно воспринимаемом мире. Философия Аристотеля.
Г. Кельзен настойчиво приводит примеры из «Метафизики» Аристотеля, подтверждающие признание абсолютного блага в мире по аналогии с философским учением Платона. Эмпирическая реальность составляет лишь некоторый уровень блага, в то время как в Боге как перводвигателе проявляется абсолютное благо. Отсюда, по мнению Г. Кельзена, наблюдается неразрывная связь и единство онтологии и аксиологии у Аристотеля. 9
Еще один важный методологический аргумент, который приводит Г. Кельзен при реконструкции философских взглядов Аристотеля, – это утверждение об обосновании абсолютной монархии как формы правления в онтологическом учении мыслителя. Такой неожиданный поворот его рассуждений в значительной степени связан со спецификой аргументации нормативистского учения Г. Кельзена. В его трудах неоднократно прослеживается связь между восприятием социально-политической реальности в контексте системы ценностей, подлежащей философскому обоснованию. Так, например, Кельзен в своих статьях детально обосновывает тезис о том, что признание существования абсолютных ценностей предполагает признание монархической формы устройства власти в государстве, в то время как демократическое устройство основывается на принципе релятивизма и изменчивой системы ценностей. В такой же форме Г. Кельзен приводит аргументы и в концепции ограниченного суверенитета государства с точки зрения международного правопорядка. Такая радикальная аргументация связана с тем, что в нормативизме представление о правовой реальности и сущности права отличаются от традиционного понимания права как совокупности эмпирически наблюдаемых юридических норм, регулирующих поведение людей. В основе иерархии правовых норм и иных видов социальных норм в нормативизме лежит высший принцип, сформулированный как трансцендентально-логическое допущение, – основная норма. Основная норма не является эмпирически наблюдаемой, и является результатом рациональной реконструкции. Отсюда признание в аристотелевской метафизике Бога как абсолютного блага и первопричины и означает, по мнению Г. Кельзена, существование абсолютной монархии как наилучшей формы правления. Такое утверждение австрийского ученого является спорным, учитывая, что Аристотель сравнивает различные формы правления для выбора наилучшей в «Политике», и рассматривает социально-политические условия функционирования наилучшей формы правления в «Афинской политии». 10 11 12
Увлеченность нормативистской аргументацией позволяет Г. Кельзену специфически интерпретировать аристотелевскую метафизику. Он утверждает, что в концепции Бога как перводвигателя предполагается отсутствие других неподвижных двигателей. Превосходство и субординация во взаимоотношениях двигателя и движимых объектов, субъекта к объекту напоминает, по мнению Г. Кельзена, отношения в духе монотеизма. В то же время монотеизм сочетается с признанием и политеизма, учитывая особенности античного религиозного сознания.
Г. Кельзен также останавливается на противоречиях этического учения Аристотеля о добродетелях, ссылаясь на признание философом «двойной моральности». Этическое учение основывается на антропологическом понимании человека, состоящего из души и тела, однако в душе разум и желания противоположны друг другу. Как душа над телом, так и разум должен обрести превосходство над желаниями человека, мотивируя его выбор между добром и злом. Но добро как результат разумного выбора может проявляться с точки зрения теоретического и практического разума. Аристотель разделяет дианоэтические и этические добродетели, подчеркивая специфические формы деятельности души. При этом этические добродетели, по мнению Г. Кельзена, олицетворяют гражданскую мораль, когда активное поведение человека в обществе направлено на других людей.
Г. Кельзен критически оценивает попытки Аристотеля провести параллели между этикой и геометрией, когда добро как благо определяется поиском «срединного» пути – выбора между разными видами зла, руководствуясь мудростью. Поскольку представления об этических добродетелях универсальны, то отсюда следует, как полагает Г. Кельзен, что учение Аристотеля применимо к любому социальному порядку, то есть способствует его легитимации с позиции этических добродетелей. Наивысшая аристотелевская добродетель – знание, снова указывает на связь его философских взглядов с учением Платона. Но у Платона наиболее полное знание о благе принадлежит философам, управляющим идеальным государством. А Аристотель интерпретирует этику в метафизическом смысле, не делая акцентов на конкретном идеальном политическом устройстве. Г. Кельзен полагает, что в такой интерпретации проявляются социально-исторические условия античного периода, когда древнегреческие полисы попали под контроль македонской монархии, свидетелем чего и был Аристотель. Такая социологическая точка зрения влияет и на восприятие Г. Кельзеном учения Аристотеля о правильных и неправильных формах правления. Анализируя указанные формы правления, Г. Кельзен подчеркивает, что неограниченная и наследственная монархия напоминает власть отца над сыновьями в древнегреческой семье, и, по существу, соглашается с тем, что патриархальная теория происхождения государства у Аристотеля больше соответствует выбору им наилучшей формы правления. Кроме того, в контексте античного республиканского полиса, по мнению Г. Кельзена, мифологические представления о древних монархиях остались, несмотря на формирование гражданского сознания у греков. Неслучайно, Демосфен, говоря о власти монарха над людьми, признает ее как власть господина над рабами. Тем самым в интерпретации политико-философского учения Аристотеля Г. Кельзен уделяет значительное внимание эволюции взглядов философа о сущности монархии и демократии. Позднее в Г. Кельзен представит развернутый анализ формирования идей демократии в истории и современности. Тем самым монархический и демократический общественные идеалы важны для понимания античной эпохи, в которую формируются платоническая и аристотелевская философские традиции. Такая историко-философская реконструкция Аристотеля не является для философии права Г. Кельзена неким отступлением, и напротив является способом применения нормативистской методологии. «Foundations of Democracy» 13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе