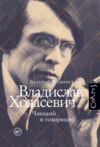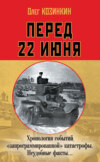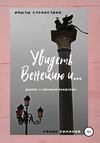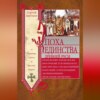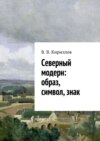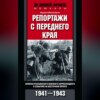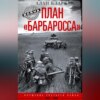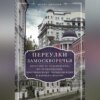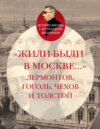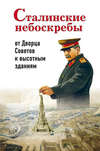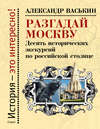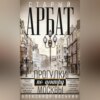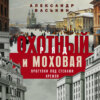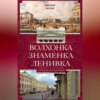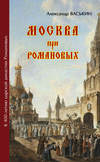Читать книгу: «В переулках Арбата», страница 3
Не иссякал поток гостей к Нестерову и в тревожные дни осени 1941 года, когда немецкие полчища рвались к Москве. Из его письма к Евгению Лансере в ноябре 1941 года мы узнаем, что в столице остались Петр Кончаловский, Константин Юон, «здесь же хотят сложить свои кости Дейнека, Павел Кузнецов, Илья Машков, Куприн, старик Бакшеев, Милорадович (которому за девяносто лет)». Михаил Васильевич пишет, что «Сивцев Вражек посещают друзья и знакомые почти как обычно, чаще других бр. Корины», рассказывает он и про свое самочувствие: «Здоровье мое так себе, что вполне естественно в мои годы, и все привходящее особого значения здесь не имеет. Неважно себя чувствует Ек. Петровна, того хуже старшая дочь и сын. Я много читаю из давно прочитанного, возобновляю в памяти Вольтера, Сервантеса и других господ, давно покинувших свое земное странствие. По „специальности“ ровно ничего не делаю. Разные запоздалые думы стучатся в стенки моего черепа».
Заходил и Щусев, живущий неподалеку, в Гагаринском переулке: «Бывает у меня и Алексей Викторович. Он, после долгих колебаний, остается в Москве, оградив свой „замок“ фанерными ставнями и ямой на дворе, куда и удаляется с семейством в часы тревог». Щусев и стал одним из последних героев Михаила Нестерова. Так было угодно судьбе. Сергей Дурылин рассказывал: «Еще в сентябре 1940 года, как-то в Болшеве, за вечерним чаем, Михаил Васильевич по секрету открыл мне, что собирается писать портрет Алексея Викторовича Щусева, с которым был связан долгой дружбой и работой.
– Щусев был как-то у меня. Народ еще был кто-то. Он рассказывал, шутил, шумел, но так весело, так хорошо: стоя, откинулся весь назад, руки в стороны, хохочет. Я и говорю ему: „Вот так вас и написать!“ А он мне: „Так и напишите!“ – „И напишу“. Ударили по рукам. А теперь вот боюсь. Я никогда смеющихся не писал. Это трудно, а я стар. А назад идти нельзя. Обещал. Я ему скажу как-нибудь: „Мы оба старики. Вам не выстоять на ногах (я-то уж привык). Я вас посажу и портрет сделаю поменьше размером“. А теперь думаю: писать или нет?
Это был прямой, настоятельный вопрос, и я твердо ответил:
– Пишите, Михаил Васильевич. Ведь вы Алексея Викторовича любите, отлично знаете лицо и все. У него и улыбка отличная.
– Да, он добрый человек.
Писать было решено, и тут же Михаил Васильевич признался, что у него в замысле второй портрет В.И. Мухиной и портрет Е.Е. Лансере. Летом 1941 года замысел щусевского портрета одолел все другие, и Михаил Васильевич принялся за работу».
И ведь когда началась работа – в день начала Великой Отечественной войны – 22 июня 1941 года! Щусев, вспоминая эти трагические дни, уточнял, что Михаил Васильевич пришел к нему в Гагаринский переулок, дом 25, поутру, и оба они еще не знали, что началась война. Щусев рассказывал, что Нестеров появился «с твердым намерением начать писать с меня портрет, который задуман был им несколько лет тому назад. За ним несли мольберт и небольшой холст на подрамнике, а также ящик с красками и любимыми мягкими хорьковыми кистями. Вид у Михаила Васильевича был бодрый и решительный; по обыкновению, мы обнялись, и он, улыбнувшись своей ясной и широкой улыбкой, сказал: „Решил начать, боюсь, что силенки мало осталось, а потому размер холста небольшой, но писать буду в натуру“. Действительно, М.В. уже было под 80, и он, похварывая, возился с докторами.
Писать меня он хотел давно, приходил с альбомчиками в 40-м году, выбирал позы, зарисовывал, но все это его не удовлетворяло. Ему хотелось чего-то простого, жизненного, хотелось написать мой смех в разговоре, который иногда ему нравился, но он все боялся, что сил ему не хватит и он не справится. Как-то раз, перебирая в ящике разные вещи, я наткнулся на два бухарских халата, которые купил в Самарканде в 1896 году во время работы над обмерами ворот мавзолея Тимура, которые я исполнял по поручению Археологической комиссии. Халаты в то время были новенькие, ярких цветов – бухарский пестрый в крупных ярких пятнах и другой, желтый в мелких черных полосках, из крученого гиссарского шелка. При них черная тюбетейка в тонких белых разводах. Зная, что М.В. любит красочные восточные вещи, я решил показать ему и мои халаты. М.В. пришел от них в полный восторг, попросил меня накинуть их на себя, полюбовался, что-то про себя подумал и сказал, что будет писать с меня портрет в этих халатах – с утра, когда я, напившись утреннего кофе, беседую у себя в кабинете, а он меня слушает и работает. Позу он дал мне простую и лицо в профиль, так как боялся, что с фасом не справится, сил мало.
Возле меня на столике, как бы случайно, была поставлена вазочка темной бронзы на мраморном пьедестале. Долго усаживались, искали освещения без рефлексов от розового дома напротив, ставили мольберт и холст так, чтобы писать стоя, так как сидеть во время работы М.В. не любил, и, наконец, когда все было согласовано, М.В. начал рисовать углем на холсте… Не успели мы начать работу, как вдруг из столовой входит моя жена и говорит нам ошеломляющую новость: немцы ворвались на нашу территорию, разбомбили города и ордой движутся на нас без предупреждения и объявления войны.
Мы оба были ошеломлены, но работы М.В. не прервал и проработал более 3 часов, тогда как ему врач разрешил только двухчасовые рабочие сеансы. Но его нервная и порывистая натура остановиться не могла: он являлся, не пропуская дней, каждое утро около 11 часов и работал три, а то и четыре часа. Домой ему после сеанса уже идти одному было трудно, он шатался, и приходилось моей дочери или знакомым соседкам проводить его домой под руку, а жил он совсем недалеко, в Сивцевом Вражке. Когда начались воздушные бомбардировки и приходилось не спать по ночам, М.В. три или четыре раза на сеанс не пришел, но все-таки проработал весь июль, и только к 30 июля портрет был совсем готов… Сеансы были для М.В. физически трудными, но работал он с охотой и страстью, приговаривая, что я-де мог быть настоящим живописцем, если бы строго следовал своим влечениям и не брал бы больших заказов. О Серове он говорил: „Вот он был настоящий живописец, а я доходил до высот живописи, которую люблю и понимаю, только в немногих вещах. Я чувствую, что в этом портрете мне также удастся быть живописцем, и это бодрит и увлекает меня“. Действительно, гамма моих халатов была звучная, а складки шелка с восточными окаймлениями были очень красочны и живописны. В этом вихре красок мое смуглое бритое лицо в черной тюбетейке казалось строгим и серьезным. Рисунок и сходство в свободной позе ему дались легко, а приступив к живописи и разложив хорошие заграничные краски на палитре, он писал с большим увлечением, неустанно беседуя, принимая резкие позы.
Вспоминали мы в своих беседах и Киев, и Москву, и Академию художеств, где ему мало пришлось поучиться. Вспоминали знакомых, друзей: художников, артистов, архитекторов и ученых. М.В. любил говорить о людях большого таланта, разбирать их жизненный путь и делать выводы… Много теплых и хороших воспоминаний прошло перед нами на сеансах М.В., несмотря на гром взрывов от немецких бомб и разрушения в городе. Держался М.В. спокойно и стойко, как философ и герой. Беседы наши вспоминаются мне как последние светлые страницы его жизни, и сам он, сухонький и острый старик, как провидец, смотревший в будущее и желающий умереть в искусстве».
В свою очередь, Сергей Дурылин свидетельствовал: «Старый художник был весь захвачен работой. Он до головокружения, до полного изнеможения работал над портретом, с упоением отдаваясь радости творческого самозабвения. На мой настоятельный зов переехать к нам в Болшево, где жилось тогда несколько спокойнее и безопаснее, чем в Москве, Михаил Васильевич отвечал мне письмом от 9 июля: „Дорогой Сергей Николаевич!.. Благодарю за приглашение, но едва ли им скоро воспользуюсь, так как работаю с азартом, по 2 и 2,5 часа стоя. Едва доводят до дома“. В Болшево Михаил Васильевич вырвался только тогда, когда был окончен портрет. Михаил Васильевич был доволен своей работой, хотя на похвалы, по обыкновению, махал рукой со словами: „Это не портрет. Это фрагмент портрета“. „Фрагмент“ этот взял много сил у художника, но и дал ему новый заряд бодрости, удивительный в 79-летнем художнике, утомленном напряженною работою в небывало тяжелых условиях. Между первыми картинами Нестерова и портретом Щусева лежит больше полувека труда, их соединяет целая галерея картин и портретов, созданных в разное время, в различных условиях работы, но если б можно было написать биографию каждой картины и портрета, она бы включала общий для всех мотив: вдохновенной радости труда».

Портрет архитектора А.В. Щусева. 1941 г.
Нестерова радовала эта его прощальная работа: «Мы благополучны, жалею, что мои годы не дают мне принять участие в более активной деятельности, но вера, что враг будет побежден, живет во мне, как в молодом. На днях кончил новый портрет с А.В. Щусева, видевшим портрет нравится. Время же произнесет окончательное свое мнение о содеянном. Устал жестоко», – сообщал он в письме от 13 июля 1941 года.
Тяжелая атмосфера первых дней войны повлияла на общую тональность портрета Щусева. «Усталый взгляд человека, сидящего в черном высоком кресле в ярком бухарском халате и в черной с белым узором узбекской тюбетейке, обращен куда-то в сторону. Сочетания малинового, светлосерого, лилового, желтого, яркая белизна большого белого воротника звучат напряженно и беспокойно. Темный, почти черный силуэт вазы причудливой формы, срезанной рамой картины, резко выделяется на светлом, серовато-коричневом фоне. Складки халата тяжелым, точно еще более усталым, чем сам человек, движением спадают с плеч, облегают фигуру. Глубокую задумчивость, сосредоточенную скрытую печаль человека выразил художник в своем последнем портрете. Здесь живописное мастерство органически сочетается и с раскрытием сложного образа, с передачей того внутреннего душевного состояния, которое было свойственно в то время как Щусеву, так и Нестерову. Стояли очень напряженные дни. С фронтов шли вести одна тяжелее другой. Невиданное горе и страдания обрушились на страну, на людей. Разрушенные города, сожженные селения, тысячи и тысячи смертей, горе разлук, трагедия невосполнимых потерь. Жизнь менялась с часу на час», – подчеркивает искусствовед Ирина Никонова.
Портрет Щусева кисти Нестерова – это не просто живописное полотно, но и символ их творческого союза, прервавшегося в 1917 году. Дружили они по-прежнему, а вот работать вместе уже не могли, и потому таким важным является сам факт написания портрета Щусева именно Нестеровым. Это была их последняя и очень плодотворная совместная работа.
Нестеров близко к сердцу принимал все происходящее вокруг. Сохранилось любопытное свидетельство о тех днях. Это сообщение некоего доносчика из окружения Павла Корина, за которым НКВД вело каждодневное наблюдение как за потенциально антисоветским элементом. В этом донесении от 15 сентября 1942 года приводятся слова Корина: «Несмотря на то, что советская власть доставила мне много плохого, я – патриот, люблю свою Родину. Ненавижу иноземцев, люблю свои поля, села, церкви, все это мило моему сердцу. Жду и буду радоваться первому нашему успеху… Немецкая сволочь недоучла выносливость русского человека, они узнают, и это их ошибка. Они погибли с первого дня своего наступления на нас. Я все время хожу убитый нашими временными неудачами. Пью водку с горя. Художник Нестеров М.В. – больной, и он очень переживает наши неудачи, не может работать, лежит, от него скрывают сводки Информбюро, а если бы он услышал о победах, он, наверно бы, поправился, такой это большой русский человек».
Осенью 1942 года Михаил Васильевич уже редко поднимался с постели. В одном из писем он напишет: «Я полеживаю». 7 сентября 1942 года Е. Турчаниновой Нестеров рассказывает: «Мое здоровье согласуется с моим возрастом, оно неважно, больше полеживаю. Попытки (настояние врачей) прогуливать себя кончаются плохо: едва живой возвращаюсь в дом свой, тут же, на Сивцевом Вражке, и снова лежу и лежу. Так проходят мои не очень радостные дни. Сегодня вернулся из туберкулезного санатория Алеша, вернулся без голоса. Он и мы все возвращению его очень рады… Лето кончилось, наступают осенние дни, законные осенние холода, хоть солнышко светит, но греет по-осеннему».
В середине осени Нестерову предстояла серьезная операция в Боткинской больнице, куда он и уехал с Сивцева Вражка 12 октября. К сожалению, до нее дело так и не дошло – сердце больного художника не выдержало, случился инсульт. Последнее его письмо датировано 10 октября и адресовано Павлу Корину – Михаил Васильевич сообщает в нем о предстоящем домашнем концерте Надежды Обуховой. 18 октября 1942 года Михаил Нестеров скончался. Прощались с ним в Третьяковке. Похоронили художника на Новодевичьем кладбище. Автором надгробного памятника стал Щусев. Сергей Дурылин утверждал, что с первого дня кончины Нестерова он говорил его вдове Екатерине Петровне: «Кто бы ни предлагал проектировать памятник М.В. – один имеет все права создать этот памятник Щусев. Надпись же на нем по завещанию М.В. может быть только „Художник М.В. Нестеров“».
Алексей Викторович Щусев очень горевал по поводу кончины Михаила Васильевича. Присутствуя на похоронах, он сделал зарисовку «Нестеров в гробу» – карандашный набросок головы художника, лежащего с закрытыми глазами и в черной шапочке. Пиджак на рисунке еле намечен. Когда вскоре от туберкулеза скончался и сын Нестерова Алексей, Щусев сделал уже другой рисунок – «Алеша Нестеров в гробу». Обе работы хранятся ныне в Башкирском государственном художественном музее им. М.В. Нестерова.
Деньги на надгробие Нестерову собирали всем миром, среди жертвователей – выдающиеся деятели науки и культуры: Антонина Нежданова и Николай Голованов, Надежда Обухова, Василий Топорков, Сергей Дурылин, Сергей Юдин, Татьяна Щепкина-Куперник, братья Павел и Александр Корины, Николай Зелинский, Вера Мухина и многие другие. А ведь время было непростое, военное. Памятник по проекту Щусева на Новодевичьем кладбище получился скромный и изящный одновременно – согласно завещанию художника.
Павел Корин несколько десятилетий спустя сказал: «Если Михаил Васильевич Нестеров замечал перед уходом в иной мир: „Я сделал в своей земной жизни все, что мог“, я же на склоне лет не смогу, к сожалению, так сказать…» Сам же художник подвел итог своей жизни следующим образом: «В начале жизни – „Отрок Варфоломей“, к концу – „Душа народа“»…
Глава 2
Дом, который построил Константин Мельников
В этом необычном доме, не имеющем внешних углов и построенном в виде цифры восемь, поселился когда-то давно – чуть меньше столетия назад – очень необычный человек. Звали его Константин Мельников (1890–1974), и считался он в ту пору архитектором номер один. Было это в те благословенные времена, когда самым современным и продвинутым стилем в искусстве считался конструктивизм. Это был авангард мировой культуры. Конструктивизм – архитектурный стиль, порожденный революцией 1917 года и до сих пор привлекающий к себе внимание всего света не только как материал для исторических исследований, но в качестве основы для поиска будущих оригинальных идей. Конструктивизм давно стал азбукой мировой архитектуры. Это в своем роде единственное явление в советской архитектуре, которое и по сей день представлено во всех международных энциклопедиях по зодчеству XX века, в отличие, например, от мертворожденного так называемого сталинского ампира. «Впервые не из Франции, а из России прилетело новое слово искусства – конструктивизм, понимающий формальную работу художника только как инженерную, нужную для оформления всей нашей жизни. Здесь художникам-французам приходится учиться у нас. Здесь не возьмешь головной выдумкой. Для стройки новой культуры необходимо чистое место. Нужна октябрьская метла» – так образно охарактеризовал Владимир Маяковский роль и место конструктивизма в культуре и ничего при этом не приукрасил.
В 1920-е годы прошлого столетия благодаря активно развивавшемуся в тот период конструктивизму крупные советские города (Москва, Ленинград, Харьков и другие) воспринимались за рубежом как центры мировой архитектуры. «Принципы конструктивизма по тому времени были довольно жизненны. Строить что-нибудь сложное было трудно, а новое направление давало возможность при помощи железобетонного каркаса и почти без всякой отделки создать новый тип здания с производственным и свежим направлением. Конструктивизм дал возможность русским архитекторам стать известными во всем мире – и в Европе, и в Америке. За рубежом с нами стали считаться», – отмечал Алексей Щусев.
Конструктивистские постройки послужили адекватным ответом на требования времени. Проектировались и строились Дворцы труда, Дома Советов, рабочие клубы, фабрикикухни, дома-коммуны и так далее – все это было не просто актуально, а сверхвостребованно в условиях перенаселения города, с одной стороны, и непростой экономической ситуации, не предусматривающей роскоши, – с другой. Храмы и барские усадьбы уступали место клубам и общежитиям. Архитекторы-конструктивисты, среди которых на первый план и выдвинулись такие известные мастера, как Мельников, братья Веснины, Леонидов, Ладовский, свое основное внимание направили на поиск новых, более рациональных форм и приемов планировки городов, принципов расселения, выдвигали проекты перестройки быта, разрабатывали новые типы общественных зданий. Как правило, такие здания должны были четко отражать свое функциональное назначение, что требовало применения новых методов строительства, в частности железобетонного каркаса.
Самым главным конструктивистом по праву был признан Константин Мельников, популярность к которому пришла в Париже. Илья Эренбург писал: «Мода на Мельникова докатилась до самых широких слоев падких на любую новинку парижан, стала приметой времени и молвой улицы: случайная прохожая называет своему спутнику самые острые, на ее взгляд, признаки современности – футбол, джаз, павильон, выстроенный Мельниковым…» Имеется в виду спроектированный им павильон для Международной выставки современных декоративных и промышленных искусств в Париже в 1925 году, вызвавший бурю восторга у французов, в том числе и у Ле Корбюзье. После успеха на выставке Мельников получил предложение на проект гаража на тысячу машин для Парижа. Он сделал два варианта: стеклянный десятиэтажный куб со стоянками и висящую над землей консольно-подвесную конструкцию, но вместо Парижа Мельников в итоге проектировал гаражи в Москве, используя наработанные идеи. Прежде всего, пригодилась прямоточная «система Мельникова», основанная на расстановке машин пилообразными рядами, что давало существенную экономию средств, времени и эксплуатационных расходов. Гаражи, клубы и дом Мельникова в Кривоарбатском переулке – ныне памятники архитектуры.
Биография Константина Степановича состоит словно из двух частей: признание, успех, слава и… забвение. А прожил он немало – восемьдесят четыре года! Появился на свет будущий «гуру конструктивизма» 3 августа 1890 года в бывшем пригороде Москвы, который известен благодаря своему прекрасному названию – Соломенная сторожка, от которой ни пучка соломы сегодня не осталось, только улица. Родился Мельников в простой семье с крестьянскими нижегородскими корнями. Отец его, строитель, трудился на ремонте дорог на землях Петровской сельскохозяйственной академии. Интересно, конечно, другое – само название родного для Мельникова дома, выстроенного не из кирпича или дерева, а глинобитного, с добавлением соломы, потому так и прозванного. Поначалу кажется, что крыша у домика была соломенной, на самом же деле он был покрыт черепицей. Имя архитектора этой сторожки тоже что-то значит – Николай Бенуа, представитель известнейшего творческого клана. Короче говоря, сама судьба уготовила младенцу из Соломенной сторожки блестящее архитектурное будущее.
Детство его прошло в подмосковных Лихоборах. Еще в церковно-приходской школе Константин Мельников выделялся среди сверстников как хороший рисовальщик, что неудивительно – многие выдающиеся зодчие таким образом впервые и проявляли свое дарование. После окончания им школы в 1903 году родители ненадолго устроили его учеником в иконописную мастерскую в Марьиной Роще. Удачей для небогатой семьи Мельниковых стало знакомство с известным ученым и инженером Владимиром Михайловичем Чаплиным, разглядевшим в Константине художественные способности, требовавшие дальнейшего развития. Чаплин нанял ему репетитора для поступления в Московское училище живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой. В итоге в 1905 году Мельников, сдав вступительные экзамены, стал студентом общеобразовательного отделения училища. Позднее он писал: «Мое имя стояло в числе одиннадцати счастливчиков, среди 270 претендентов. Конкуренты мои носили усы и даже бороду – возраст служения Искусству не ограничивался». Ему было всего пятнадцать лет.
В стенах училища Константин Мельников провел двенадцать лет, получив к 1910 году общее базовое образование, что позволило ему в дальнейшем учиться еще и на отделениях живописи и архитектуры. Среди учителей живописи были весьма авторитетные художники: Константин Коровин, Абрам Архипов, Сергей Малютин, архитектуру преподавали Иван Жолтовский, Илларион Иванов-Шиц. Особенно увлекательно было в мастерской Жолтовского. «Приходя к Ивану Владиславовичу, я всегда чувствовал атмосферу такого высокого артистизма, большого художника», – вспоминал архитектор С. Чернышев. Так же мог сказать и Мельников, открытый не только новаторским идеям, но и готовый впитывать в себя бесценный опыт и щедрую мудрость учителей. Иван Жолтовский сразу оценил своеобразный талант Мельникова: «Неизменный успех его оригинального творчества объясняется исключительным дарованием К.С. Мельникова к пластическому искусству».
Студентом Мельников прошел столь необходимую ему практику. Счастье, что все еще можно вживую посмотреть на одно из первых зданий, к которому он приложил руку, несмотря на то что ныне от завода ЗИЛ осталось лишь название. Более века назад Константину Мельникову поручили заказ – разработку фасадов зданий автомобильного завода АМО. Завод строился на деньги братьев Рябушинских по проекту А. Кузнецова и А. Лолейта. Мельников создал проекты фасадов для заводоуправления, кузнечного, литейного и прессового цехов. Заводоуправление сохранилось. «Симметричное, с невысоким куполом в центре, кирпичное с немногими белыми деталями, оно характеризуется монументальностью и простотой. Здание вызывает ассоциации с постройками русских зодчих начала XIX в. – О.И. Бове, Д.И. Жилярди и других, но в его больших проемах, в обновленной трактовке традиционных форм как бы „осуждается“ новое время: это произведение Мельникова представляет собой выразительный пример московского архитектурного неоклассицизма 1910-х гг.», – особо подчеркивается в исследованиях творчества архитектора.
Работая в 1916–1917 годах над выполнением заказа для АМО, Мельников жил неподалеку, на казенной квартире, куда переехала и его семья. Он уже был отцом двоих детей: Виктора (1914 г. р.) и Людмилы (1913 г. р.), которых родила ему жена (с 1912 г.) – Анна Гавриловна Яблокова. Семью надо было кормить.
Он удачно окончил учебу в Московском училище живописи, ваяния и зодчества в 1917 году. Новой эпохе – социалистической – требовались новаторы, нестандартно мыслящие творцы. Молодые архитекторы, художники, скульпторы создавали и новую эстетику. Кроме того, масса нерешенных проблем, препятствовавшая развитию Москвы как современного города, создавала огромное поле для деятельности и зодчих, и строителей. Обилие трущоб и ночлежек, отсутствие комфортного жилья для небогатых слоев населения, слабый уровень организации транспортного движения, несоответствие системы жизнеобеспечения современным требованиям – застарелость этих проблем характеризовала жизнь Москвы начала XX столетия. Российская столица сто лет назад явно не справлялась с огромным потоком рабочей силы, хлынувшей в нее, в том числе и для работы на многочисленных заводах и фабриках. В связи с этим не кажется простым совпадением, что первый проект Мельникова был выполнен для АМО – в дальнейшем именно представители победившего рабочего класса будут основной аудиторией, для которой он станет проектировать свои клубы и жилые дома.
Новые хозяева красной Москвы не могли сто лет перестраивать старую русскую столицу. Максимум – двадцать лет, поэтому уже вскоре после произошедшей смены власти архитекторов призвали к работе. Мельников оказался в числе востребованных зодчих: «В Москве образовалась особая архитектурная группа. Многие архитекторы были основателями этой группы. Во главе стоял Жолтовский. Я был главным мастером мастерской, а остальные – просто мастерами, существовали еще и подмастерья. Так именовались мы, не желая называться просто архитекторами. Устроились мы при Московском Совете. Активное участие в нашей работе принимал Б.М. Коршунов. Он предложил проект озеленения Москвы. В числе других мастеров – С.Е. Чернышев, Н.А. Ладовский, К.С. Мельников были участниками мастерской.
Поставили себе целью сделать план реконструкции Москвы на новых социальных основах. Занялись и окраинами и озеленением центров, созданием новых кварталов, разбивкой магистралей. Каждому мастеру был отведен известный район. В течение 1918—9 годов провели большую работу. С нами работали и инженеры Л.Н. Бернадский, Г.О. Графтио, В.Н. Образцов. Спроектировали новый московский порт, связь Москва-реки с Окой, Окружную дорогу и проч. Все это было сделано кустарно, без установки, которую могли дать только вожди и руководители революции. Это сделали мы – архитекторы, как понимали. Мы работали с энтузиазмом. Было время холодное и голодное, работали в шубах. Московский Совет начал принимать работу, приехала большая комиссия. Комиссия заслушала наши доклады и признала работу актуальной», – рассказывал Алексей Щусев.
Группа, о которой пишет Щусев, была организована в начале 1918 года и называлась Первой московской архитектурной мастерской. Как писал Алексей Викторович, она ставила своей целью «объединение и сплочение разрозненных архитектурно-художественных сил в единый творческий организм, который даст возможность отдельным индивидуальностям, благодаря постоянному общению и творческому взаимодействию, благотворно влиять друг на друга и путем обмена идеями, художественным образом и путем личного опыта создать формы коллективного творчества».
Условия для творчества были провозглашены самые подходящие: в 1920-е годы проектная деятельность переживала в Советском Союзе необычайный подъем. Конкурсы следовали один за другим: Дворец Труда, Дворец Советов, Красный стадион, реконструкция москворецких мостов и т. д. В них принимал участие и Мельников. Неудивительно, что всего лишь за несколько лет мастерская под руководством Щусева и Жолтовского подготовила проекты реконструкции одиннадцати районов Москвы и ряда больших площадей. Генеральный план развития столицы получил название «Новая Москва», в рамках которого Мельников занимался перепланировкой Бутырского района и Ходынского поля. Среди многих его проектов этого времени – реконструкция Советской площади, поселок при Алексеевской больнице, Народный дом, жилые дома, крематорий. Начинается и его преподавательская деятельность: с 1920 года Константин Степанович – профессор архитектурного факультета Вхутемаса.
План «Новая Москва» предусматривал масштабное озеленение столицы за счет создания зеленых клиньев, выполнявших роль легких Москвы. Одним из таких клиньев стал впоследствии Парк имени Горького, организованный на месте территории Нескучного сада, примыкающей части Воробьевых гор и бывшей Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. Та самая выставка была устроена в 1923 году на месте существовавшей с конца XIX века городской свалки. О выставке превосходный очерк написал Михаил Булгаков, он был напечатан в сентябре 1923 года в берлинской газете «Накануне» под говорящим названием «Золотистый город». Алексей Щусев отмечал: «Благодаря планировке, дренажу и канализации место оздоровляется и по окончании выставки останется для Москвы как прекрасный и благоустроенный парк, пригодный для выставок, ярмарок, спорта и т. п. учреждений». Так и вышло – сейчас на этом месте Парк Горького. В проектировании и выставки, а затем и парка принимал участие Константин Мельников.
В 1923 году он, будучи одним из самых молодых архитекторов, создал проект павильона – легендарной «Махорки», ставший первой «конструктивистской ласточкой». Уже само название указывало на скромность замысла организаторов: все же «Махорка» – это не «Машиностроение», иначе говоря, незначительная отрасль, успехи которой следует продемонстрировать. Однако Мельников интерпретировал это на свой лад, что принесло ему и громкий успех, и столь же оглушительную критику. Прошли десятилетия, критика забылась, и теперь «Махорку» трактуют как образец стиля: «Павильон „Махорка“ оказался архитектурным событием, и не только в рамках выставки. Мельников остроумно скорректировал предложенную функциональную программу, а в композиции исходил из убеждения, что выставочная архитектура должна быть обязательно образно новой и впечатляющей, должна выполнять роль важнейших „экспонатов“ выставки. Архитектор расчленил здание на ряд самостоятельных объемов, контрастно сгруппировал их, накрыл разнонаправленными односкатными кровлями, консольно выдвинул верхний объем над опорами, противопоставив его массиву две ажурные формы – открытую винтовую лестницу и узкую застекленную шахту для транспорта. Своей образной экспрессивностью павильон „Махорка“ произвел огромное впечатление на современников. Он вообще оказался одним из самых первых примеров подлинного обновления языка архитектуры, тем более знаменательного, что постройка была выполнена в традиционнейшем и, казалось бы, уже не поддающемся какому-либо новому осмыслению материале, – в дереве», – отмечает М. Астафьева-Длугач.

Константин Мельников у винтовой лестницы павильона «Махорка». Фото 1923 г.
Когда на месте выставки решено было разбить парк культуры и отдыха, ее прежнюю планировку, спроектированную Иваном Жолтовским, призвана была заменить новая планировка – Константина Мельникова, главного архитектора будущего парка (с 1928 г.), частично сохранившаяся и поныне. Конструктивист Мельников спроектировал партер парка с фонтаном по центру, в котором «архитектура формировалась струями самой воды». Однако проект полностью реализован не был по причине кардинального изменения художественной политики в СССР.
Начислим
+10
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе