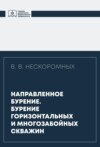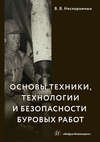Читать книгу: «ШАМАНКА», страница 4
На противоположном плато собралось несколько тысяч саней с сидящей на них белой армией, подошедшей с запада. Тут же при войске был верхом и командующий Каппель, его заместитель генерал Войцеховский и с ними несколько всадников из штаба.
Прогнать несколько десятков красноармейцев можно было обходом влево с одновременным нанесением прямого удара, о чем тут же был сделан приказ. Однако ни один солдат из саней выходить не пожелал, и все завершилось к ночи только бессмысленной взаимной пальбой без каких-либо последствий. С наступлением ночи, войска пошли в обход Красноярска. Другая часть подразделений прошла через город по его окраинам, не зная о ситуации в городе. Это привело к тому, что часть отступающих солдат, попала в засаду, и сдалась добровольно Красноярскому гарнизону, еще недавно входившему в состав Сибирской армии.
Части корпуса Каппеля также попали в окружение возле Красноярска, не получив во время сведений о том, что город контролируется предавшими их войсками, и с боем прорывались по окраинам, сминая заслоны красных и неся потери. В этакой неразберихе белые войска потеряли свой последний аэроплан, использовавшийся для разведки.
Аэроплан, что базировался на оборудованном под аэродром поле возле деревни Дрокино, взмыл в небо по приказу из штаба Каппеля для изучения обстановки вокруг города и пробыл в небе без малого два часа. Но когда пришлось возвращаться, аэродромное поле уже было захвачено отрядом красногвардейцев. При посадке летчик Ставрогин заметил подвох уже завершая пробежку, − вдруг увидел красные ленты на шапках солдат и сумел вновь поднять свою механическую птицу в небо. Но далеко не улетел: пулеметный огонь разметал обшивку, заглушил двигатель и аэроплан плавно скользя, упал за Дрокинской горой. Ближе к упавшему самолету оказались войска белой армии, и летчик не пропал, а был вызволен из аэроплана.
Продырявленную огнем пулемета механическую птицу бросили, а летчик Ставрогин, прослезившись, вскинул на плечо кавалерийский карабин, что хранил в аэроплане на случай, если придется совершить вынужденную посадку, встал в строй и зашагал вместе со всеми, слившись с одноликой серой массой. Теперь, размеренно ступая шаг в шаг среди солдат, пилот Ставрогин отличался только тем, что мог представить, как бы он смотрелся с высоты полета над этой заснеженной и заросшей бесконечными лесами местностью среди смертельно усталых и выживающих на морозе людей, бредущих неизвестно куда и с какой целью.
Цель белого движения стала растворяться в этих белых бескрайних снегах сибирского простора, теряла актуальность под натиском красных войск и партизан.
Пушки тащить по заснеженной тайге без дорог было невероятно тяжко. Лошади уже не справлялись, также выбившись из сил без отдыха и добротного корма. Пришлось пушки бросить, а замки и прицелы от пушек утопить в реке. Шли теперь как бы налегке, оставив только самые легкие мортиры, которые можно было навьючить на коней. Корпус сохранял боеспособность и, сминая заставы красных войск, двигался по бездорожью, не встречая крупных сил противника.
Генерал Владимир Каппель, воспитанный благородным аскетом в семье потомственных военных, бодрил своих усталых солдат:
– Ребятушки, пушки мы добудем! Не теряйте духа, в этом залог нашей победы! Помните наставления фельдмаршала Суворова, который через Альпы перемахнул и даже без пушек вышел из окружения!
Верили ему солдаты. Знали, что не бросит и не подведет генерал, будет день и ночь думать, как выйти из сложной ситуации, победить и сохранить их жизни.
Перед Каппелем встал вопрос, куда двигаться дальше после Красноярска. Было решено спускаться вниз по Енисею и дальше двинуться по льду замерзшей реки Кан, в обход железной дороги и мест дислокации красных партизан. Кан река порожистая, а берега реки изобилуют родниками и минеральными источниками, что делало лед реки ненадежным. Часть офицеров, опасаясь застав неприятеля на тракте, настаивала, что следует двигаться по Енисею вплоть до Стрелки – месту слияния двух могучих сибирских рек, после чего идти на восток уже по Ангаре. Этот путь представлялся безопасным, но значительно более долгим.
В результате после кратких дискуссий войска разделились: генералы Перхуров и Сукин двинули своих подчиненных по Енисею до слияния с Ангарой и далее пошли в сторону Илима по Ангаре. Следуя этим долгим маршрутом практически избежав боевых столкновений часть армии вышла к Байкалу и преодолев его оказалась в Верхнеудинске в апреле. Каппель повел войска по льду Кана, стремясь не отставать от командующего и двигаться по более короткому маршруту вслед за ним.
Но как оказалось, опасения относительно состояния ледяного покрова реки были не напрасны. Несмотря на сильные, тридцатиградусные морозы, пороги Кана не замерзли, а по поверхности льда реки струилась вода из термальных источников. Это создавало огромные проблемы. Пороги приходилось обходить по заснеженной тайге, а двигаться по льду, по глубокому снегу, под которым стояла вода, было невероятно тяжело. Люди в пешем строю проваливались в снег до воды, промокали и тут же на морозе покрывались льдом. Мучались и лошади – выбивались из сил, резали себе надкопытные венчики об острые ледяные грани. Обувь тяжелела невероятно, и идти в ней становилось тяжко до невозможности. Сани, проваливаясь до воды, тяжелели от намерзающего льда, примерзали, что требовало огромных дополнительных усилий. Снег валил сутками, и настроение войск было удручающим от усталости и отсутствия ясности в перспективах изнурительного похода.
Именно во время этого перехода Каппель промок, отморозил ноги и тяжко больной, лишившийся в результате операции отмороженных ступней ног, продолжил путь в седле во главе армии, превозмогая боль и тяжелейшее свое состояние, поддерживаемый ординарцами, что следовали рядом неотступно.
Пятнадцатого января армия Каппеля овладела Канском и вышла на Сибирский тракт. За Канском две колонны Сибирской армии неожиданно соединились. Оказалось, что часть войск с обозами под командованием генерала Сахарова, пошла по более короткому маршруту вдоль Сибирского тракта и успешно прошла двести верст до города, не имея сведений ни о неприятеле, ни об армии Каппеля.
Такое соединение разбросанных отступлением войск позволило создать более боеспособное соединение: походное движение управлялось теперь более четко, появилось снабжение войск провизией. Численность армии составила около тридцати тысяч человек, и этот поток отчаявшихся было людей, теперь уверенно двигался по тракту и успешно вел бои против неприятеля. Появилась надежда возрождения боеспособного белого движения, но было понятно – сил пока хватало только на спасение.
Перед Нижнеудинском возникли боевые столкновения с отрядами противника, но оттеснив красных умелым натиском, двадцать первого января войска Каппеля вошли в город.
От пленных красногвардейцев Каппель узнал, что власть в Иркутске захвачена большевиками, а Верховный правитель выдан новой власти. Каппель собрал последнее в своей жизни совещание, лежа в кровати. Было решено атаковать Иркутск и отбить Колчака.
После Нижнеудинска вел армию генерал Войцеховский: Каппель скончался на марше. Тело своего воинского начальника преданные офицеры и солдаты не бросили, не захоронили спешно, а везли с собой долгие две тысячи верст и предали земле только в Чите, после броска через Байкал и леса Забайкалья. Но в Чите, через полгода, как только пришло время покинуть и этот город под натиском красных войск, тело генерала не оставили на поругание. Могилу раскопали, и гроб с телом доставили в Харбин, где вновь захоронили с воинскими почестями. И это был не последний путь воина: тело генерала уже в наши дни обрекло покой на Родине, на кладбище Донского монастыря в Москве.
Тело генерала Каппеля его соратники не желали предавать земле, помня то нечеловеческое дьявольское отношение к телу героя войн, выходца из простой казачьей семьи, исследователя-путешественника генерала Лавра Корнилова, погибшего в бою на Кубани. В злодеяниях над народом, сам, будучи выходцем из глубины этого народа, Лавр Корнилов не отмечен. Стойкость генерала Корнилова в памяти увековечена тяжелейшими обстоятельствами «Кубанского Ледяного похода», результатами исследований пустынь Туркестана и Афганистана.
Наученные тяжким опытом гражданской войны, ижевцы, воткинцы, − уральцы, − рабочие оборонных заводов, узнавшие методы новой власти, все оттенки «красного террора», везли с собой тело своего генерала. Везли, охраняли, отдавая честь сотни, тысячи верст, чтобы не дать надругаться, в попытках сохранить священную память и неоспоримое право на захоронение и упокой после смерти.
До Иркутска войска под командованием генерала Войцеховского добрались в ночь, когда были расстреляны Колчак и Пепеляев. На утро весть о гибели адмирала, уже прошла в войска и главный мотив, атаковать и захватить город отпадал.
Иркутск можно было взять, с любой стороны, но на совещании начальник Воткинской дивизии, генерал Молчанов, заявил:
− Войти в город, разумеется, мы войдем, а вот выйдем ли из него, − большой вопрос. Начнутся погром и грабеж, и мы потеряем последнюю власть над солдатом.
Это мнение было решающим и в ночь с седьмого на восьмое февраля войска под руководством генерала Войцеховского и с телом покойного генерала Каппеля в обозе обошли город с юго-западной стороны, и вышли к Ангаре. Красные, как бы в насмешку, послали вдогонку несколько артиллерийских выстрелов, и тем дело кончилось.
Спешно двигаясь по льду Ангары передовой отряд попал в зажор – сложное образование при ледоставе, вызванное быстрым течением реки и сильными морозами. В месте зажора, который возникает на отмелях, местах разделения речного потока, река до конца зимы не укрывается ледовым панцирем и можно провалиться, если сверху непрочный лед присыпан снежком. Передовой отряд со всего хода влетел в гибельное место и на глазах остальной передовой части войска стал тонуть: кони бились в истерике, люди барахтались рядом с ними и скоро несколько десятков лучших солдат, − из авангарда армии, навеки остались на дне реки.
Пришлось уходить с удобного маршрута по руслу реки и двигаться дальше по берегу, по засыпанным снегом лесным дорогам, утопая порой по пояс. Так дошли до Байкала, и круто взяв влево, двинулись вдоль скалистого берега, минуя поселок Лиственичный с тем, чтобы перейти «священное море» и попасть на станцию Мысовую. В этих местах по сведениям разведки держали оборону войска атамана Семенова и японский батальон.
Лед на Байкале коварен: множество трещин и нерпичьи лунки-проталины, припорошенные снегом, делали путь по льду на десятки верст крайне опасным. Ледяной ветер и торосы требовали невероятных усилий. Плохо кованные лошади скользили по льду и падали, отказывались вставать и идти дальше.
Вереница обозов и бредущих под шквалистым ветром людей растянулась на многие километры. Весь путь по озеру был усеян брошенными повозками, павшими лошадьми и людьми.
В какой-то момент пала лошадь, везшая гроб с телом генерала Каппеля. Кто-то предложил опустить тело в Байкал, мотивируя предложение тем, что не доберутся в этом случае «большаки-лешаки» до славного генерала, однако большинство выступило против. Сменили лошадь, и Каппель продолжил свой последний путь со своей армией. Незримо дух генерала Каппеля питал волю и надежду разбитого, но не поверженного еще белого воинства.
Двенадцатого февраля передовые части Ижевской дивизии вышли к окраинам станции Мысовой на берегу Байкала, где были встречены частями японского экспедиционного корпуса. Настороженные японцы, выстроившись у берега, заваленного льдом, молча наблюдали за бредущими мимо изможденными людьми, но с оружием и в строю, невольно соизмеряя священный для них дух бусидо и тот великий стоицизм, что являло увиденное ими. Весь день части армии и обозы выбирались на берег Байкала и сосредотачивались на берегу. В этот день через озеро переправились около тридцати тысяч человек, из которых практически все были обморожены, ранены, простужены или страдали от тифа.
В тот же день на станции Мысовой под перезвон колоколов отслужили первую панихиду по генералу Каппелю. К часовне над Байкалом солдаты и офицеры, имевшие честь служить под знаменами полков армии генерала Каппеля. Пережив тяжкое испытание, тяготы ледового перехода, гибель товарищей и понимая всю неопределенность своего положения, эти люди чтили своего командующего, преклоняя в знак величайшего уважения колени и изрядно поседевшие в походе головы.
Из Мысовой отряды Сибирской армии, отправились в Верхнеудинск, а затем в Читу. До окончания зимы в Забайкалье небольшими группами вышли еще тысячи офицеров, солдат, казаков и мирных беженцев.
Этот путь будет назван Великим Сибирским Ледяным походом, по аналогии с Ледяным походом Добровольческой армии генерала Лавра Корнилова на Кубани. Продлился этот тягостный путь с ноября до апреля, на три тысячи верст от Омска по полному бездорожью, снегам, тайге, руслам рек и Байкалу в сильнейшие морозы, в боевых столкновениях, в условиях тягостного выживания.
Так вершился великий исход русского воинского и гражданского духа, великий перелом и великая мука истерзанной непосильной ношей непонимания, горя и отчаяния, страны, раздираемой противоречиями. Русский дух выдавливался прессом большевизма. Растекалась по миру русская душа, удаль и ум великого народа. Мир принял их и стал лучше, но безмерно потеряла Россия.
КАЗАЧИЙ ИСХОД. ПОИСКИ СПАСЕНИЯ
В первых числах марта 1920 года по еще крепкому льду Иркута со стороны города в деревню Шаманка нагрянул под вечер отряд верховых числом в четверть эскадрона.
Это были опытные казаки из охраны адмирала Колчака, что маялись который год, не выбравшись окончательно из одной войны с германцем, как попали на другую, жестокую и казалось бесконечную по срокам.
Казаки, укутанные по глаза в башлыки, в длинных заснеженных шинелях с карабинами за спиной и большими мешками с провиантом, теплыми вещами и оружием, притороченные к седлу позади всадника, молча и сосредоточенно вошли в деревню на усталых заиндевелых на морозе конях.
Кони фыркали, пытаясь сбить намерзающий на морде и ноздрях лед, и устало брели, переступая, семеня, понурив головы, прикрывая усталые глаза ресницами с бахромой измороси.
Впереди отряда суетился на резвом мерине сотник Кондратий Хватов, который вел себя нервно, покрикивал на казаков и вертелся на своем коне, выбивая копытами снег. На Хватове ладно сидела серая папаха с бело-сине-красной кокардой и овчинная армейская куртка-бекеша. Из-под папахи выбился длинный, свалявшийся в долгих скитаниях русый казачий чуб. На руке Хватова на петле висела нагайка, сбоку на поясе шашка. Потертый боевой карабин был ловко приторочен к седлу.
Хватов был из местных. Крепкий, коренастый молодой мужик, с круглым обветренным и обмороженным лицом, на котором красовались рыжеватые усы и гуляла улыбка, которая в сочетании с недобрым прищуром светло-голубых глаз, создавала образ симпатичный, но несколько настораживающий. И то, правда. Стоило вступить в разговор с сотником, сразу слышался в голосе скрежет металла. Губы кривила усмешка, в которой читалась ирония и недоверие к собеседнику.
Такая манера общения у Хватова сложилась за годы войны, когда приходилось самому быть в числе рядовых и вынести многие тяготы окопной жизни. Продвинувшись по службе, став командиром над казаками, сотник усвоил, что для влияния на подчиненных следует всегда быть придирчивым, жестким и непредсказуемым в своих действиях. Жизнь научила – надеяться можно только на себя, а рассчитывать на реальную поддержку служивых и так же многому наученных казаков – дело пустое. Особенно понятно это стало теперь, когда погнали красные войска белые отряды, и нужно было думать, и искать тот вариант, что позволял бы сохранить жизнь и отыскать какую-никакую перспективу в этой самой жизни.
Таких как Хватов, опасались за резкость и непредсказуемость рациональных и жестких действий, а значит, уважали, − точнее боялись, а потому слушались и спешили исполнить сказанное даже спокойно в полголоса, как просьбу, потому что, если ослушаться, в другой раз тебе это припомнят и обязательно накажут.
Повоевав с крепким германцем и более хлипким австрийцем, Хватов, вернулся в деревню после службы вахмистром, серьезно продвинувшись по службе. А когда грянула революция, вскоре снова отправился на фронт по призыву уже в белую армию и при отсутствии достойных и опытных командиров вырос до сотника. В белую гвардию Хватов отправился по убеждению: как-то ему сразу было понятно, что все эти лозунги про свободу, землю и волю, просто козыри в руках шулеров, взявшихся перекраивать вековой уклад. Не верил Хватов, что кто-то кому-то отдаст хоть толику по доброй воле. Чтобы хоть что-то, хотя бы самую малость дать, это что-то нужно было отнять у кого другого. А в чем тогда смысл? И как только в деревне возникли первые Советы с голытьбой во главе, Хватов не стал испытывать судьбу – собрался наспех и в ночь ушел из деревни в войска.
Теперь, оказавшись во главе отряда, Хватов направил казаков в знакомые места, намереваясь выйти из западни, что устроили красные и чехословацкие легионеры, перекрыв основные пути отступления на восток. Путь этот – узкое горлышко вдоль отвесных берегов Ангары и Байкала по знаменитой Кругобайкальской железной дороге, что протянулась на сотню верст по вырубленному в скале карнизу вдоль обрывистого крутого берега к стылым водам великого озера. Дорога изобиловала десятками протяженных и коротких тоннелей, множеством арочных мостов, подпорных и водоотводных стенок и даже в обычном своем состоянии и хорошую погоду представляла для поездов непустячное испытание: скорость движения была строго регламентирована, а машинисты напряженно смотрели вперед, опасаясь камнепадов с отвесных скал.
Путь казакам предстоял не близкий, и первый его этап включал выход по льду реки и таежным тропам к южной оконечности Байкала в обход Кругобайкальской дороги, а далее на восток вдоль отрогов Хамар-Дабана и берега Байкала. Предполагалось, что там, на этом участке железной дороги, еще сохранилась власть белой гвардии и казаков атамана Семенова.
Как только вошли в деревню, Хватов сразу отрядил деревенского старосту развести казаков по избам, а сам направился в родной дом к родителям и молоденькой еще совсем сестренке, которых не видел уже почти два года. Сотника ждали у ворот. Матушка кинулась к сыну и плача сходу взялась рассказывать семейные новости, да напасти. Отец подошел степенно и крепко обнял сына, явно гордясь им. Сестренка подскочила последней, повисла на шее брата, вела себя шумно, и было видно, как она рада и ждет гостинца. Кондратий не стал медлить, и только вошли в дом, достал припасенные подарки: маме теплую шаль, сестре платочек шелковый китайский и брошь с малахитом, а отцу кисет расписной, туго набитый отменным табаком и тут же тихонечко подсунул наган, давая понять, − бери, батя, времена нынче лихие – пусть будет. Отец несколько отпрянул при виде столь нежданного дара, но взял оружие и, укутав его в тряпицу, убрал в нишу за печкой.
Среди казаков выделялись добротной формой и осанкой три офицера и упряжь из двух лошадей, управляемые верховым солдатами, которые несли подвязанный между лошадьми груз. Сотник за ними присматривал особо по поручению штабс-капитана Соколовского, зная, что это офицеры со специальным поручением штаба, о сути которого они не скажут никому.
Штабс-капитан Соколовский, был личным порученцем Колчака и отвечал за груз в поезде, в том числе и за золото. Внешность Соколовского сразу выдавала в нем старого служаку: подтянутый, сосредоточенный, всегда в свежей сорочке, краешек которой выглядывал из-под ворота мундира, в выглаженных галифе и тщательно вычищенных сапогах. Лицо штабс-капитана, ухоженное, в пенсне, с небольшой бородкой клинышком и щеточкой усов указывало на хороший вкус, образование и принадлежность к представителям потомственных дворян Российской Империи.
Перед арестом адмирала в Иркутске Соколовский едва успел снять с поезда часть вещей и архив адмирала и с несколькими офицерами из окружения Верховного примкнуть к Иркутскому гарнизону в ожидании того, как решится судьба Колчака.
После известия о гибели Колчака пришло время покинуть город тем, кто до последнего был с адмиралом. Самый короткий путь по железной дороге на восток был перекрыт, а соединиться с войсками генерала Каппеля, стремительным броском обошедших город и сминая заслоны красных, ускользнувших за Байкал, не удалось.
Эскадрон, вымотанный зимней дорогой, был в пути уже вторую неделю, рыская в поисках выхода из окружения. Отставшие от основных отрядов казаки решили идти к станции Култук по льду Иркута с тем, чтобы уже за станцией выйти на тракт и железную дорогу в обход Байкала. Если же дорога будет захвачена врагом, оставалась возможность спуститься на лед Байкала и идти вдоль берега на восток. В эту пору лед на озере был еще крепок.
Вот в таком состоянии полного разочарования, раздумий и неуверенности передвигались по льду реки казаки и офицеры, чтобы спасти себя, ведомые знатоком мест сотником Кондратием Хватовым.
В деревне, переполошив собак, изводящихся в лае, казаки разместились во дворах, на которые указал Хватов. Казаков распределили по соседним избам, организовав постели прямо на полу, на которых и разместились вповалку. Время было позднее и вымотанные дорогой люди, едва перекусив, уснули. В избах с прибывшими новыми постояльцами сразу распространился резкий мужицкий дух пота, табака, кожи и машинного масла. Господ офицеров с секретным грузом и охраной принял у себя староста в просторном своем доме.
При вхождении в Шаманку отряда колчаковцев деревня насторожилась, затаилась и ощетинилась. До глубокой ночи не спали мужики, все ждали – не пойдут ли по дворам шкодить прибывшие. Но поначалу обошлось: ночь прошла спокойно, и наступил морозный, в инее на избах и деревьях, в густом тумане, рассвет.
Утром, едва рассвело и дымы из труб выстроились, устремившись в высь, чем оживили зимний пейзаж, выспавшиеся и отогревшиеся казаки взялись наверстывать упущенное: потребовали накрыть стол и подать непременно самогона, да затопить баньку.
На столе появился мороженный розоватый на срезе увесистый шмат сала с кристаллами крупной соли, аккуратно завернутый в белую ткань, пара хлебных караваев, десяток золотистых луковиц. В тазике торчала айсбергом и таяла большущая белая шайба замороженного молока. К столу хозяйка подала и чугунок свежесваренной, парящей и источающей аромат, картошки.
Усевшись за стол, казаки вопросительно посмотрели на хозяйку, − вдову, уже не молодую, и та, быстро сообразив, извлекла из подпола бутыль с самогоном. Казаки дружно рассмеялись и судача отметили, что приятно остановиться у столь сообразительной хозяюшки. Женщина в ответ зарделась и смутившись, быстренько ушла с глаз долой разгулявшихся мужчин.
Под одобрительные и сальные шуточки казаков хозяйка скрылась за печкой, где и сидела теперь в основном с притаившейся там девкой лет пятнадцати. Девчонке было и любопытно происходящее в их избе и в то же время одолевал страх: мамка наговорила строгостей и предостережений, требовала ни в какую не вступать в общение с пришлыми, опасаясь, что снасильничают малолетку. Малолетка, тем не менее, храбрилась и порывалась все выскочить, показаться лишний раз пришлым людям, но мамка одергивала девку и заставляла сидеть тихо.
− Не нарывайся, Ксюха, − цыкала на дочь мамка, а молодая, ощутив одобрение казаков ее показной решимостью, все более вела себя так, как не подобает, по мнению матери, себя вести скромной девушке среди чужих мужиков.
К обеду нежданно прибывшие гости уже были изрядно пьяны и разбрелись по избам, в которых остановились казаки для общения и долгих разговоров. Теперь сидя по домам деревенских, казаки сокрушенно размышляли о том, что их ждет впереди. Ситуация складывалась так, что исхода их службе видно не было. Заговорили было о том, что пришла пора кинуть эту службу и отправиться по своим домам, а то, не ровен час, господа офицеры заведут их в такую переделку, что и ног не смогут унести.
Но возникли сомнения. Сомневающиеся заявили о том, что здесь среди тайги будет сложно найти нужную дорогу и следует довериться знающему сотнику Хватову, чтобы вывел он казаков к железной дороге. Рассчитывали, что за Байкалом атаман Семенов со своими казаками сдерживает красных и они смогут или примкнуть к ним или двигаться дальше самостоятельно.
− А язык, как известно, и до Киева доведет, − завершил разговор урядник Запашный.
− И не только до Киева доведет, и до могилы проводит, − продлил мысль урядника, как выдохнул, сидящий у печи, угрюмый с обвисшими усами казак Родион Хопров, который маялся который день желудком и от того имел крайне болезненный вид.
Казаки в ответ на остроту Хопрова, невесело рассмеялись.
Сокрушаясь над своим положением, старый казак Селезнев тем не менее балагурил, понуро склонившись над столом:
– Раскудрит твою канитель – расплескали мы купель, прогневили небеса – нет нам веры, нет креста!
Сидор Крайнев, молчаливый уралец, вдруг тяжко вздохнул и изрек, как бы для себя:
− И Господь нас покинул. Не чую я нынче поддержки Святой Троицы – молись-не молись. Может, и нет ее вовсе?
− Святая троица? – оживился Хопров, – нет, брат Сидор, в этом что-то есть. Как только возьмусь выпивать, да третью стопку пропущу – все как будто отрезало – более не хочется. Но вот как только на четвертую − чертовку совращусь, − все, считай очухаюсь только дня через три! Чуешь, Сидор, − через три!
Казаки дружно рассмеялись.
– Да, брат Селезнев, тут ты прав, что-то в последний год у нас все пошло не в лады. Красные потрепали за загривок да погнали нас, как белок по тайге гоняет добрая лайка, – понуро продолжил разговор урядник Запашный, штопая порванную гимнастерку и прилаживая погон с широкой полосой.
– Раскудрит твою коромысло, как не гляди – все криво вышло, – продолжал свою унылую линию шуток-прибауток Селезнев в ответ на реплику урядника.
– Вот, что мы тут сидим? И куда нас завтра поведет сотник? Бегем от самого Омска. А далее куда? Гуторят в Китай. А что там я среди этой нелюди смогу найти? Дома уж заждались. Тебе вот хорошо, ты забайкальский, чем дальше идем, тем ближе к твоему дому. А я-то, куда бегу, коли моя хата на Енисей-реке.
– Эх, браток ты мой Селезень! И то, правда, – ходим мы по тайге энтовой, как воши по складкам и швам одежи. Нет нам исхода, нет надежи, − высказался Запашный и продолжил:
– Вот чую я, что скоренько надоест мне эта канитель лесная в скитаниях без цели и смысла, да подамся я к дому. Так уж хочется прижаться к некоторым местам бабьим, что сил уже нет силы ожидать, и чтобы своя баба была, а не чужая приблуда привокзальная, – закончил Запашный, мечтательно прикрыв глаза и разулыбавшись видению.
− Энто к каким таким местам прижаться желаешь? – спросил с хитрой ухмылкой Никифор Скорцов – забайкальский казак, разглаживая порыжевшие от дыма папирос кончики усов.
– Да ясно дело, к каким, – заповедным, – ответил, блаженно растягивая слова и прикрыв глаза Запашный.
Дружный смех казаков стал тесен для горницы деревенского дома. В другой комнате, за печкой заплакал младенец.
Кто-то из пришлых, перебрав самогону, прикорнул у стола, уронив отяжелевшую голову на руки. Кто-то засмолил самокрутку. Хата наполнилась сизым дымом.
Из угла, где сидел на полу, на расстеленной с вечера кошме казак Федор Крюков, потянулись тягучие, тяжелые нотки пения и зазвучало грубовато, с надломом в голосе:
− Жизнь-Матýшка, ты моя подружка,
ты моя награда, радость, да отрада-а-а-а.
− Жизнь Матýшка – злая колотушка,
ты моя невзгода, стужа-непогода-а-а.
− Жизнь Матýшка – горечь и утрата –
за судьбу уплата-а-а-а, − уже навзрыд тянул Федор.
Казаки прислушивались, приуныли, а Федор продолжал тянуть жилы и выворачивать души загрубевших в боевых скитаниях солдат:
− Как по жизни – жалкой укоризне,
следуя невзгоде, я бреду о-д-и-и-н.
− Потерял судьбину, я свою былину,
потерял я нитку радостей сво-и-и-и-х.
− Жизнь-Матýшка, − злая побирушка,
ты моя потеря, злая канителя горестей мо-и-и-и-х.
− Жизнь-Матýшка, ты моя подружка,
ты моя невзгода − жизни непогода… – ты-ы-ы моя л-ю-б-о-о-вь….
Казаки примолкли. Каждый из них переживал свою историю, свою личную мелодраму, в которой были и оставленная станица или деревня, и родители-старики, жены, полюбовницы и детишки, плетень округ усадьбы, да вековой тополь на выезде из деревни. Дети выросли уже за годы отлучки отцов, но каждый из них вспоминая своих ребятишек, представлял такими, какими он их оставил, понимая, между тем, что дети у него выросли без отцовского пригляда, и какие они теперь трудно было представить.
Кто-то, вздохнув глубоко, плеснул в кружку самогона, и молча выпивал морщась, то ли от горького напитка, то ли от тяжелых и горестных мыслей.
− Умеешь ты, Федя, душу разбередить, − ответил на песню казак Селезнев и продолжил, надорвав газетку и скручивая из самосада цигарку:
− И то правда, сломалась жизнь прежняя. А новая все как-то не народится. Сколько еще будем скитаться? А ведь так хочется хозяйством своим заняться. Мне так и снится, как я вернулся и взялся вдруг поправлять забор вокруг усадьбы. Это та работа, что всегда откладывал на потом, а взялся уже совсем перед призывом в войска, как будто чуял, − уйду надолго и завалится ограда. Да так и кинул, не доделав до конца – не успел.
Федор Крюков был необычным казаком. В войска пошел добровольцем. Сам был из семьи священника, отличался грамотностью и начитанностью, но оказался вдруг безбожником. Так его нарек отец, отметив полное отсутствие желания читать библию и поклоняться святым мученикам.
Но Федор почитал веру и крестился исправно, но читал с малолетства другие книги, в которых писалось про путешествия и плавания, военные подвиги и героизм рыцарей. С собой Федор таскал старый потертый кожаный портфель, добытый при случае. В портфеле казак хранил свои записи, которые никому не показывал. Но казаки знали – пишет историю Федор, и относились к этому с уважением, замечая, что, если как свободная минутка затишья выпадает, садится их боевой товарищ и что-то записывает быстрым своим карандашиком. Иногда случалось и такое, − Федор что-то читал для казаков.
− А, что Федор, напишешь книгу о нас, как только вся эта канитель между белой гвардией и большевиками закончится? – вдруг поинтересовался Селезнев.
Федор смутился несколько, и немного подумав, улыбнувшись, ответил:
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе