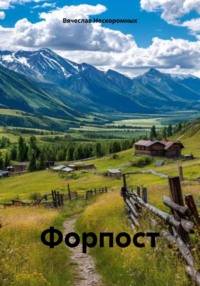Читать книгу: «Форпост», страница 2
Станичный атаман напутствовал казаков:
– Помните, станичники, что не было такого, чтобы наши казаки опозорили Соляной Форпост! С давних времен стоит наш стан, как защитный рубеж земли российской и стоять будет во веки веков надёжной опорой веры нашей и Державы, как пост защиты казацкого сословия от ворога, хулы и разора, от злодейства и воров.
В ответ гул одобрения прошёл по кругу собравшихся на площади, а кто-то, помня традиции, выкрикивал:
– Любо! Любо, атаман! Храни казаков, не жалеющих живота своего, во имя Отечества и сословия российских казаков!
Выслушав наставления атамана, старых казаков, вспомнивших славные свои денёчки молодости, лихие походы и яркие случаи службы, призванные на службу на своих конях, покрутились, джигитуя перед народом, демонстрируя выучку и готовность с честью послужить и не опозорить станицу.
В завершении торжественного майдана дед Елизар, готовый разливать вино, зычно пригласил:
– Подходи народ православный отведать вина сладкого во имя сына и святого духа воинства, во славу казацкого сословия и павших станичников на поле брани!
Момент вышел торжественный и потянулся народ со своими кружками чередом к столу с бочонком и деду Елизару.
Старик подслеповато щурился и ковшом с длинной ручкой черпал в бочонке вино и разливал в подставленные кружки, отказывая молодым, безусым, тем, кто норовил, опорожнив кружку, подойти спешно за второй. Надтреснутым сухим голосом Елизар ругал торопыг и недорослей:
– Повремени, повремени Гаврила, а то снова придётся тебя в бане отваживать, в речке отмачивать! А ты куда лезешь, Санька! Молоко ещё на губе до конца не высохло, а туда же за хмелем лезешь, не зная меры! Подрасти ещё, сынок!
Отчитав, по своему мнению недостойных выпивки, дед привечал тех, кто уходил в войска и молодым казакам наливали без задержки и без очереди. Это был их день.
Вечером перед закатом за станицей на излюбленном месте у реки собралась молодёжь, отметить последний день для тех, кто уходил в войска. Настя ждала, выглядывала Ивана, а тот пришел развесёлый, – смеялся, шутил, в новеньком мундире, штанах с лампасами, с заломлённой набекрень фуражкой, с напомаженным сестрой Лизкой чубом. Завтрашний отъезд в город, грядущая служба были долгожданными и волновали, и улыбка не сходила с губ. Впереди начиналась новая жизнь, новые впечатления и что ждать от неё, этой новой жизни было неведомо, но волнительно, и от чего-то весело.
Настя подошла к Ивану, была она печальна, губы кривились, словно от обиды:
– Уходишь Ваньша! Свидимся ли?
Иван отвечал, несколько небрежно, ровно так, как ведёт себя молодой человек, оставляя всё привычное из которого он вырос – детство, родные места и дом за своими плечами, отправляясь в дальнюю дорогу:
– Так куда я денусь? На побывку может и приеду? Глядишь, и свидимся. Ждать-то будешь?
Настя была несколько огорчена деланным равнодушием парня, губки скривила, но капризничать не стала:
– А как угонят тебя, куда далече с эскадроном твоим. Может война, какая зачнётся?
Иван продолжал хорохориться перед девушкой, повторяя слова отца:
– Да недавно была с японцем война. Теперь-то с кем? Повременить бы надо. А коли будет, – грянет, – пойду на войну. Казак он для службы армейской придуман и приспособлен. Не думай, я не струшу! Шашкой умею владеть не хуже других и врагу моему будет нелегко укрыться от неё.
Настя уже чуть не плача, прикрываясь уголком повязанного на шею платка, готовая смахнуть слёзы, пыталась «достучаться», пронять Ивана:
– А мне-то тебя, Ваньша, ждать? А то может я, и зазря переживаю?
– Что там говорить, Настя. Жизнь она только начинается. Свидимся ещё, надеюсь, тогда всё и будет понятно про меж нас. И потом – мала ты ещё, вот и батя твой мне об этом то и дело напоминает.
Так вот и расстались Иван да Настя, – молодые ещё люди, выросшие на одной улице. Теперь приходилось начинать жить поврозь и было это непривычно, ломало что-то важное, сложившееся, и от того было тревожно Насте, а Иван жил и грезил скорыми будущими впечатлениями. Открывался мир перед казаком с началом воинской повинности, которая была продолжением детской и юношеской забавы, в малолетстве начатых казачьих игр.
Глава 2
КРАСНОЯРК. КАЗАЧИЙ ЭСКАДРОН
Путь до Красноярска прошли за два дня верхами гурьбой, часто по-молодецки, – пускаясь на перегонки, следуя по тракту через Новосёлово и далее вдоль Енисея. Заночевав на привале у костра, стреножив коней и выставив, как положено посты, а с утра пошли по местности таёжной, то тропами, то лесными дорогами, непривычными после шири хакасских степей.
К городу подошли вдоль Енисея, а далее вышли к окраинам через пригодные сёла и с возвышенностей вокруг города смогли оглядеть раскинувшийся вдоль реки Красноярск. В пригородном селе уже в полутьме устроились заночевать, а утром, чуть ли не на рассвете тронулись вниз к городу в направлении сияющих куполами и перекликающихся перезвонами церквей.
В городе, который показался огромным, после небольшого Форпоста, прибывших разместили в военном городке на северо-восточной окраине города. Гарнизонный городок раскинулся у протоки Енисея близ двух трактов: в Канск и Енисейск. Добротные кирпичные двух и трехэтажные казармы из красного кирпича, полковая двуглавая церковь Александра Невского, обширный плац и место выездки коней, конюшни занимали места поболее, чем вся станица. В городе военный городок именовали Красными казармами и здесь размещались войска Красноярского гарнизона и Сибирский стрелковый полк, в состав которого и входил Енисейский казачий эскадрон. В военном городке и началась служба, которая день за днём правила молодых казаков и делала из них стойких умелых воинов.
Встречал казаков генерал Запыхалов, – невысокий, в обтягивающем сухое тело мундире, я пышными седеющими бакенбардами, с лицом всеведущего человека, которому многое в жизни любопытно. На груди генерала сиротливо поблескивал Георгий и, гремя шашкой и шпорами, взялся рассматривать прибывших казаков, – запылённых с дороги, но волнующе-торжественных, озирающихся в удивлении от нахлынувших впечатлений от увиденного и пережитого.
Генерал неспешно вышагивал перед строем прибывших новобранцев, задрав голову в фуражке с высокой тульёй и с прищуром внимательно осматривал молодца-казака через пенсне в серебряной оправе со свисающей изящной цепочкой.
Молодые казаки, сельские парни стояли перед генералом, тянулись по-мальчишески перед ним, держа в поводе своих коней.
Запыхалов проходил, смотрел пристально, останавливался, поправлял ремень, приглаживал ворот гимнастёрки, неловко торчащий за спиной вещмешок очередного казачка. Во взгляде генерала было радушие и строгость, одобрение и внимание. Кивая головой, замечал:
– Неплохо собрали вас станичники! Службу помнят!
Закончив обход строя, генерал отошёл и повернувшись к прибывшим казакам завершил осмотр:
– Добре, братцы, что прибыли в наш полк, в славный эскадрон! Не помню случая, чтобы казаки-сибиряки подкачали, подвели строй, нарушили присягу! Есть вам за кем тянуться и в дисциплине, и в боевом расчёте. Не стану вас томить, – ступайте, располагайтесь, отдыхайте. А уже завтра начнём службу, во имя Отечества!
Слова генерала отозвались в сердце каждого и, как только он закончил, без всякой команды раздалось:
– Ура-а-а!
Генерал в ответ разулыбался.
Молодые казаки довольные, что приняли их и с уважением, и вниманием разошлись и направились разместить коней в конюшне. Слышалось порой:
– Генерал, ты видел, – настоящий генерал! И такой внимательный! Во диво!
– Очечки у него смешные и шпоры, ты видел, – из серебра!
Команда конюхов принимала коней в повод, а невысокий человек, немолодой уже, в фартуке и в забавном картузе – коваль, суетился рядом и спрашивал казаков о том, есть ли кони со сбитыми копытами, плохо кованные или хромые. Таковых не оказалось и коваль, покрутив выцветший ус, отметил:
– Добре, казаки! Завтра каждую лошадку осмотрю, коли требуется перековать, поправить подковы, копытца, – всё наладим, как должно. Так, что послужите пока без лошадок, пешим строем, так его!
И рассмеялся, демонстрируя щербатый рот.
В большой казарме было много места, каждому выделили скрипучую металлическую кровать с матрацем и бельём. Молодые станичники были смущены, – не каждому в его молодые годы удавалось спать на чистой белой простынке.
Устроившись, молодые казаки вышли оглядеться вокруг.
Недалече от военного городка на Енисее, среди бурного его течения, был отмечен большой остров, получивший название Татышев. Название такое повелось от имени князька местного племени, проживавшего в то, давнее теперь время, вдоль Енисея. Племя это, малочисленное, занятое рекой, ловлей рыбы и охотой особо не перечило русским, а те и не трогали местных, помаленьку приобщая к своему присутствию в здешних местах.
С берега на остров был проложен понтонный мост и теперь, чуть ли не каждый летний день, исключая праздники и воскресенья, казачья сотня выезжала на остров, где был устроен полигон для скачек и отличная возможность для выпаса коней на свежей траве. Такие выезды любили и казаки, готовые с удовольствием поваляться в траве после выездки и кони, желающие похрустеть с усладой, свежей травой.
В городе было много интересного и необычного для казаков из станицы. Получив разрешение выйти в город или во время службы по поддержанию порядка, казаки с интересом наблюдали необычные для них события.
В городском парке в центре города каждый выходной день проходили футбольные матчи, которые с интересом смотрели зрители и тогда впервые смог увидеть Иван, как происходит спортивное состязание. Было это в диковинку.
Игра была простой и увлекательной: под крики зрителей молодые парни в красных, жёлтых и зелёных рубашках и чёрных трусах гоняли мяч по поляне и яростно вколачивали его в огороженные сеткой ворота, в которых метался высоченный парень в кепке и чёрных рубахе и трусах. Забавно было всё это видеть, многое было не понятно, но скоро разобрались в игре и кричали, подгоняя игроков и с восторгом ликовали, когда мяч влетал в сетку ворот – те или другие, а худой, жилистый парень в кепке, – голкипер, беспомощно валялся на линии ближних к стоящим казакам ворот. Был паренёк в воротах самым испачканным, но самым резвым, решительным и смотрел зорко за игрой, двигаясь в воротах вдоль прорисованной известкой линии. Парень в воротах вызывал уважение своей деловитостью, вовлечённостью в игру, особенно когда кидался в ноги, не страшась быть ушибленным, и хватал мяч в броске, прижимал к себе, как самую дорогую вещицу, свернувшись вокруг него клубком. Особенно восторженно приветствовали голкипера восторженные юные барышни. Иван смотрел на девушек в светлых платьицах и шляпках, иногда простоволосых, с лентами в волосах, отмечая с удивлением то, как они свободно себя ведут, заливисто смеются, что-то бойко обсуждают, и вспоминал Настю, отмечая, как отличаются городские девушки от станичных девчат.
Играли команды на стадионе «Сокол» у реки Кача, где на возвышении разместился спортивный клуб. Иногда для команд выставляли приз, – фарфоровую или серебряную тарелку или кубок, на которые собирали деньги любители футбола, местные богатые люди, коммерческие предприятия. Главным был супер-приз главы города и разыгрывался уже осенью в завершении сезона. После рекламы турнира у стадиона и определения, заявившихся для состязания команд, начинались игры, на которые стекался народ. Шумные сборища у стадиона беспокоили городские власти и к стадиону непременно выезжали в наряд казаки для поддержания порядка. Такие наряды на стадион для казаков, – молодым людям из дальних станиц губернии, были нарасхват, доставались в споре, сопровождались обидами, если долгожданный наряд отменяли.
Казаки пристрастились смотреть футбол и болели за команды «Спорт» и «Тренер», которые чаще всего побеждали другие команды – студентов и группу молодых людей под странным названием «Черепахи». Команда «Тренер», в которой играли хорошо экипированные и организованные парни, была самой мастеровитой. И, чаще всего именно эта команда побеждала уверенно соперников, часто с крупным счётом, одолевая в шумной, с матерками, в игре.
В городе работал кинотеатр, где впервые прибывшие на службу казаки увидели фильмы – странное под музыку действо на плоской белой стене. Люди на экране говорили беззвучно, открывая демонстративно рот и частенько строили гримасы гнева или радости, манерно вскидывали руки, падали навзничь на диваны, на пол, или в объятия партнёров. Фильмы поначалу смотрели с опаской, шарахаясь от рвущихся с экрана поездов и конских экипажей, но скоро попривыкли. После фильма многие стремились заглянуть за натянутый белый брезент и огорченные в раздумьях уходили прочь – за стеной из тряпки ничего не было кроме пыли и брошенной сломанной мебели.
В 1912 году электрическая энергия, которую стала вырабатывать первая городская станция, позволила освятить улицы, квартиры и казармы гарнизона города, скоро полыхнули в военном городке прожектора. Было это удивительно, когда осветились помещения казармы и двор, и плац, а скоро и улицы города засияли ночью на берегах реки.
Ещё более удивительным было, когда летом 1914 года за городом, на большой поляне на берегу Енисея, были устроены полёты аэроплана. Казаки направлялись в помощь полиции к месту полётов для поддержания порядка. На берегу у поляны с аэропланом собирались сотни возбуждённых любопытных горожан, суетились и шныряли среди взрослых мальчишки, барышни в шляпках с зонтиками от солнца с интересом разглядывали диковину и восторженно приветствовали авиаторов.
Иван был поражён увиденным. Впрочем, не только он один. Когда полувзвод казаков рысцой подъезжал к собравшейся на поляне толпе народа, над головой что-то резко зашумело и над всадниками низко, чуть ли не над самыми головами, раздувая траву, пролетел аэроплан, роняя, стремительно скользящую по земле, тень. Один всадник из казачьего разъезда запаниковал и кинулся вскачь, перепуганный летящим над головой аэропланом. Конь летел вытянувшись струной с припавшим к шее всадником, но самолёт плавно и казалось, неспешно скользя быстро опередил, как казалось, резво скачущую лошадь с наездником и стало понятно – от аэроплана не убежишь.
Скользнув над головами в шуме винтов, несколько чадя-поддымливая мотором, аэроплан плюхнулся на обширную выкошенную от травы поляну, подскочил, сделал горку и уже сел основательно и покатил, сминая траву, укладывая её потоком воздуха от винта. Кони заметались, рванулись вскачь, а сдерживаемые поводьями, стали приседать, вставать на дыбки. Казаки едва сдерживали их, крутили головами, будучи сами в нешуточном испуге. Многие зрители кинулись от места событий, в страхе озираясь, а отметив, что всё кончилось быстро и благополучно, смущённые, смеясь, возвращались на прежнее место у поляны с самолётом.
Аэроплан приземлившись, прокатился, шумя винтами по поляне, добежал до края, завернул киль, лихо развернулся и покатился, шумя винтом в сторону собравшихся у поляны зрителей. Когда самолёт стал приближаться к несколько оцепеневшей в испуге толпе, люди шарахнулись в испуге в стороны. Но аэроплан снова развернулся и скоро встал, едва вращая винтами.
Народ бесновался от восторга, пережив испуг. Когда же лётчик Казьминский, весь в кожаном одеянии, в шлеме с огромными очками, значительный, словно былинный богатырь, выбрался из своего аппарата, который называли странным словом «фарман» и ступил на землю, толпа поклонников не дала ему пройти мимо. Молодые люди, вероятно студенты, подскочили и взялись качать пилота, находясь в полном восторге. Иван понимал тех, кто так восторженно воспринимал первые реально увиденные полёты человека на аэроплане.
Увиденное и пережитое стоило того.
В казарме казаки долго спорили о том, что это забава такая – летать на аэропланах из реек, верёвок и тряпки, или какая-то польза будет от этих этажерок. Спор затянулся. Многим казалось, что забава пустая, и куда их можно приспособить эти шнурки-растяжки, фанеру обтянутую тряпкой, особенно в военном деле.
– Ты видал? Крыло у аэропланера обтянуто тряпкой, а в одном месте, я видел – дыра. Вот – крест дыра! Прям лоскут на ветру трепыхается, как у деда моего на драной шубе, когда он быстро вышагивает по станице, – перекрестился казак.
– Ой, да это тоже, что и в цирке – летающие акробаты, – заключили после жарких дискуссий казаки, отмечая, тем не менее, растущий интерес к новой забаве горожан.
– Вот в прошлом годе запускали воздушный шар. Тоже все дивились, да радовались, а кой кому даже удалось взмыть на шаре. Сказывали, что одна девка, так испугалась, что чуть из лоханки-то этой под шаром чуток не вывалилась. А что с этими шарами делать? Забава одна – смехотуля.
– Это ты, Никола, не прав, вставил слово Иван, – воздушный шар – отличное средство для наблюдения за противником. С него далече видно, что творит враг, к чему готовится.
– Да какой там, Ваня! Сказывали, что сбить его можно одной пулей! И привет! Вся эта затея падает на землю и наблюдатели в лепёшку.
Скоро, однако, противники авиации были сконфужены: в газете за июль 1914 года пропечатали, что авиатор Игорь Сикорский на своём четырехмоторном аэроплане «Илья Муромец» пролетел из Петербурга в Киев и обратно, менее, чем за сутки.
– Так это сколько вёрст-то отмахал аэроплан Сикорского? – задались вопросом и взялись расспрашивать знающих о том, как далеко Киев от столицы. Оказалось, что почти три тыщи вёрст в оба конца пролетел аэроплан за день и этому подивились, а когда узнали, что так был установлен новый рекорд перелётов, который пуще американского, кивали одобрительно и решили, что дело-то стоящее эта авиация.
При этом оказалось, что в самолёте сидели несколько человек. Из газеты узнали, что аэроплан может поднять в воздух и доставить за сотни вёрст почти десять пудов груза. Все тут же взялись считать, сколько мешков овса можно перевести и можно ли поднять в воздух коня. Выходило, что вполне можно перевести тридцать мешков овса, а если потребуется вести коней, то пару крепких жеребцов вполне может поднять механическая птица.
Но, всё, пересчитав, всё, обсудив да взвесив, решили казаки, что от Петербурга до Киева, коли будет надобно, казачий эскадрон, или даже дивизия верхами маханёт за пяток дней. Но, тем не менее, доберётся к месту, со всем своим имуществом и оружием, и урону противнику нанесёт не в пример поболее, того, что сможет свершить малосильное войско, доставленное к бою аэропланом.
На том и успокоились.
Три года пролетели в строевой подготовке, в постах, службе в военном городке. Жизнь казалось, текла неспешно, без каких-либо всполохов, пока не грянуло, как гром известие:
– Война!
– Да, с кем? – галдел обыватель и горестно вздыхал, когда слышал в ответ:
– Вестимо, с кем, – с германцем.
Вести с фронта приходили самые разные: успехи на турецком направлении сменялись горькими сообщениями об отступлении и пленении больших войсковых соединений на западном фронте, в Пруссии.
Казаки были удивлены и скоро узнали, что на фронте действительно стали применять самолеты Сикорского с бомбами для атаки по укрепленным позициям немцев и австро-венгров. Применяли успешно и даже разнесли в прах железнодорожные пути, мост и каменную крепость.
Скоро заговорили о броневиках и танках, огромных немецких пушках на рельсовом пути и со снарядами, которые только крановой установкой тягать можно, о скорострельных пулемётах и бронепоездах и возникло удивительное, пугающее ощущение от этих вестей. Становилось не по себе от того, как решительно и стремительно меняется мир вокруг, приобретает черты доминирующего жёсткого железного воителя, способного разнести в клочья любую оборону, живую плоть, ущемить и обесценить разум человеческий, военную стратегию.
– Тепереча как воевать-то? На кой лава казачья, коли пулемётами, да пушками разнесут в прах, как ты не рубись умело, – сокрушались казаки, размышляя о новостях с линии фронта.
Так закончился спор казаков о перспективах технических новинок во время войны, и оставалось только думать о том, что грянул век технический, в котором всё меньше остается места для кавалерии и простому солдату. Но когда затевался такой разговор, всегда побеждал в споре аргумент:
– А куда эти все танки, аэропланы годятся без солдата. Вот если солдат не придёт и не захватит деревню ли, город, – разве ж это победа?
Ждали теперь отправки на фронт и действительно часть казаков отбыли на войну, но сотню, в которой служил Иван Соловьёв, оставили в городе.
Через три года службы Ивана повысили в звании до урядника. Выделялся казак из Форпоста рвением к службе и воинскими умениями, а главное стал быстро авторитетом для сослуживцев. К Ивану, как уже опытному старослужащему казаку, приходили за советом или рассудить спор, и слово его всегда звучало среди казаков веско.
С началом войны активизировались агитаторы революционеров, и то и дело сотню поднимали для патрулирования, а то и разгона демонстрантов, поддержания порядка на бастующих предприятиях.
Так дослужили до семнадцатого года, когда война, без побед, при унылых известиях об окружениях, отступлении и линии фронта в условиях полного разложения армейской дисциплины, были непонятны, унижали и казались просто неприемлемыми. Вскоре и до Сибири добрался бунт, названный всевластием солдатских депутатов, взамен централизованной армейской дисциплины. Забурлила провинция шествиями, митингами, речами полнились площади и собрания: страна перестала работать в ожидании конца смуты.
Иван с трудом ориентировался в политических течениях, в этом бесконечном галдеже, но долго помнил глаза молоденького совсем человека в шинельке студенческой не по росту, которого он гнал на своем мерине по улице в момент разгона демонстрации на площади у понтонного моста. Паренёк бежал резво, был вёртким, – юркнул в узкий проулок, ловко увернулся от нагайки, и успевал ещё развернуться к подгоняющему его казаку, и выкрикивать:
– Приспешники сатрапов! Мучители народа! Служители царя – Николашки-кровавого!
В ответ Иван пришпорил коня и тот, налетев на парнишку грудью, сшиб с ног. Молодой человек отлетел к стене дома, упал на мостовую, а Иван, не останавливаясь, поскакал дальше довольный, что сдержался и не покалечил забастовщика.
Урядник Соловьёв уже привык к подобным словам в адрес казаков и особо не задумывался о них, понимая, что служба есть служба, а устав, – закон, которому должен следовать казак, не тратя внимание на вредные призывы.
– Плетью, обух-то, не перешибёшь, как не маши, как не ругайся, – вразумлял каждого сотник Еремей Басалаев, отметив, о чём судачат казаки после рейдов по улицам города, вспоминая, как усмиряли очередную смуту.
В один из дней сотню подняли и вывели в центр города, где бастующие устроили баррикады в районе Почтамтского и Театрального переулков. Когда казаки блокировали все примыкающие к центру города улицы и проулки, и казалось, что сопротивление стало угасать, со стороны баррикад зазвучали выстрелы. В узкой улочке среди глухих заборов и каменных зданий спрятаться было негде. Редкие пули рикошетили от мостовой и стен каменных зданий и были очень опасны. Вскоре был ранен казак из полувзвода, во главе, которой был поставлен Иван Соловьёв. Раненного отправили в госпиталь, наспех перевязав добытой тряпкой, а казакам пришлось спешиться и схорониться во дворе дома, сломав массивную калитку. Из дома вышел хозяин и стал браниться, возмущаться и требовать, чтобы казаки покинули двор. Иван осадил хозяина и приказал казакам следовать за ним дворами, чтобы подобраться скрытно к провокаторам, которые пролили кровь казаку и явно нарывались на кровавую стычку. Вскоре казаки пробрались к завалу через улицу и погнали засевших там молодых людей по улице. Иван скакал впереди казаков и, отметив, что среди них нет вооруженных людей, и что в основном это совсем молодые парни, вероятно студенты или рабочие с пристани, приказал оружие по возможности не применять, а гнать протестующих конями и если только будет замечено оружие – обрезы или наганы, бить на поражение.
Казаки поскакали за убегавшими, настигали и лупцевали нагайками в кровь, разбивая головы, плечи, спины бегущих. В одном месте раздался выстрел: зажатый в переулке человек выхватил из-за пояса наган и выстрелил. Пуля не задела казаков, но один из нападавших выхватил шашку и решительно и быстро опустил её на голову стрелявшему. Парень обхватил раскроенную под картузом голову и осел на ослабевших ногах а, издав истошный крик, повалился на брусчатку и от боли засучил ногами, но скоро затих.
Накал противостояния явно нарастал.
Иван скакал по брусчатке и перед ним из подворотни возник паренёк в курточке и чёрной фуражке.
Паренёк убегал, заворачивая голову в форменной студенческой фуражке, которая скоро слетела с него и укатилась в сточную канаву, а он бежал без головного убора, его светлые лёгкие волосы растрепались, и во взгляде был испуг, мольба и в тоже время, негодование. Думал Иван, что с ним делать. Можно было садануть шашкой плашмя по голове и вырубить мальца: там глядишь, отлежится и поправится. Можно было рубануть острым концом по голове или спине и тогда уже всё будут кончено разом для этого ретивого студента. Можно было просто отпустить его, поотстав и кинуться в сторону, увлекшись другим протестантом против власти.
Так и поступил Иван Соловьёв: придержал коня и смотрел, как убегает его подопечный, озираясь и в страхе тараща глаза.
Когда возвращались в казарму и обсуждали столкновение с забастовщиками, вспомнили зарубленного парня и смотрели на Захара Колодина, решившегося опустить на голову соотечественника боевую шашку, с опаской. Было видно, что Захар тяжко переживает это событие. Был он сосредоточен и бледен, сидел тихо в сторонке, переживал событие. Иван подошёл к рядовому казаку и стал его успокаивать:
– Не терзайся, Захар. Ты казак и при исполнении был своих обязанностей, – а мы всё видели и можем это подтвердить. А вот если бы он шмальнул из нагана и убил тебя или кого из наших? Каково бы было? Не грызи себя – ты всё сделал как надо. В конце концов, никто этого человека не заставлял чинить смуту, брать в руки оружие.
– Убивать оказывается непросто, Иван. Выворачивает наизнанку нутро. И чует мое сердце, что такая смута грядёт, что сегодняшние стычки нам игрой со взятием снежного города на масленницу покажутся. Сдаётся, что это всё только начало большой кровушки, которая скоро прольётся в России. Посмотри, как люди ненавидят друг друга, – глотки готовы драть. А повод для такой-то ненависти до конца не понятен ни тем, ни другим, а, тем не менее, полных рвения лить чужую кровь всё более и более:
– Видимо так: проливши однажды кровь, остановиться уже не просто.
Через день Захара Колодина забрали в участок, и более в эскадрон он не возвратился: сказывали, отправили Захара в часть, что уходила на фронт, покуда не осудили и не сослали в каторгу.
От этих беспорядков, что не утихали, а случались всё чаще, в казарме стоял гвалд от рассказов о событиях дня. Звучали новые призывы, полные противоречивых суждений и веяло от всего происходящего странными ощущениями грядущей катастрофы. Казаки ведали о юных гимназистках, что вешались на казаков, о паре террористов, которых затоптали конями, о седовласом мужчине, который кричал возмущенно в адрес казаков «Сатрапы!», а потом тихо осел у стены дома и, как потом, оказалось, умер от разрыва сердца.
Кипела страна, требовала перемен, исходилась пеною толпы, без здравых решений, не осознавая себя до конца, не давая понять, – чего же надобно русским людям. И накликали беду: перемены скоро грянули, да такие, что дышать стало непросто, и кровь в жилах стыла от лютости, страха и обосновавшейся в российских городах и деревнях, селах и аалах жесткости.
Вскоре стало известно, что от власти отрекся Император Николай Второй. Выходило, что тот, кому присягали при поступлении на службу, оставил власть, данную ему, как твердили ранее, Богом.
Закачалась земля под ногами людей всю жизнь свою живущих службой, в ожидании событий боевых, которые призовут их в войска под знамена Империи.
– А кому и как служить? – такой вопрос стоял теперь перед казаками без шуток.
Казаки держали фасон, исполняли устав и службу несли стойко, ведь присягу и устав службы никто не отменил, а станичный уклад требовал служить, не смотря ни на что, покуда есть то, что следует оборонять. Но говорили теперь больше о новой власти, о той, что формировалась после отречения царя. Вяло, без инициативы действовала новая власть, а правила иная сила, теневая, из темноты неведения, протягивающая крепкую свою хватку, укрытая до поры от света. Власть эта рассылала агитаторов, и ратовали вестники грядущих перемен за свержение всякого порядка, а укрытая от глаз сила копила мощь, набирала число страждущих и разгоняла невероятный ход событий и губительных свершений. Агитаторы от анархистов, социал-демократов, большевиков, шастали теперь всё более открыто и как-то проникали в гарнизон военных казарм не замеченные караулом. Сидели с казаками в курилке, предлагали табачок и листовки, которые тут же комментировали, объясняли тонкости политического момента, мило улыбаясь и похлопывая казаков по плечу. Пару раз агитаторов поколотили и выгнали из военного городка, но скоро привыкли к ним и слушали для развлечения. Посмеивались, когда заговорили о том, что земля будет у крестьян, а заводы у рабочих. Как-то это не складывалось с утверждённым веками порядком вещей. Слышалось порой в ответ на агитацию:
– А чё, земля-то? Она и так у нас! Чего ещё делить-то? Голытьбу привечать, что празднует с Рождества Христова до Покрова, а потом до Пасхи и снова до Рождества? Таким хоть всю землицу отдай – с голоду помрёшь!
Рубежный в жизни страны год начался с большого мартовского праздника, организованного властями города, как реакция на отречение Николая Второго от престола. Собрался почти весь город, а для охраны порядка был призван гарнизон города и казачий эскадрон. Было тревожно, необычно – Россия перестала быть монархией. Новости следовали одна за другой: в декабре, как предтеча, – знаковое событие, случилось убийство Григория Распутина. Радоваться этому никому в голову не пришло, но слухами полнилась Сибирь, – прибили Гришку-то не просто так, за этим стоит враг российский, вечно затевающий смуту против страны английский пристол.
И, верно, напасти повалились одна за другой: в первых числах марта следующего года отрекся император, словно из всей этой власти вышел дух стойкости, и вера пропала, улетучилась с гибелью Распутина. Как подтверждение немощи дома Романовых, отказался принять престол Михаил Александрович – брат Николая. Арест и ссылка семьи бывшего императора уже воспринимались, как события малозначимые, столько всего нового вызревало в чреве распадающейся Империи. Народ ликовал, не догадываясь о той беде, что вызревала последние месяцы. Управление страной менялось стремительно, переиначивалась суть государственная, и уже летом в Красноярске установилась новая власть: избранные на половину большевистская Городская дума и глава города большевик Яков Дубровинский. Была это ещё сила мягкой, настоянной на представлениях о порядочности и законности, демократии без истеричности и одержимости чинить насилие, без желания непременно выстроить всё по струнке, а в итоге угробить собственный народ. Но зрел уже внутри утробы революции её демон, рос, набирая и копя чёрную силу свою дьявольский порыв подмять страну, устроить из неё испытательный полигон, чтобы шагнуть за пределы России, плодя идеи и множа продукт мировой революции, всемирный катаклизм, на руинах которого планировалось что-то созидать. Будут ли эти руины плодородны, никто не давал отчёта.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+3
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе