Несовременная страна. Россия в мире XXI века
Текст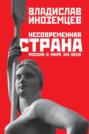


Перейти к аудиокниге
Ваш доход с одной покупки друга: 39,90 ₽
- Объем: 360 стр. 2 иллюстрации
- Жанр: публицистика, современное политическое положение
Российская «озабоченность» интересами государства проявилась еще в двух особенностях страны, которые во многом определили ее международное позиционирование.
С одной стороны, государство должно было иметь определенные физические измерители своей мощи: таковыми прежде всего являлись территория, ресурсы и люди. При этом сакральная природа «государства» предполагала (как это ни странно) акцент на потенциальные, а не на актуальные блага. Богатством считались поля и недра, пушнина и золото, нефть и газ – но вовсе не имущество граждан, их дома и сбережения (а о самих людях я и не говорю). Фактически то, что признавалось в той или иной мере частной собственностью и хоть как-то охранялось законами и правилами, переставало интересовать власти: для них наиболее важным было то, что они могли присвоить без сопротивления (а лучше даже без особо деятельного участия) большинства подданных. Именно это определило «территориальную» политику и «ресурсную» экономику России. До поры до времени, как было показано выше, пространственная экспансия была вовсе не только российским трендом – но проблема заключалась в том, что в российском случае такая экспансия осуществлялась в направлении так называемого хартленда – не имевших выхода к судоходным морям районов Сибири, Центральной Азии и Севера. По «экспертному», как бы сейчас сказали, мнению известного геополитика Х. Макиндера, контроль над этими районами обеспечивал доминирование в Евразии (Мировом Острове), а последнее – «командование миром»[87]. Данная точка зрения, сформулированная более 100 лет назад, идеально укладывалась в систему взглядов российских правителей, сформировавшихся со времен борьбы с Ордой; некритично воспринятая, она была быстро возведена в абсолют и доминирует в наших «геополитических» представлениях и сегодня (как отмечает А. Дугин, «именно вектор континентальной, а затем и глобальной экспансии, осуществляемый от лица Heartland’a, является “пространственным смыслом” русской истории»[88]). В результате Россия погналась за территориями, владение которыми было во многом бессмысленным: уже в первой половине ХХ века мировая экономика стала принимать все более ярко выраженный «океанический», а не «континентальный», характер, а к началу нового тысячелетия 68 % глобального ВВП стало производиться на узкой полоске суши, удаленной от морских побережий менее чем на сто миль[89]. Оба хартленда (Х. Макиндер предлагал «рассматривать внутреннюю часть Африки как второй Heartland», отмечая, что «несмотря на разницу широт, у этих двух Heartland’ов существуют поразительные сходства (курсив мой. – В. И.)»[90]) оказались в современной ситуации не центрами цивилизационного притяжения, а регионами самой безнадежной нищеты и отсталости, поскольку, я повторю, экономика сместилась к берегам, а важнейшими активами стали доступ к побережьям и мощные торговые флоты. Последние, замечу, ни в одной развитой стране не контролируются (в отличие, скажем, от железных дорог) правительством, и, следовательно, сдвиг от континентальной экономики к морской стал в то же время и сдвигом от огосударствленного хозяйства к частному – и то и другое Россия игнорировала и игнорирует по сей день (достаточно отметить, что очередной ее геополитический проект ориентирован на цели, которые можно было признать достойными в XIX столетии, но никак не в современном мире, – на интеграцию России и тех бывших советских республик, которые не имеют выхода к морям в Европе [Белоруссия], на Кавказе [Армения] и в Средней Азии [Казахстан, Таджикистан, Киргизия], в то время как страны, имеющие такой выход, стремятся держаться от России возможно дальше[91]). То же самое можно сказать и о ресурсах: Россия все больше переносит акцент на ресурсную экономику; ее лидеры позиционируют страну как поставщика нефти и газа, постоянно наращивая долю этих товаров в общем экспорте (с 36,9 % в 1989 году до 42,8 % в 1998-м, 57,7 % в 2004-м и 66,3 % в 2014-м[92]); международное сотрудничество и соперничество все чаще рассматривается через призму развития «экономики трубы» и поставок энергоносителей. В этом нет ничего удивительного, так как «государство» относится как к своей собственности прежде всего к территориям и природным богатствам, тогда как нажитое гражданами, их интеллектуальный капитал и их инициативу по традиции считает обузой. Поэтому место, которое занимает Российская Федерация в международном разделении труда, сегодня не должно никого удивлять – оно выбрано ее элитой вполне осознанно, на основании пренебрежения современностью и приверженности тем «традиционным ценностям», которые она столь чтит.
С другой стороны, величие «государства» в России определяется прежде всего не умением использовать к своей пользе противоречия и взаимозависимость других держав, а скорее способностью либо реализовывать политику изоляционизма, либо создавать такие альянсы, в числе членов которых невозможно найти себе равного. На протяжении многих столетий Россия раз за разом доказывала самой себе и остальному миру, что не умеет формировать устойчивых коалиций, участники которых были бы объединены общими ценностями (подробнее я остановлюсь на этом в седьмой главе). Затрачивая огромные усилия и неся значительные жертвы для помощи союзникам, она в итоге оказывалась одна и нередко вскоре сталкивалась со своими недавними друзьями. Причиной тому было ее стремление всегда занимать главенствующую роль в любом политическом объединении – такую, которая позволяла ей навязывать свою волю союзникам и партнерам. Истории не известен ни один случай (за исключением, быть может, Второй мировой войны, когда страна подвергалась самой серьезной опасности), в котором Россия состояла в геополитических альянсах, в которых либо она больше зависела от своих союзников, нежели те от нее, либо зависимость была в полной мере взаимной. В основе такой политики лежало опять-таки извращенное понимание «государства» как чего-то, что не знает пределов для утверждения собственной воли. Суверенитет в России исторически трактовался и сегодня трактуется как свобода от каких бы то ни было обязательств и ограничений. А. Кокошин, например, прямо указывает, что страны, на территории которых находятся военные базы других держав (а иногда он говорит также о странах, которые не имеют ядерного оружия), не обладают тем «реальным суверенитетом», к которому стремится Россия[93]. Президент В. Путин идет еще дальше и, отмечая, что любой союз предполагает умаление суверенитета государства (большинство западных политологов считают, правда, что вступление в союзы является формой выражения такового[94]), заявляет: «Россия, слава Богу, не входит ни в какие альянсы, и это тоже в значительной мере залог нашего суверенитета»[95]. Возможно, это заявление удивит многих международников – но оно идеально отражает мечты и стремления российской власти, которые остаются неизменными многие сотни лет. Как и стремление к умножению территории, поразительно несовременное понимание суверенитета отличает Россию от большинства развитых и успешных регионов – особенно от Европы, практически все страны которой объединились в Европейский союз, обеспечивший континенту продолжительный мир и невиданное экономическое благосостояние. Проблема намного более масштабна, чем то, что Россия теряет много возможностей, будучи не в состоянии выстроить отношения с ЕС. Как бы Российская Федерация ни пыталась представить себя глобальной державой, она остается достаточно слабой экономически и вряд ли привлекательной с точки зрения ее социальной и политической модели. При этом она занята «консолидацией» мало кому нужного постсоветского пространства, предпочитая задаваться вопросом «Кто тут с нами, а кто против нас?» вместо того, чтобы спросить себя «А с кем мы?», что представляется сегодня намного более рациональным и перспективным. Однако такой вопрос не приходит и не придет в голову хозяевам Кремля, в которых столетиями стремление к «реальному суверенитету» выступало компенсаторным чувством, порожденным подсознательным пониманием собственной окраинности и несовременности.
Россия создала свое «государство» с целью получить нечто, вокруг чего ее народ в состоянии был консолидироваться и значимостью чего власти могли бы спекулировать для того, чтобы облегчить себе управление им. Данный феномен помог разделить «частное» и «общественное», но не защитив первое от второго, а, напротив, проведя масштабное «огораживание» сфер и областей, в которые «частному» вход был заказан. Мы сегодня, мне кажется, не понимаем, в какой степени даже нынешнее российское «государство» представляет собой чуть ли не слепок с опричнины XVI века: с царской дружиной, с частными армиями, шутовскими преемниками и, что самое важное, с по сути огороженными территориями, на которых добываются природные ресурсы, и практически экстерриториальными путями их вывоза из страны. Однако по мере своего развития и отчуждения от общества это несовременное российское «государство» становилось все более тяжелым грузом для общества, которое оказывалось слугой и заложником этой таинственной внесубъектной сущности. Именно российское «государство» требовало и требует от общества усилий, которые потенциально угрожают самому его существованию; именно оно постоянно держит Россию в состоянии того имперского перенапряжения, которого столь долго, наверное, не способен выдержать никакой иной народ в мире. Эта иррациональная политическая система, воспроизводящаяся в стране на любом зигзаге ее истории, не позволяет всерьез рассматривать Россию как сколь-либо современное общество.
•••
Все сказанное выше не призвано, повторю еще раз, подчеркнуть неполноценность России или ее ущербность по отношению к обществам, сформировавшимся в рамках европейской традиции и распространившим выработанные ими порядки на большую часть мира в те времена, которые можно назвать «эпохой вестернизации»[96]. Россия сама была одной из держав, которая определяла облик Европы и мира на протяжении многих столетий, в том числе и своими колонизаторскими и цивилизаторскими усилиями. Моей задачей было лишь показать, что Россия на протяжении своей тысячелетней истории сформировала совершенно особую идентичность, определяемую тремя только ей присущими чертами. Ее первой особенностью, прослеживающейся с начальных шагов новой страны и до сегодняшнего дня, является непрекращающийся процесс социального и технологического заимствования и усвоения перенятых черт с последующим опережением своих «учителей» и достижением наивысших результатов, какие только могут последовать из применения заимствованных технологий. Второй уникальной чертой страны является специфическая имперская структура, в рамках которой само понятие империи старательно уводилось на второй план, а естественно сменявшие друг друга периоды имперского подъема и упадка искусно камуфлировались тщательно выстраиваемыми идеологемами, которые в большинстве случаев не имели к происходящему даже отдаленного отношения. Наконец, третьей исторической особенностью России стало обретение ею уникальной политической надстройки в виде «государства» – обезличенной сущности, обладающей сакральным значением и неформализованными интересами, в равной степени враждебной как внешнему миру, так и собственному народу; сущности, которая с каждым новым витком истории выглядит все менее современной.
Эта особенная идентичность формировалась в России много веков; в ее основе лежат несколько рецепций, в ходе которых страна «усвоила» и «переварила» совершенно разные религиозные, социальные и экономические практики, не восприняв полностью традиции, установки и нормы ни одного из обществ, с которыми она взаимодействовала. Именно эта традиция частичного заимствования из разных источников и делает Россию невосприимчивой к трендам Нового времени, предполагающим намного большую универсальность, чем та, которую и российская власть, и большинство российского населения готовы допустить. Все эти уникальные черты России должны приниматься в расчет любым, кто с той или иной целью изучает ее и стремится ее понять; они определяют большинство экономических, социальных, политических и идеологических особенностей страны в прошлом и настоящем – и, мне кажется, с высокой степенью вероятности будут определять их и в будущем, прежде всего потому, что российское общество многие столетия было и остается очень искусным в уничтожении или выдавливании прочь всех тех, кто пытается не согласиться с заданностью ее исторического пути и сделать страну более современной. Я далек от утверждения, что Россия будет и дальше только отставать в своем развитии, – как мы видели, сам по себе факт отставания является для нее не более чем прелюдией к очередной рецепции и очередному подъему; однако я глубоко убежден, что сам этот метод развития не может считаться соответствующим тому, что заслужил за долгие века своей непростой истории народ по-прежнему еще самой большой в мире страны.
Глава вторая
Европейская авторитарная страна
Данная глава удалена в соответствии с требованиями статьи 6.1 Федерального закона 80-ФЗ.
Глава третья
Рыночная не-экономика
Несмотря на то, что в политическом отношении Россия не слишком напоминает развитые страны, экономически она кажется более приспособленной для «встраивания» в современный мир. Ее хозяйственная система давно избавилась от замкнутости; в стране существует частное предпринимательство и разрешена деятельность иностранных компаний; курс национальной валюты устанавливается на основе спроса и предложения; декларирована неприкосновенность частной собственности. Конечно, существующая модель несовершенна: в этом контексте обычно указывают на сырьевую ориентированность, масштабное участие государства в экономике, распространенность коррупции и местничества – но в то же время сторонники тезиса о «современности» России акцентируют внимание прежде всего на ее хозяйственных достижениях («хотя российская трансформация была во многих смыслах болезненной, а политическая система государства далека от совершенства, страна демонстрирует впечатляющий экономический и социальный прогресс (курсив мой. – В. И.)»[97] – потому убеждены, что ее дальнейшее естественное развитие обеспечит в конечном счете политическую и идеологическую модернизацию общества. Я убежден, что этого не случится, и в ближайших двух главах попытаюсь обосновать этот тезис.
«Печать» ресурсного хозяйства
Когда современные исследователи говорят о «ресурсном хозяйстве», они прежде всего имеют в виду то гипертрофированное значение, которым в ряде стран обладает добыча полезных ископаемых. Это действительно весьма необычный источник богатства, существенно меняющий ориентиры и направления развития многих народов. Во-первых, наличие данных ресурсов не является следствием специфических усилий человека, а выглядит скорее «подарком свыше», причем о его «справедливости» говорить не приходится. Во-вторых, цены на подавляющее большинство сырьевых товаров обычно заметно выше издержек их производства и при этом на долгих исторических интервалах они растут быстрее, чем на большинство массовых товаров. В-третьих, значительные объемы ресурсов существенно искажают основные пропорции воспроизводства в добывающих странах, заставляя особенным образом оценивать как издержки, так и капитальные активы. Стоит, однако, отметить, что само по себе ресурсное хозяйство в обычно вкладываемом в это понятие смысле – достаточно недавний феномен. В прежние столетия в мире не было стран, которые бы критически зависели в своем развитии от природных богатств, не подвергавшихся никакой существенной обработке (колониям, которые зачастую выступали поставщиками экзотических товаров, эти ресурсы не приносили благоденствия – скорее наоборот). Конечно, государства всегда пользовались возможностями специализации, в том числе и такой, которая обусловливалась естественными особенностями страны (как, например, Китай, столетиями экспортировавший шелк, фарфор или чай), – однако в большинстве случаев речь шла не о сырье в «чистом» виде, а о товарах, требовавших для своего изготовления большого труда. При этом следует иметь в виду, что внешняя торговля вплоть до середины XIX века не определяла облик большинства экономик: отношение внешнеторгового оборота к ВВП в Европе к 1870 году составляло около 30 %, и менее 10 %, если исключить торговлю между самими европейскими странами[98]; ресурсы же даже и после этого составляли небольшую долю внешнеторгового оборота развитых стран (если не считать продукцию аграрного сектора). Наконец, стоит повторить еще раз, ресурсная специализация была уделом практически исключительно колоний или зависимых территорий – и потому приносила последним не столько доход, сколько излишнее внимание со стороны европейских держав, а с ним насилие и лишения.
«Ресурсные (или сырьевые) экономики» – это, как ни странно, явление ХХ века. Только сочетание формального политического равноправия всех стран, признанного после деколонизации, их растущего экономического неравенства, ставшего следствием постиндустриальной революции, и стремительного удешевления услуг транспорта сделало возможным появление сырьевых экономик в их нынешнем виде. Вплоть до середины 1960-х годов мир не видел таких государств, как, например, Венесуэла, у которой нефть обеспечивает 98,6 % экспорта, а стоимость поставок нефти за рубеж равняется 10,5 % номинального ВВП; Ямайка, где такую же роль играют бокситы (65 % экспорта, соответствующие 8,4 % ВВП), или Намибия с ее алмазами и золотом (49 % экспорта и 7,6 % ВВП)[99]. Чем более интернационализирован тот или иной сырьевой рынок, тем больше стран «подсаживаются» на «иглу» соответствующей товарной зависимости. По состоянию на начало 2010-х годов в мире было 21 государство, в которых больше половины экспорта составляла нефть; 15 зависимых от руд и металлов и 7–8 стран, не мыслящих своего выживания без сельскохозяйственных монокультур (хотя, замечу, уже не осталось государств, в которых один аграрный продукт составлял хотя бы половину экспорта)[100]. Однако, повторю, история всех этих зависимостей не превышает 40–70 лет, т. е. двух-трех поколений, – и поэтому они вряд ли могут считаться полностью определяющими судьбы многих народов[101] – тем более что в мире появляется все больше стран, которые за счет использования современных стратегий хозяйственного развития благополучно преодолевают излишнюю зависимость от добывающих отраслей.
Обращаясь теперь к России, можно заметить несколько принципиальных отличий, которые делают российское ресурсное хозяйство уникальным.
С одной стороны, сырьевая специализация России стала складываться очень давно. Изначально находясь на «стыке» Европы и Византии, Запада и Востока, Русское государство располагалось между двумя наиболее передовыми экономиками раннего Средневековья и не могло конкурировать ни с одной из них. В основном Русь была известна как территория, богатая мехами, кожами, пенькой, воском, дегтем и медом, – но ни в одном из ее описаний не говорится о развитом ремесленном производстве и тем более о закупках здесь иностранными купцами ремесленных изделий[102]. В период подчинения Руси монголам продажа даже самых простых изделий – в основном, в очередной раз, того, что приносила земля, – стала вынужденной тактикой в условиях, когда завоевателям требовалось платить дань серебром[103], а многие талантливые ремесленники вывозились в Орду[104]. Экспансия, начатая после свержения монгольского ига, была порождена не столько абстрактным стремлением к расширению и освоению территории, сколько пониманием экономических выгод такого процесса. Новгородские купцы вели торговлю с Сибирью с XII века, достигая по морю и рекам – Северной Двине, Печоре и Оби – «Югорской землицы»[105] (вероятно, районов современных Ханты-Мансийска и Сургута); более всего их интересовали меха и моржовая кость; со времени покорения Сибири пушнина на несколько столетий стала важнейшим компонентом российского экспорта. В XVI веке на нее приходилось до половины поставок российских товаров за рубеж, в конце XVII века – около трети[106]; остальными экспортными товарами были лен, воск, мед и зерно (отмечая этот факт, некоторые исследователи даже предлагали ввести термин «животная», или «зоологическая», экономика для обозначения того, что происходило в то время в зауральских краях[107]). В XVIII веке к пушнине прибавились хлеб, икра, лес и железо, но опять-таки серьезным образом переработанных (ремесленных или промышленных) товаров в российском экспорте практически не отмечалось. При этом сама внешняя торговля имела скромные масштабы, а казна зарабатывала на импортных, а не экспортных, пошлинах.
Ресурсы, разумеется, истощались – что прекрасно видно, в частности, на примере пушных промыслов. Жажда добычи пушнины гнала колонистов все дальше, но с начала XIX столетия отмечалось постоянное снижение числа добываемых шкурок: сообщалось, например, о сокращении поставок горностаевых шкур на ирбитскую ярмарку со 108 тыс. в 1850 году до менее чем 24 тыс. в 1870 году, а соболиных – с 43,6 тыс. до 5,1 тыс.[108] Подобные особенности российской экономики сформировали непреодолимое представление о тождестве территории и благосостояния; расширение пределов государства рассматривалось как основание для увеличения извлекаемых рент. Характерно, что даже М. Ломоносов, мечтавший о том, как будет «собственных Платонов и быстрых разумов Невтонов российская земля рождать», тем не менее не считал их таланты основой благосостояния страны, практично констатируя, что «богатство России прирастать будет Сибирью и Северным океаном»[109], в чем оказался прав. К началу ХХ века, когда возникал рынок нефти и Россия стала крупнейшим ее добытчиком[110], поставки отечественной продукции за рубеж на 95 % состояли из товаров, которые сегодня мы бы отнесли к ресурсным, – хлеба/муки, масла, скота, леса, нефти, руды, каменного угля, металлов, цемента и т. д.; в категорию «фабрично-заводских изделий» попадало лишь 4,7 % экспортных поставок[111]. Значимость территории оценивалась практически исключительно с точки зрения приносимой ренты: бесполезность в этом отношении Аляски стала основной причиной ее продажи в 1867 году Россия, таким образом, не неожиданно превратилась в сырьевую державу (как Иран или Венесуэла), а сформировалась как таковая за несколько столетий.
С другой стороны, серьезной особенностью России стало не то, что она эксплуатировала свои колонии, а то, какую роль эта эксплуатация играла в жизни страны в целом. Само по себе масштабное использование природных богатств завоеванных территорий было привычно европейцам: можно вспомнить о целом классе «колониальных» товаров – от специй до хлопка, от дорогих пород дерева до каучука, от сахара до кофе, – которые десятилетиями во все возрастающем количестве поступали в Европу с покоренной ею глобальной периферии. Однако российский случай отличался от европейских по целому ряду параметров.
Во-первых, продукция, поставлявшаяся из европейских колоний в метрополии, практически никогда не выступала значимым предметом реэкспорта (исключением можно назвать только привезенное испанцами золото, которое быстро попало в другие страны Европы, что привело в итоге к знаменитой «революции цен»). В большинстве же случаев колониальные товары использовались прежде всего в тех странах, куда они доставлялись (практически каждая европейская держава того времени имела свою компанию, которая располагала монопольным правом на торговлю с периферией или отдельными ее частями); даже продажи в другие европейские страны специй, которые в ранний период торговли с Ост-Индией вывозились голландцами в казавшихся огромными масштабах, составляли не более 20 % голландского экспорта, в основном представленного тканями, рыбой, сахаром, перерабатывавшимся тогда в стране, а также мануфактурными изделиями[112]. Обычно сырье ввозилось для переработки – как, например, хлопок и шерсть в Англию начала XIX века[113], а не для перепродажи. А уж по мере того, как и в остальных европейских странах началось бурное индустриальное развитие, стало ясно, что крупным экспортером сырьевых товаров остается на континенте только Россия – и это положение лишь укреплялось на протяжении всей последующей истории.
Во-вторых, специфическое расположение страны, которого мы уже коснулись в первой главе, порождало особенное понимание ее роли. Сколь бы много «колониальных» товаров ни завозили европейцы из завоеванных ими территорий и даже сколь бы активно они ни торговали ими, сырье всегда сохраняло именно колониальный статус. В России же, где «зоологическая», или «сырьевая», колония являлась составной частью государства, сырьевая специализация совершенно естественным образом воспринималась не как региональная, а как общестрановая, и поставщиком ресурсов считались не отдельные территории, а страна в целом. Наверное, не было бы ничего страшного, если бы Сибирь рассматривалась как источник пушнины в том же контексте, как Ост-Индия была источником пряностей, а Россия выступала бы перепродавцом первой приблизительно таким же образом, как Голландия – вторых; но ситуация полностью менялась от того, что Москва выступала в этой торговле не посредником, а основным субъектом. Власти в России намного больше зависели от сырьевых ресурсов своей колонии, чем в любой другой из европейских стран, – и так Россия начала восприниматься именно как ресурсная экономика.
В-третьих, осознанно или нет, но сырьевая специализация стала накладывать отпечаток на пространственное и политическое развитие страны. По мере того как наиболее значимым сырьем становились металлы, уголь и лес, требовавшие промышленной разработки в большей степени, чем добыча зверя или поиски золота, освоение территории стало принимать все более жестокий характер. Колониальные зауральские земли начали заселяться не столько теми, кто желал большей свободы, как это было в XVI–XVII веках, а подневольными людьми – ссыльными и каторжанами. Процесс достиг своего максимума к середине ХХ столетия, когда число заключенных и ссыльных в Сибири, на Крайнем Севере и Дальнем Востоке приблизилось к 3 млн человек, или пятой части населения этих краев[114] (при этом практически все они работали на производствах, так или иначе связанных с добычей сырья). Основные транспортные пути также решали задачи доступа к основным ресурсным базам или их обороны – тот же Транссиб связал центр страны не столько с тихоокеанским побережьем, с которого могли поставляться импортные грузы (торговля с Востоком была в те годы минимальной), сколько с основными районами разработки полезных ископаемых начала ХХ века и главными военными базами на Дальнем Востоке. Это состояние сохраняется вплоть до наших дней: на уголь, нефть, руду, удобрения, лес, а также металлургическую продукцию низких уровней передела приходится более ¾ грузов, перевозимых сегодня по российским железным дорогам[115]. Наконец, стоит отметить, что глобальная конъюнктура всегда была крайне благоприятна для России, которая реагировала на любые изменения потребностей развитых стран и поставляла (в основном в Европу) всё новые и новые товары – вместо пушнины лес, затем металлы, потом нефть и газ, и всякий раз ресурсная специализация воспроизводилась на более высоком уровне, сопровождаясь при этом последовательным снижением степени обработки экспортируемых товаров.
Важнейшим изменением, происшедшим за последние 300 лет, стало, я бы сказал, полное преодоление каких-либо «комплексов», связанных с такой ролью страны в мировой экономике. Даже во времена Петра I казалось, что великая страна не может быть поставщиком пеньки и леса – отсюда в значительной мере и происходит идея первой петровской модернизации; в то же время в XIX веке отношение к России как к европейской житнице и источнику зерна, льна и леса считалось нормальным[116], а в последние годы в России в политических и экспертных кругах стало не только прилично, но и престижно рассуждать о ней как об «энергетической сверхдержаве»[117], порой даже отмечая, что это не Россия является «сырьевым придатком Европы», а скорее весь совокупный Запад выглядит «технологическим придатком» самой России[118]. За этим неординарным подходом скрываются, на мой взгляд, два обстоятельства.
Прежде всего следует отметить, что Россия действительно является сокровищницей, содержащей в своих недрах огромные богатства. На нашу страну приходится, согласно международно признанным оценкам, около трети подтвержденных мировых запасов никеля, природного газа и калийных солей, до 30 % – золота и алмазов, 25 % – железа, кобальта и никеля, до 15 % – цинка, по 11–12 % – нефти и угля, не менее 10 % свинца, цинка, серебра и меди[119]. Почти 20 % всех лесов на планете находятся в пределах Российской Федерации, здесь также сосредоточено более 20 % глобальных запасов пресной воды, значительная часть которой отличается исключительным качеством[120]. По показателям обеспеченности основными видами ресурсов Россия с учетом численности населения в разы (а в ряде случаев даже в десятки раз) превосходит среднемировые значения. Поэтому запасы сырья кажутся поистине безграничными, а любые стратегии развития, основанные не на их использовании, а на ускоренной индустриализации или построении «экономики знаний», представляются в лучшем случае не слишком рациональными.
Кроме того, нельзя не признать, что эксплуатация природных богатств в российских условиях является одним из наименее затратных видов деятельности и таким образом открывает потенциально самый простой путь к повышению благосостояния народа и обогащению страны. Сегодня, согласно официальным отчетам крупных российских компаний, себестоимость добычи полезных ископаемых остается исключительно низкой и позволяет извлекать громадные прибыли: так, «Роснефть» определяет сегодня среднюю себестоимость добычи на своих месторождениях в $2,6/бар., что почти в 30 раз ниже текущих мировых цен на нефть; «Газпром» говорит об издержках в размере $13/тыс. куб. м, что ниже текущих цен поставок газа в дальнее зарубежье в 12,5–14 раз; «Норильский никель» сообщает, что все производство никеля по сути не стоит компании ничего, так как совокупные издержки полностью покрываются реализацией меди и металлов платиновой группы, выступающих побочным результатом основной добычи[121]. Именно поэтому после распада СССР сырьевой сектор прочно закрепился в качестве лидирующего в российской экономике: он давал стране и бюджету наибольшую отдачу, а ресурсные товары (вследствие давно устаревших технологий в промышленности) оказывались практически единственной российской продукцией, которая имела устойчивый спрос за рубежом, что было критически важно.
Эта и ещё 2 книги за 399 ₽