Личное дело.Три дня и вся жизнь
Текст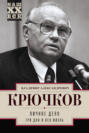


Перейти к аудиокниге
Ваш доход с одной покупки друга: 37,90 ₽
- Объем: 860 стр.
- Жанр: биографии и мемуары, военное дело / спецслужбы
Как-то мне было поручено посетить одну страну специально для проведения встречи с человеком, являющимся весьма ценным источником информации. Оперативно та встреча была обеспечена на должном профессиональном уровне, с соблюдением всех мер предосторожности, чтобы ни в коем случае не поставить под удар агента. Встреча длилась целых 26 часов! Когда усталость совсем валила нас с ног, тут же и дремали, отводя на это не более двух часов. Не хотели тратить время на сон ни наш зарубежный друг, ни я, ни два наших товарища, которые обеспечивали встречу.
Источник информации сотрудничал с нами на идейной основе, искренне уважал наше государство, был благодарен советским людям за победу в Великой Отечественной войне, которая спасла его и его близких от верной смерти. Он сам никогда не бывал в Советском Союзе и о жизни у нас знал лишь понаслышке. В последние годы агент далеко не по всем вопросам обладал конкретной информацией, но его связи, знания, опыт, характеристики отдельных лиц, глубокие оценки политической и экономической ситуации в стране представляли для нас поистине уникальный интерес.
По ходу разговора им была обронена одна случайная фраза, которая в сочетании с другой информацией, полученной нами ранее совсем из другого источника, явилась ключом к важной разгадке. Последовал целенаправленный поиск, всесторонний анализ, проверка возникших версий, оперативные игры, в результате чего был разоблачен опасный агент, длительное время работавший на зарубежную разведку. Но, прежде чем это случилось, прошло более десяти лет…
О значении агентуры говорит и тот факт, что сведения об агентах – святая святых – самая оберегаемая тайна любой разведслужбы. Ничто, ни методы и приемы разведдеятельности, ни даже конкретные задачи и цели, не охраняется так тщательно, как сами источники получения информации. Зачастую приходится отказываться от реализации полученных важнейших данных, если это может засветить агента или просто дать противнику ниточку для его локализации.
Агенты оберегаются столь тщательно, за их деятельностью так пристально следят из центра, что факты их случайной расшифровки чрезвычайно редки. А уж когда речь идет о раскрытии источника информации, скажем разведслужбой противника, то можно почти однозначно сказать, что причина кроется в предательстве и искать ее нужно у себя дома. В последнее время появились и такие провалы, которые можно объяснить лишь одним – нашу агентуру выдают, других причин быть просто не может!
Советская разведка всегда работала бок о бок со службами наших ближайших союзников, многие задачи решались нами сообща, в тесном взаимодействии. Но никогда мы не обменивались данными о своих агентурных сетях – таков непреложный закон конспирации.
Как-то раз руководитель разведывательного ведомства одной из социалистических стран предложил передать мне перечень своей агентуры и даже протянул подготовленный документ. Я решительно отказался от этого «подарка», объяснив удивленному коллеге, почему не следует этого делать. С получением такой информации мы не просто взвалили бы на себя огромную ответственность, но и в случае любого провала значительно затруднили бы выявление его причин, ведь для того, чтобы докопаться до истины, потребовалось бы расширить круг поиска до неопределенных пределов.
Сейчас, наблюдая за происходящим, я мысленно крещусь, вспоминая об этом решении. Даже трудно представить, какими последствиями для наших друзей могла обернуться ситуация, если бы в Москве имелись подобные списки!
В самом конце 1974 года решился вопрос о моем назначении на должность начальника Первого главного управления КГБ СССР, то есть начальника разведки. По традиции со мной должен был побеседовать генеральный секретарь ЦК КПСС.
Брежнев принял меня 30 декабря в своем кабинете в Кремле. Там же был и Андропов. Перед беседой Юрий Владимирович предупредил меня, чтобы я не очень удивлялся, если генсек покажется мне не в форме, главное, мол, говорить погромче и не переспрашивать, если что трудно будет разобрать в его словах. Так что в Кремль я прибыл уже подготовленным, но то, что я увидел, превзошло все мои ожидания.
За столом сидел совершенно больной человек, который с большим трудом поднялся, чтобы поздороваться со мной, и долго не мог отдышаться, когда после этого буквально рухнул опять в кресло. Андропов громким голосом представил меня. Брежнев в ответ только и сказал: «Что ж, будем решать».
Я произнес несколько слов в порядке заверений, и на этом официальная часть процедуры была закончена. Прощаясь, Леонид Ильич снова кое-как встал, обнял меня, пожелал всего доброго и даже почему-то прослезился.
В комитет мы возвращались с Андроповым вместе. В машине, против обыкновения, всю дорогу ехали молча – все еще находились под впечатлением встречи. Уже в кабинете Юрий Владимирович рассказал мне, что со здоровьем у Брежнева в последнее время стало совсем худо, именно по этой причине и была отменена его поездка по ряду стран Ближнего Востока, хотя официально это объяснялось соображениями политического характера.
Тут раздался звонок по спецсвязи – это был Устинов. Я поднялся, чтобы уйти, но Андропов жестом остановил меня, предложив присутствовать при разговоре. Устинов поинтересовался, как выглядит Брежнев, – видно, хотел проверить собственные впечатления.
– Совсем плохо, вот и на Крючкова его вид произвел удручающее впечатление. Пора, наверное, найти какой-то мягкий и безболезненный вариант постепенного отхода Брежнева от дел. Продолжать и дальше управлять страной в таком состоянии он уже не может физически.
Устинов ответил, что придерживается такого же мнения. Я часто потом вспоминал этот разговор, думая о том, что «постепенный отход» затянулся на целых восемь лет!
Да, это был трудный период в истории нашего государства. Здоровье Брежнева, несмотря на кратковременные просветы, продолжало неуклонно ухудшаться. Он уже ничем и никем не управлял, управляли им. Тягостное это было зрелище, в конечном счете это безвременье и повлекло за собой многие наши последующие беды, создало ту самую затхлую атмосферу застойного периода, в которую свежим ветерком перемен так легко впорхнула потом перестройка.
По мере ухудшения состояния здоровья Брежнева к концу 1974 года пришли в движение, активизировались те члены высшего советского руководства, которые до тех пор ничем особенным себя не проявляли. Это можно было почувствовать по официальным речам, высказываниям во время встреч с сотрудниками различных советских организаций и ведомств. Каждый старался «набирать очки», всячески пропагандируя прогрессивность своих взглядов. В результате к концу 70-х – началу 80-х годов расстановка сил в высшем эшелоне власти более или менее определилась.
А.А. Громыко, Д.Ф. Устинов и Ю.В. Андропов работали в тесном сотрудничестве и всегда находили между собой общий язык. Их объединяла исключительная лояльность к Брежневу.
А.П. Кириленко пытался играть свою собственную роль, опираясь при этом на часть партийного аппарата.
М.А. Суслов активности не проявлял, стоял особняком и ни с кем не был тесно связан ни личными, ни деловыми отношениями.
A. Н. Косыгин олицетворял собой довольно влиятельное совминовское лобби.
B. В. Щербицкий старался быть ровным со всеми, тянулся к Андропову, хотя близко они так и не сошлись.
Н.А. Тихонов, К.У. Черненко, А.П. Кириленко и В.В. Гришин однозначно стояли на позициях личной преданности Брежневу, однако сколько-нибудь заметной роли в государственных делах они не играли.
Страна хотя и медленно, но верно катилась под гору. Не все, надо сказать, делалось так уж плохо, но тем не менее самая верхняя часть государственной пирамиды была парализована, и это не могло не сказываться на ситуации в стране.
В обществе возник и все больше распространялся опасный вирус апатии и пассивного ожидания перемен в высшем руководстве. Если у кого-то возникали смелые идеи, радикальные предложения, то никто не хотел брать на себя смелость добиваться их реализации. Так все и топтались на месте, пребывая в молчаливом ожидании.
А тем временем в стране созревали потенциальные условия для роста социальной напряженности, усиливались кризисные явления в политике и экономике, свидетельствовавшие о том, что общество поражено серьезным недугом. И этот недуг олицетворял собой прежде всего сам Брежнев.
Умер Л.И. Брежнев в ноябре 1982 года, то есть спустя восемь лет с той памятной для меня беседы в Кремле. И все это время состояние его здоровья оставалось крайне неровным и тяжелым.
И все-таки, подводя итоги правления Брежнева, нельзя говорить лишь о серьезных ошибках и недостатках. Объективный анализ свидетельствует о том, что на многих направлениях удалось достичь и позитивных результатов.
Тогдашнее руководство на протяжении всего периода пребывания у власти твердо стояло на позициях защиты внешнеполитических интересов Советского Союза и в целом не допускало ухудшения положения и ослабления влияния нашей страны в мире. У Л.И. Брежнева, в отличие от Хрущева, не было чрезмерных иллюзий насчет возможности решительного улучшения отношений с западными странами, США и Японией, хотя попытки активизировать связи с упомянутыми государствами, прежде всего в торгово-экономической области, настойчиво предпринимались.
Немало было сделано для укрепления обороноспособности родины. Тому, кто пытается сейчас возложить на СССР ответственность за гонку вооружений и холодную войну, нелишне напомнить о том, что именно в брежневский период был достигнут военностратегический паритет с США.
Период Брежнева ознаменовался заключением важнейших советско-американских договоров в области ограничения стратегических наступательных и оборонительных вооружений, что привело к некоторой разрядке напряженности.
С другой стороны, политическое, экономическое и военное противостояние с Западом рассматривалось нами как нечто неизбежное и оставалось незыблемым краеугольным камнем нашей внешней политики. Ни одна из сторон не предпринимала сколько-нибудь серьезных попыток радикального смягчения противостояния, хотя столицы ведущих государств отдельными своими внешнеполитическими шагами демонстрировали стремление к сотрудничеству и миру. Пример тому – Хельсинкские соглашения по вопросам безопасности и сотрудничества в Европе, которые, в отличие от более поздней пустой трескотни по поводу «построения общеевропейского дома», явились в свое время пусть скромным, но все же реальным шагом на пути длительного процесса оздоровления обстановки не только на Европейском континенте, но и в мире в целом.
США и Советский Союз внимательно следили за тем, чтобы установившийся баланс сил в мире не был опасно нарушен в пользу той или иной стороны. Поэтому реакция на любые посягательства изменить статус-кво не заставляла себя ждать и была довольно решительной.
Советский Союз сохранял свои позиции в Восточной Европе, Азии, на Ближнем Востоке, в ряде стран Африки и Латинской Америки. Это стоило нам определенных расходов в виде прямой, преимущественно военной помощи.
Однако со многими странами шел активный и значительный торгово-экономический обмен, который приносил нам существенные выгоды, во всяком случае, для экономики нашей страны польза была вполне ощутимой. Мы получали валюту, сельскохозяйственные и промышленные товары, крупные заказы на строительство объектов. Наше прочное положение позволяло легко получать кредиты на выгодных условиях, мы не ходили в должниках. Но, разумеется, все это далеко не покрывало реальных потребностей, было несоизмеримо с масштабами нашего государства. По-прежнему слишком много в нашем экспорте было сырьевых товаров и очень мало готовой продукции – на торговле с нами наживались больше, чем мы получали от нее. В приобретении позиций в третьем мире Советский Союз, да и другие социалистические страны скорее видели лишь возможность укрепить свое геополитическое положение, иметь больше друзей, выстоять в глобальном противостоянии, которое в то время было очевидной реальностью. Должных экономических выгод при этом мы не получали, да и целей таких перед собой, похоже, не ставили.
Политика, целиком и полностью основанная на идеологии и лишенная здравого прагматизма, разумеется, не являлась оптимальной и рано или поздно должна была претерпеть изменения. Но это означало бы коррекцию политического курса, отказ от устоявшихся стереотипов мышления. Беда социалистических стран, включая и Советский Союз, состояла в том, что они так и не решились на этот шаг, не смогли заглянуть вперед, спрогнозировать развитие событий даже на ближайшую перспективу. Этому мешало наше закоснелое мировоззрение, которое с ходу отвергало любые идеи, не укладывавшиеся в строгие рамки чрезмерно идеологизированной официальной доктрины.
Китайская проблема неизменно занимала важнейшее место в сфере внешнеполитической деятельности Советского Союза. Андропов никогда не выпускал ее из поля зрения, много занимался ею. Причины очевидны: Китай – не просто соседнее государство, но и держава, великая по любому параметру.
Неосторожное обращение Хрущева с китайским соседом в конце 50-х – начале 60-х годов дорого обошлось СССР. Конечно, нельзя сводить все только к личности самого Хрущева, к его взглядам и заблуждениям. Были обстоятельства и объективного свойства – потенциально сохранявшийся территориальный вопрос, наличие различных подходов по ряду международных проблем, к примеру по Монголии, Вьетнаму, Лаосу, Камбодже (так, по крайней мере, тогда представлялось), существенные различия во взглядах на строительство социалистического общества.
Но все же доминирующими были именно субъективные факторы, которые мы, к сожалению, привыкли почему-то недооценивать. А ведь несовершенство общественно-государственных систем во всем мире волей-неволей обуславливает первостепенную роль и значение личности, особенно оказавшейся во главе государства.
Если в период правления Хрущева наши отношения с Китаем достигли высшей точки накала и стороны, казалось, неудержимо и бесповоротно шли по пути обострения ситуации, то приход к руководству Брежнева положил конец этой тенденции, привнес новые элементы в политику Советского Союза по китайскому вопросу. С нашей стороны начали предприниматься искренние и целеустремленные попытки нормализовать советско-китайские отношения. Проявлялись выдержка, терпение, но вовремя остановить начатое еще при Хрущеве сползание к опасной конфронтации было уже трудно.
Отсюда и трагический конфликт в районе острова Даманский в марте 1969 года. Начался он 2 марта расстрелом китайцами девяти советских пограничников и захватом острова, а закончился 15 марта освобождением Даманского, хотя, разумеется, последствия этого военного столкновения имели свое продолжение еще в течение длительного времени.
Военный инцидент на Даманском разразился на небольшом клочке земли и уже по одному этому признаку мог показаться сугубо локальным. Но его значение определялось не географией, а теми принципами, подходами к решению территориальной проблемы, которые продемонстрировало китайское руководство, стремлением китайской стороны во что бы то ни стало показать, что Китай является независимой державой со своим собственным лицом и намерен решать вопросы исключительно по собственному разумению.
Китайские руководители хотели любой ценой заставить считаться с ними. Правда, способ проявить себя в этом качестве выбрали жестокий – ведь конфликт, несмотря на всю его ограниченность, с самого начала принял кровавый характер.
Для советской стороны инцидент в общем-то был неожиданным. После гибели группы пограничников советское руководство оказалось если не в шоке, то в состоянии близком к этому. Начался мучительный поиск выхода из создавшегося положения. Даже локальный конфликт представлял огромную опасность, поскольку в любой момент мог перерасти в полномасштабное военное столкновение.
На узком совещании у Андропова было выработано следующее предложение: во-первых, локализировать конфликт, ограничив его рамками чисто пограничной проблемы, а во-вторых, попытаться урегулировать возникший инцидент только силами пограничников, ни в коем случае не допуская участия в боевых действиях регулярных воинских подразделений. Помню, Юрий Владимирович все время убеждал, что с Китаем надо договариваться, призывал проявлять максимальную выдержку. Он настоятельно рекомендовал также избегать спешки, просил отвести для решения проблемы побольше времени.
Несмотря на то что существовала и другая точка зрения, сторонники которой предлагали воспользоваться предоставленным китайской стороной поводом для того, чтобы развернуть широкомасштабное наступление и задействовать для этого крупные воинские соединения, Брежнев поддержал мнение именно Андропова. Оба они – и Брежнев, и Андропов – хорошо понимали, что тот успех, который сулила нам крупная военная операция, все равно носил бы временный характер, раны же потом пришлось бы залечивать значительно дольше.
Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило правильность именно такого подхода. Спустя некоторое время после событий на Даманском советско-китайские отношения стали постепенно нормализоваться. Правда, для этого нужно было отойти в лучший мир Мао Цзэдуну.
Те позитивные перемены в международных отношениях, которых удалось добиться в последний период правления Брежнева, реальные ростки разрядки и снижения напряженности мало отразились на положении нашей разведки. В лице Москвы, несмотря на свои миролюбивые заверения, Запад по-прежнему усматривал источник зла и корень всех бед. Ну а под рукой Москвы всегда подразумевали Комитет государственной безопасности, а вернее, его передовой отряд, действующий в непосредственной близости, – советскую внешнюю разведку. Поэтому острие подрывной деятельности против Советского Союза было направлено на его органы госбезопасности.
До сих пор продолжают муссироваться слухи о мнимой причастности спецслужб Болгарии, а заодно и Советского Союза к покушению в 1981 году на главу Римско-католической церкви папу Иоанна Павла II. По сути дела, речь идет о крупнейшей за последние десятилетия политической провокации, развернутой против нас и наших союзников.
В высших эшелонах государственной власти США, Италии, да и многих других стран никто всерьез в так называемый болгарский след, по-моему, не верил. Американские и западноевропейские спецслужбы прекрасно знали, что болгары никогда не пошли бы на подобную акцию, тем более что она была лишена всякого смысла, но антисоветскую и антисоциалистическую шумиху тем не менее усиленно подогревали.
Воспользовались целым рядом совпадений, на полную катушку эксплуатировали предубеждения западного обывателя, всюду видевшего руку Москвы, умело обыгрывали и то обстоятельство, что папа (бывший кардинал Войтыла) был известен своим антисоветизмом, твердо стоял на позициях неприятия социализма.
Должен признаться, что на определенном этапе целенаправленные действия в первую очередь американских спецслужб заставили кое-кого даже в Москве засомневаться, а до конца ли искренни наши болгарские друзья, нет ли хоть малейшей, пусть даже опосредованной связи между Софией и тем инцидентом, который произошел в Ватикане. Вопросы эти поднимались в контактах с болгарами на высшем уровне. Мне тоже поручили провести откровенный разговор с министром внутренних дел Болгарии Стояновым, что я и сделал, хотя сам, разумеется, полностью исключал причастность болгарских коллег к покушению.
Дополнительную проверку с использованием наших оперативных возможностей мы все же провели. Вывод был однозначным – болгары здесь ни при чем. Хотя должен признаться, что масштабы умело раздуваемой истерии достигли таких размеров, что однажды я поймал себя на мысли, что и меня настораживает чрезмерное волнение болгарских коллег после ареста Антонова.
Последовала команда еще об одной проверке, результаты которой уже не оставляли никакого места для сомнений. Со временем доказательств того, что дело Антонова от начала до конца сфабриковано, становилось все больше и больше. Американцы засветились, когда пытались склонить некоторых своих агентов из числа советских граждан дать ложные показания о том, что к покушению на папу причастен КГБ, – именно в таком духе обрабатывали в США Виталия Юрченко.
То, что Агджа – фигура подставная, сейчас уже очевидно, хотя, несмотря на все старания, нам в свое время так и не удалось докопаться до всех деталей, получить доказательства, которые однозначно указывали бы на главного организатора этой акции. Но правда об этом происшествии, истинная подоплека всего дела наверняка известна в Ватикане. Не случайно после встречи один на один с осужденным Агджой Иоанн Павел II обронил фразу о том, что теперь он знает правду, но почему-то предпочел не предавать ее огласке.
Грязной выглядит вся эта история, она не делает чести ее организаторам. Мало того что «болгарское дело» в течение длительного периода отравляло международный климат, у него есть и другие последствия. Я имею в виду искалеченную судьбу болгарского гражданина Антонова, его начисто подорванное за годы пребывания в тюрьме и мучительного судебного процесса здоровье, страдания его семьи.
Политика часто перемалывает судьбы людей, но подобная расчетливая жестокость лично у меня всегда вызывала искреннее возмущение и осуждение.
Советский Союз часто обвиняли в связях с международным терроризмом. Комитету госбезопасности, естественно, отводилась роль безжалостного исполнителя этой политики. Приемы использовали чисто шулерские – раз Москва поддерживает национально-освободительные движения, в том числе и те, которые вынуждены прибегать к вооруженной борьбе, значит, она является пособником любого экстремизма, несет ответственность за деятельность ультралевых организаций террористического толка.
При этом тщательно замалчивалось то обстоятельство, что именно последовательное осуждение нами террора в любых его проявлениях являлось не только главным сдерживающим фактором в распространении международного терроризма, но и приводило к тому, что мы сами часто становились мишенью для террористов в качестве «предателей» дела мировой революции и «пособников» мирового империализма.
Кстати, если в наши руки когда-то и попадала информация о готовящемся теракте, мы использовали все возможности для того, чтобы предотвратить его – независимо от того, против кого была направлена акция. Это хорошо знали и сами террористы, поэтому они тщательно охраняли свои секреты, в том числе и от нас.
Помнится, мы оказывали посильную помощь американцам при освобождении заложников в Бейруте, предоставляли им сведения об угрозе совершения покушений на Буша и Рейгана в третьих странах. Американская сторона благодарила за эту информацию, но сама, насколько я помню, с нами подобными данными никогда не делилась. Может быть, потому, что не располагала такими сведениями.
Для подтверждения мифа о «жестокости» и «коварстве» советской разведки часто ссылаются на историю исчезновения в конце 1975 года бывшего советского военно-морского офицера Артамонова, известного также под фамилией Шадрин, который еще в 1959 году, будучи командиром эсминца, входившего в состав нашей эскадры в Гданьске, бежал на военном катере в Швецию, а затем, перебравшись за океан, стал работать на Разведывательное управление министерства обороны США (РУМО).
Утверждается, что КГБ похитил и намеренно ликвидировал этого перебежчика с тем, чтобы наказать его за измену Родине, а заодно и преподать урок другим предателям. Во всех красках история с похищением Ларка (псевдоним Артамонова) была расписана Калугиным, который в свое время как раз и был непосредственным руководителем нашей опергруппы, получившей приказ принять захваченного в Вене Артамонова на австрийско-чехословацкой границе и доставить его (живым и невредимым, замечу!) в Прагу. При этом используется избитый прием – вроде бы в целом правдиво рассказывается о «деле Артамонова-Шадрина» (привирается разве что по мелочам), приводится масса животрепещущих подробностей, но преднамеренно опускается несколько «мелких» деталей, которые проливают на это происшествие совсем иной свет.
Итак, Артамонов действительно нарушил присягу, бежал на Запад и стал работать на американские спецслужбы против СССР. За это преступление он в соответствии с действующим законодательством был заочно осужден и приговорен к высшей мере наказания – расстрелу.
В начале 70-х годов нашей разведке удалось выйти на Артамонова, установить с ним в Вашингтоне контакт, на который он поначалу пошел неохотно. Перед ним открылась возможность искупить свою вину перед Родиной, и Артамонов согласился работать на советскую разведку. Однако мы никогда не расценивали это как «крупное достижение вашингтонской резидентуры», прекрасно понимая, что имеем дело с предателем, который в любой момент может изменить еще раз.
Не буду отрицать, что в течение определенного периода мы склонялись к тому, что Ларк искренне раскаялся и сможет оказаться нам полезным, хотя подозрения все же оставались. Затем эти подозрения не только переросли в уверенность, но и были подтверждены оперативным путем. Вскоре в его настроении произошла заметная перемена, он вдруг активно потянулся к нам, стал форсировать отношения с советским разведчиком, что несколько настораживало, но не более того. А вскоре были получены достоверные данные о том, что американцы затеяли с его помощью игру с нами с далеко идущими провокационными целями.
Тогда-то и встал вопрос о том, чтобы выманить предателя и доставить его в Центр, разумеется, отнюдь не для того, чтобы просто привести в исполнение смертный приговор, вынесенный ему еще в 1960 году. Во-первых, мы давно отказались от подобных методов, а во-вторых, слишком уж сложный это вариант для такого случая, как говорится, овчинка выделки не стоит. Просто были обстоятельства, требовавшие беседы с Артамоновым в Москве, о некоторых из них Калугину, кстати, знать не полагалось… Ради этого и планировалась вся операция.
При разработке ее рассматривалось несколько вариантов того, как избежать сопротивления Артамонова и безопасно переправить его в Чехословакию, причем именно этой стороне дела придавалось ключевое значение. Предлагалось вообще не прибегать к медицинским препаратам либо, в крайнем случае, ограничиться безобидным хлороформом. На этом настаивали все разработчики операции, включая медперсонал. Были веские основания полагать, что для успеха операции этого будет вполне достаточно.
За применение «более эффективных» медицинских средств решительно выступал один Калугин. Несмотря на прямое поручение, чисто технические детали в должной мере им проработаны не были, что и привело к провалу операции в задуманном варианте. Не были приняты во внимание и настоятельные предупреждения медиков, в том числе и врача, сопровождавшего «пациента», о создании во время транспортировки необходимых условий «комфорта» (тепло, отсутствие физических нагрузок, введение препаратов, снимающих воздействие хлороформа и т. и.). Более того, вопреки обстоятельствам Калугин ввел Артамонову еще одну дозу снотворного. Тогда это было расценено как стремление перестраховаться.
Принимающая группа на границе оказалась слишком далеко от места передачи, и подопечного пришлось метров двести – триста волоком тащить по снегу (кстати, никаких носилок, вопреки утверждениям Калугина, под рукой не оказалось). Долго, минут десять-пятнадцать, ждали подхода застрявшей машины, оставив человека лежать на снегу. В единственную легковую машину набилось шесть человек, «пациенту» досталось место на холодном металлическом полу, где он и пролежал еще более часа. Все это и привело к неожиданному для нас летальному исходу.
По заключению медицинской экспертизы, даже с больным сердцем (о чем мы, естественно, не знали) Артамонов при выполнении всех требований врачей пережил бы транспортировку нормально.
Обо всем этом мне сразу же подробно доложил мой заместитель Усатов, который, вылетев в Прагу, руководил оттуда проведением операции. Усатов обратил особое внимание на то обстоятельство, что все участники принимавшей группы тяжело переживали случившееся, за исключением одного Калугина, который – и это заметили даже его товарищи – как будто был даже удовлетворен таким исходом.
Задуманная операция окончилась неудачей. Мы не только не получили Артамонова для работы с ним в Центре, но и вызвали неприятный для нас международный резонанс – ведь советские спецслужбы обвинялись в похищении человека на территории суверенного государства и совершении преднамеренного убийства. Разумеется, доводы о том, что речь идет о предателе, приговоренном к смертной казни советским судом в строгом соответствии с действующим законодательством, в расчет никем не принимались. Да, впрочем, этот аспект мог явиться разве что смягчающим обстоятельством и никак не снимал с нашей службы ответственности за допущенную ошибку. Но и наказывать участников операции оснований тоже не было.
В конце концов, главной причиной смерти явилось непредвиденное обстоятельство – больное сердце Артамонова, о чем мы не знали, упомянутые же выше технические просчеты при проведении операции не оказались бы фатальными для здорового человека. Кстати, при вскрытии обнаружилось, что у Артамонова был еще и рак печени в довольно запущенной стадии, так что жить ему оставалось, по оценкам врачей, максимум полгода…
Нельзя было сбрасывать со счетов и то, что погиб преступник, фактически дважды предавший Родину. Этот момент тоже играл не последнюю роль. Непосредственных участников операции было решено все же наградить, включая и Калугина, в отношении которого было признано нецелесообразным делать какое-то исключение, хотя именно на нем лежала главная ответственность за допущенный сбой. Ну а рассказанную им «трогательную» историю о том, что ему якобы самому было предложено выбрать себе орден, иначе чем бреднями не назовешь.
Мы ни разу не использовали недозволенных методов в работе против наших противников, решительно порвав с практикой прежних лет, когда принцип «око за око» служил оправданием нарушения норм международного права и законности. К сожалению, взаимностью нам не отвечали – с нашими людьми не церемонились, позволяя себе грубые провокации, сопровождавшиеся жесткими мерами не только психологического, но подчас и физического воздействия.
В арсенале средств, используемых западными спецслужбами против Советского Союза, было и такое, как массовые выдворения советских работников из ряда стран. Эти акции всегда сопровождались усиленно раздуваемой антисоветской истерией и приводили не только к резкому ухудшению двусторонних отношений, но и похолоданию международного климата в целом.
Эта и ещё 2 книги за 399 ₽