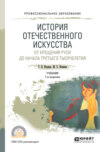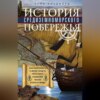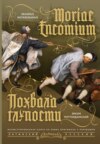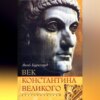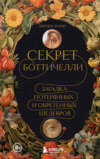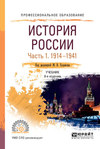Читать книгу: «Карточная игра в России. Конец XVI – начало XX века. История игры и история общества», страница 3
Продажа карт дозволялась по всей Российской империи. Торговля могла быть как временная, так и постоянная и осуществлялась через доверенных лиц (комиссионеров) с патентом на продажу или через местных торговцев, не имевших патента, но обязанных производить закупки только у откупщиков.
В городах, где продажа карт была небольшая или убыточная, они доставлялись в приказы общественного призрения за счет откупщиков. С каждого рубля вырученных таким образом денег приказы получали 5 %.
Цены на карты устанавливались по региональному принципу. Продажа ниже установленных цен не воспрещалась, исключая последние шесть месяцев откупа, чтобы не причинять убытка следующим откупщикам. В этом случае с каждой проданной дюжины платился штраф в 5 рублей в пользу Воспитательного дома.
Для контроля за соблюдением откупной продажи откупщики могли рассылать смотрителей, которым, как и доверенным лицам, местная судебная власть и полиция должны были оказывать скорейшее содействие и покровительство.
Выплата откупной суммы прекращалась, если продажа карт или «употребление оных вообще, а не одна какая-нибудь игра запретится», а также если «учинена будет на карты или употребление оных, под каким бы то ни было наименованием, в казенный доход накладка».
Карточные откупа в России в 1799–1819 годах53

С 1799 по 1815 год откупная сумма увеличилась на 285 %, несмотря на такие обстоятельства, как войны 1807 и 1812 годов. Однако карточный откуп обогащал прежде всего его содержателей, заинтересованных, под прикрытием государства, в быстрой компенсации уплаченной суммы и получении как можно большей прибыли. Откупщики исполняли роль посредников, фактически осуществляя торговлю картами только в столицах; в 46 губерниях этим занимались приказы общественного призрения, получая только 5 % с продаж. По денежным оборотам не было никакой отчетности, кроме эпизодических извещений Воспитательного дома о ходе торговли.
Игральные карты в России. Ассортимент и цены (1803–1839 годы)54

Бесхлопотный источник обогащения в виде карточного откупа быстро привлек к себе внимание дворянского сословия. Если поступления первых двух откупных сумм, по договору с Опекунским советом, гарантировали купцы, то третий откуп был перекуплен на публичных торгах дворянами. При этом с каждым новым контрактом социальный статус первого откупщика постоянно повышался.
С 1803 по 1839 год цены на игральные карты также неуклонно увеличивались. В Европейской России первый разбор – на 100, второй – на 110, третий – на 108 %. В сибирских губерниях первый разбор – на 57, второй – на 30, третий – на 56 %.
По имеющимся данным, в 1799–1800 годах было продано 54 228 дюжин игральных карт, а в 1808–1809 годах в два раза больше – 108 266 дюжин55. Тем не менее иностранные карты продолжали ввозить в Россию и в начале XIX века. В 1801 году содержатели пятого карточного откупа обращали внимание правительства на то, что они терпят значительные убытки от «увеличившегося чрезвычайно ввоза и продажи иностранных игральных карт».
Откупная система по сути своей связана с различными злоупотреблениями. Так, содержатели карточного откупа 1807 года вместо того, чтобы выкупать игральные карты у прежних откупщиков, начали «отбирать их без заплаты денег в казенный присмотр». Между тем продукция «на немаловажную сумму» подвергалась истреблению пожарами (как это случилось в Томском приказе общественного призрения) и «от переменного и сырого воздуха ущербу их доброты и главного достоинства лоску». Потребовалось правительственное вмешательство, чтобы не доводить прежних содержателей до дальнейших убытков56.
В 1819 году карточные откупа, как и порождавшие массу злоупотреблений водочные, были отменены. Правительство Александра I ввело государственную монополию на производство и реализацию игральных карт57. В утвержденной императором записке Марии Федоровны подчеркивались выгодность введения монополии для Воспитательного дома и необходимость повышения качества продукции («…по принятии Воспитательным домом карточного дела в свое управление прилично будет показать также изделье в совершеннейшем виде, нежели теперь продаются»).
Все существовавшие частные карточные мануфактуры закрывались, производить игральные карты разрешалось только Воспитательному дому (самостоятельное карточное производство оставалось в Финляндии). Для «повсеместного, непрерывного и беззатруднительного удовлетворения публики» торговля игральными картами, как розничная, так и оптовая, осуществлялась через комиссионеров Воспитательного дома и через приказы общественного призрения. При этом устанавливался строгий контроль торговых оборотов. Штраф за торговлю запрещенными картами увеличивался до 48 рублей с дюжины в пользу доносителя.
Значительно расширялся ассортимент продукции: к существующим трем разборам добавлялись «польские кампии», «тарок», «гадательные» и «детские», также допускалась возможность производить игральные карты с «золотым обрезом и другими украшениями»58.
Обеспечивала потребности в игральных картах всей Российской империи Александровская мануфактура – первая фабрика в России, основанная в 1798 году как бумагопрядильная с целью «распространить в России употребление прядильных и ткацких машин»59 (выписанных из Англии)60.
В смете, составленной ее управляющим генерал-майором Вильсоном, чистая выручка от продажи карт (исключая расходы на содержание производства) определялась в 400 800 рублей ежегодно61. Так, по меткому замечанию современника, «значительное потребление карт имеет у нас и свою хорошую, нравственную сторону: на деньги, вырученные от продажи карт, основаны у нас многие благотворительные и воспитательные заведения»62.
В 1833 году, согласно отчету, Александровская мануфактура ежегодно производила 145 000 дюжин (1 740 000 колод) игральных карт трех сортов63. Такое количество дало повод русскому журналисту и писателю О.И. Сенковскому погрузиться в «арифметическую поэзию» по поводу досуга русского дворянского общества: «…в дюжине колод 624 карты. Всякая карта имеет 3 дюйма длины [7,62 см], 2 дюйма ширины [5,08 см] и 6 квадратных дюймов [38,7 см2] поверхности.

Александр Яковлевич Вильсон
Разостланные на земле сплошь, все заключающиеся в 145 000 дюжинах колод карты покрыли бы собою 18 958 119/2831 квадратных верст [=21 575 км2], то есть пространство, равное поверхности пяти губерний: Петербургской, Московской, Нижегородской и двух Белорусских. Положив все эти карты вдоль, одну за другою, получим мы линию длиною в 159 732 11/300 верст [=170 402 км]».
Протяженность этой линии такова, что ее было достаточно, чтобы четыре раза обернуть весь земной шар по экватору. Свои подсчеты Сенковский заканчивал извержением «картодышащей горы», в результате которого Петербург ожидала судьба Помпеи: «…он исчез с лица земли, погребен под орудиями любимой своей забавы – превратился в город подземный, или, лучше сказать, подкарточный!»64
Необходимо отметить, что особенно большое количество игральных карт требовалось для азартных игр, в которых использовались две колоды (одна у банкомета, другая у понтера для выбора ставки), и для каждой новой прометки распечатывались новые карты.
С 1840 года цены на игральные карты были увеличены и устанавливались в пределах всей страны.
Игральные карты в России. Ассортимент и цены (1840–1859 годы)65

В 1859 году стоимость игральных карт вновь возвысилась: на карты глазетные, атласные и первого разбора – по 10 копеек, а на остальные сорта – по 5 копеек за колоду. С целью повышения качества самых ходовых сортов производство карт третьего разбора прекращалось, второй разбор становился третьим, первый – вторым, а отборные – первым.
Игральные карты в России. Ассортимент и цены (1859–1872 годы)66

В 1868 году государственная монополия на торговлю игральными картами, просуществовав около 50 лет, была отменена67. Этот товар разрешалось продавать всем имевшим право заниматься торговой деятельностью. Из предложенных Опекунским советом проектов продажи игральных карт по строго фиксированной или вольной цене (Воспитательный дом устанавливал только отпускную цену) императором Александром II был одобрен более либеральный проект.
Производство игральных карт по-прежнему оставалось в ведении государственной фабрики Ведомства учреждений императрицы Марии (с 1854 года). Ведомство могло также производить самостоятельную продажу игральных карт (в количестве не менее двух колод) из собственных магазинов в С.-Петербурге и Москве и посредством государственных учреждений на местах (приказов общественного призрения, губернских, уездных, городских и земских управ, уездных казначейств и так далее). Комиссионные за посредничество этих учреждений между Ведомством и покупателем устанавливались в размере 6 % от вырученной суммы в губернских и 8 % в уездных городах. По-прежнему подтверждалось запрещение продажи игральных карт иностранных, играных, без штемпелей или с поддельными штемпелями, с поврежденными обертками или бандеролями. Запрещалось производить карты вне стен Александровской мануфактуры. В первом случае штраф устанавливался в 14 рулей 40 копеек с дюжины в пользу доносителя, во втором – 15 рублей.
В 1872 году отпускные цены на игральные карты вновь были пересмотрены в сторону увеличения, изменения произошли и в ассортименте.
Игральные карты в России. Ассортимент и цены (1872–1881 году)68

Среди перечисленных сортов особое внимание обращают на себя нововведенный низший разбор, изготовлявшийся «на серой бумаге соковыми красками». Очевидно, что эти дешевые и по качеству, и по цене карты находили покупателя в недворянской среде, что свидетельствовало о появлении соответствующей потребности. Необходимо отметить, что и в 1859 году выпуск наиболее доступного третьего разбора не был прекращен, как планировалось.
В 1876 году в силу вступило Положение о выделке и продаже игральных карт в Российской империи69, подготовленное Министерством юстиции в 1875 году70. Это Положение обобщало все предыдущие узаконения и содержало подробные правила по отпуску игральных карт.
Все делопроизводство, касавшееся «карточной операции», сосредоточивалось в Управлении по выделке и продаже игральных карт, состоявшем при IV Отделении собственной его величества канцелярии.
Фактически государство вновь восстанавливало фиксированную цену на карты при помощи системы скидок. Игральные карты отпускались в частную торговую сеть или посредникам в лице государственных учреждений со скидкой 10 %, если торговля ими производилась по установленной Управлением цене. Скидка не распространялась на обе столицы, в которых действовали казенные карточные магазины.
Регламентировалось предоставление игральных карт клубам и общественным собраниям; 10 % скидка на их приобретение действовала при безвозмездном возврате всех поигранных карт в Управление для уничтожения. Вторичная подача играных карт могла осуществляться только с наложением на каждую колоду особой марки ценой 30 копеек. Игральные карты после второй подачи подлежали отсылке в Управление (отсылались либо полные колоды, либо только фигурные карты).
Контроль соблюдения оговоренной с Управлением цены (в случае получения скидки) и за торговлю только разрешенным товаром возлагался на местные полицейские власти. Штраф за продажу запрещенных карт приравнивался к штрафу за их незаконное производство – 15 рублей с дюжины. Все найденные при таком производстве машины, инструменты и выделанные карты конфисковывались, а сверх штрафа налагалось взыскание от 100 до 500 рублей71.
Положение 1876 года о выделке и продаже игральных карт, в части регламентирования отпуска этого товара, вошло в Устав о промышленности 1893 года72, а в части наказания – в Устав таможенный73 и Уложение о наказаниях (по Продолжениям 1906 года).
7 марта 1881 года, спустя шесть дней после гибели Александра II, его наследник «для извлечения большего дохода от карточной операции» сократил число сортов карт и весьма существенно увеличил цены на самые популярные сорта. Устанавливалась продажа карт в игре по две колоды и с различным количеством листов.
Игральные карты в России. Ассортимент и цены (с 1881 года)74

В 1888 году в Положение о выделке и продаже игральных карт были внесены изменения, направленные на отмену ограничений свободы торговли. Отменялись фиксированные Управлением цены на игральные карты, с сохранением скидки, которая распространялась на казенные карточные магазины в Петербурге и Москве, а также на розничных покупателей, приобретавших со складов Ведомства не менее одной дюжины.
При этом все же предусматривалось, что в тех местностях, где учреждены будут казенные магазины для торговли картами, «никакой уступки при продаже таковых не допускать». При «невозможности или затруднительности для Ведомства принять на себя доставку карт» вводилась дополнительная, сверх 10 %, скидка от 1 до 4 %. Комиссионные за посреднические услуги губернским и уездным государственным учреждениям увеличивались до 10 %. Марки для поигранных карт, подаваемых для вторичной игры, заменялись бандеролями.
Наконец, Управление по выделке и продаже игральных карт переименовывалось в Управление по продаже карт, а Опекунскому совету предоставлялось право, «не утруждая каждый раз Его Величество, делать в правилах о торговле картами те изменения и дополнения, какие признаны будут полезными, для более успешного хода карточной операции, не касаясь главных оснований ныне установленной системы»75.
В 1898 и 1904 годах в Положение о выделке и продаже игральных карт были внесены дополнения. С 1894 года игральные карты после вторичной подачи в клубах и собраниях могли уничтожаться на месте, без отправки в Управление по продаже карт, с составлением соответствующего акта76, а с 1904 года подача бывших в употреблении карт была вовсе запрещена77.
В 1892 году было опубликовано Положение о карточной фабрике, содержание которого позволяет заключить, что это было вполне благополучное предприятие, обеспечивавшее своим рабочим приемлемый для того времени уровень социальной защиты.
В штат фабрики входили семь человек – директор, смотритель (казначей), помощник смотрителя, бухгалтер (письмоводитель), помощник бухгалтера, комиссар и врач. Директор фабрики руководил всей технической и хозяйственной частью, интересы Ведомства учреждений императрицы Марии представлял почетный опекун. Кроме рабочих, при фабрике по вольному найму состояли учитель, фельдшер, акушерка и два мастера, один из которых ведал печатным отделением, а другой – всеми механическими приспособлениями.
При карточной фабрике были учреждены школы для детей рабочих и лазарет с родовспомогательным отделением. Прибыль по итогам года распределялась следующим образом: 5 % – на составление рабочего капитала, 25 % – на ремонтно-машинный капитал, 35 % образовывали доход Ведомства учреждений императрицы Марии и 35 % разделялись между служащими и рабочими по усмотрению почетного опекуна.
На составление пенсий, единовременных пособий престарелым и неспособным к труду, кроме 5 % от прибыли, отчислялось 2 % от заработка, 10 % с премий, разница между первым и повышенным окладом (в течение первого месяца по назначении прибавки), штрафы (кроме вычетов за порчу казенных вещей), добровольные пожертвования78.
Наконец, остановимся на цифре выпуска игральных карт. В 1893 году их было выделано 980 000 дюжин (11 760 000 колод)79, то есть по сравнению с 1833 годом их производство выросло в 6,8 раза.
Подведем итоги. В XVII веке спрос на игральные карты был небольшим и целиком удовлетворялся импортной продукцией. В первой четверти XVIII века под влиянием изменения потребностей и вкусов верхов общества ввоз карт существенно увеличился, возникло отечественное производство этого товара. Это были мелкие, не всегда специализированные предприятия мануфактурного типа с небольшими капиталами и государственным субсидированием. Объемы производимой ими продукции неуклонно росли, но потребитель голосовал рублем за более качественные и престижные европейские игральные карты.
С последней трети XVIII века в связи с увеличением спроса на карты государство приняло ряд мер (повышение таможенных пошлин, введение налога на карты), направленных на вытеснение импорта и перераспределение дохода в пользу отечественного производителя и нового государственного учреждения – Воспитательного дома. Однако это не смогло в должной мере оградить рынок от импортной продукции. Попытка взимания налога с богатевших карточных мануфактуристов (среди которых появилось много иностранцев, инвестирующих в производство свои капиталы и технологии) также не дала ожидаемого результата.

Панорама Александровской мануфактуры
Государство, не имея возможности конкурировать с иностранным производителем и осуществлять фискальный контроль над отечественным, но заинтересованное в получении прибыли, встало на путь постепенного вытеснения частного предпринимательства и монополизации торговли игральными картами. В 1798 году была введена государственная монополия на торговлю игральными картами в форме откупной системы; ее неэффективность привела к введению в 1819 году полной государственной монополии на производство и реализацию игральных карт.
Ликвидация частного предпринимательства в области производства игральных карт была также призвана оградить играющих от шулерски изготовленных колод. Эту же цель преследовало введение форм защиты игральных карт и их одноразовое использование (но крайней мере, для состоятельных игроков).
Как правило, государство выступает в роли предпринимателя-монополиста в случае приобретения тем или иным товаром стратегического значения и малых рисков.
Задача «повсеместного, непрерывного и беззатруднительного удовлетворения публики» игральными картами была возложена на Александровскую мануфактуру, первую русскую фабрику. Даже в такие сложные исторические моменты, как нашествие Наполеона и выбор политического курса после роковых взрывов на набережной Екатерининского канала, не ослаблялось внимание правительственных учреждений к «карточной операции». В 1868 году была разрешена свободная торговля игральными картами, однако Положение о выделке и продаже игральных карт 1876 года фактически восстанавливало государственное влияние на ценовую политику. Попытки посягнуть на часть прибыли путем контрабандного провоза или самостоятельной выделки подлежали пресечению.
В 1888 году частным и государственным учреждениям, принявшим на себя продажу игральных карт на коммерческой основе, было предоставлено право самостоятельно устанавливать цены на этот товар, однако в Петербурге и Москве сохранялась продажа по «казенной цене».
На протяжении XVIII–XIX веков цены на игральные карты возрастали, что было связано как с инфляционными процессами, так и со стремлением государства извлечь максимальную выгоду из пристрастия своих подданных. Наличие постоянных потребителей в дворянской среде и расширение рынка сбыта за счет основной массы населения, для которой производилась более доступная продукция, гарантировали увеличение прибыли даже при повышении цены.
Глава третья
Азартные игроки и государство
В нормативных актах XVII века игра в карты, наравне с зернью (игрой в кости), фигурировала как сопутствующий элемент различных общественных пороков. Как писал Н.И. Костомаров, зернь и карты считались «самым предосудительным препровождением времени» и были «любимым занятием лентяев, гуляк, негодяев и развратных людей»80. Показательно в этом отношении первое же свидетельство об игральных картах в XVII веке (1613 год) – следствие над послами в германские земли Степаном Ушаковым и Семеном Заборовским. В показаниях переводчика Тимофея Фанелина описан такой конфликт с «цесарскими дворянами», произошедший на пути в Берлин: «…на осподе играли меж себя дворяня карты, и пришед к ним к столу Степанов поваренный детина пьян, и учал у них карты переворашивати… тем дворянам стало то за великую досаду, того детину от стола отпихнули прочь; и детина хотел с ними подраться, и он Тимофей того детину слегка деревцем ударил»81. Как здесь не вспомнить слова бравого солдата Швейка: «Не лезь, советчик, к игрокам, не то получишь по зубам».
Приведем еще одно из судных дел (1685 год) о похождениях московских мещан Якима Степанова и Никона Иванова. В одном из кабаков они «играли в карты в деньги» вместе с двумя иностранцами на русской службе. Одного из них, некоего Крестьянова Ивана, «пьяного, привезли с собой в Мещерскою слободу к Якимку Степанову на двор, играв в карты ж, его, Ивашка Крестьянова, били и ограбили и грабежом сняли с него шубу и сапоги». Вероятнее всего, будучи в подпитии, он проиграл все деньги, а затем и свои вещи и, не захотев с ними расставаться, был подвергнут побоям и ограблению. Далее сей незадачливый иностранец «ушод от них», в «съезжей избе свое челобитье на грабителей записал». Князь В.В. Голицын, возглавлявший Посольский приказ, в ответ на жалобу вынес такое решение: обоих мещан «бить на козле кнутом и в проводку по слободе… и дать их на поруки, в том чтобы впредь им не воровать и за пьянством не ходить и зернью и карты не играть, а кормитця ремеслом и торговым промыслом»82.

А. Броувер. Драка крестьян из-за карт
Как свидетельствуют документы приказного делопроизводства, азартные (закладные) игры были распространены среди служилых людей, особенно в Сибири (именно в Сибирь направлялись наиболее крупные партии игральных карт). Игра часто перерастала в драки, провоцировала грабеж, воровство и убийства, ей сопутствовали безудержное пьянство и низкий моральный уровень поведения. Служилые люди нередко проигрывали свое имущество, казенное оружие и государево жалованье.
В 1653 году в Иноземский приказ поступила жалоба от головы и целовальников кружечного двора о беспорядках, чинимых в Коломне «служилыми иноземцами» во главе с майором Цеем: «Да солдаты же по все дни собираются на государеве коломенском кружечном дворе, в избах, и играют зернью и карты… и маер де их не унимает; а как де они учнут их с государева кружечного двора сбивать, чтоб зернью и карты не играли, и они де их Микифора с товарищи бранят и хотят бить и с кружечного двора не идут, чинятся сильны»83.
В 1668 году астраханским боярам и воеводам «ведомо учинилось», что «на кружечном дворе и в Солдатской и в Стрелецких слободах астраханцы конные и пешие стрельцы, и солдаты и всяких чинов жилецкие и верховых городов приезжие всяких чинов люди зернью и карты играют, и от тое зерни астраханским всяких чинов жилецким и приезжим людям чинятся татьба и смертное убойство большое»84. Распространяя азартные игры среди народов Сибири, русские обманным путем завладевали ценной пушниной и разоряли инородцев, тем самым увеличивая для них тяжелые последствия ясачного сбора. В 1636 году воевода из Верхотурья писал, что «многие ясачные люди играют зернью и что добудут в наш ясак соболей и лисиц или иного какого зверя, то проигрывают, и промеж собою живет у них на зерни убойство»85.
Естественно, власти не могли смириться с тем, что азартные игры влекли за собой всевозможные преступления, чинили препятствия сбору пушного налога, а главное – отрицательно сказывались на материальном благосостоянии и боеспособности служилых людей.
Во многих царских и воеводских наказах присутствует стандартная фраза, обязывающая воевод и должностных лиц «унимать» служилых от всякого «дурна», чтобы они «не пили и не бражничали и куренного питья, и табаку, и б<…>, и зерни не держали»86. В наказах якутским воеводам и в их собственных наказах не раз повторяются распоряжения «смотреть и беречь накрепко», чтобы «зернью и карты и всякою проигрышною игрою служилые и торговые и промышленные люди не играли, и служилые бы люди государева денежного и хлебного жалования и пищалей и с себя платья не про-игрывали»87. Также особо оговаривалось требование «для ясачного сбора» подбирать служилых людей «самых добрых постоянных и верных, и приказывать тем служилым людям накрепко, чтоб они в ясачныя волости вина, табака и карт и никаких своих товаров не имали… и никакими вымыслами ясачных людей никакой обиды и тягости и разоренья не чинили и их своими приметами не задолжали»88.

Ч.Д. Гибсон. Игра в карты, засидевшиеся до поздна
Городской администрации и должностным лицам под угрозой наказания также запрещалось «зернью и карты играть» или извлекать из них какую-либо выгоду. В наказной памяти якутского воеводы таможенному целовальнику говорилось о том, что если «кто учнет… карты и зерновые кости на продажу держать, а ты, целовальник, про то учнешь молчать… а от того у них посулы и поминки себе имать, или сам учнешь карты и зерновые кости держать, или зернью учнешь играть… то тебе за то по государеву указу быть в жестоком наказанье без пощады»89. Часто повторяемые запрещения свидетельствовали об их слабом исполнении, и, надо полагать, все эти документы отражали не действительные, а желаемые составителями порядки.
Против азартных игр были приняты и общегосударственные законодательные меры. Указом 1648 года запрещалось «всякое бесовское действо, глумление и скоморошество со всякими бесовскими играми», в том числе запрещались и «закладные» игры (зернь, карты, шахматы и лодыги, или шашки)90. После издания этого указа резко сократился импорт карт в Россию, во всяком случае, их таможенная «явка». Если в 1633–1636 годах в Устюг Великий из Архангельска было доставлено около 548 дюжин карт, то в 1650–1651 годах этот показатель сократился более чем в два раза – до 249 дюжин. В 1652–1656 годах ввоз карт в Устюг вообще прекратился. После смерти Алексея Михайловича в 1676 году, вероятно, из-за возникшего в годы его правления «отложенного спроса», ввоз карт возобновился и увеличился по сравнению с 1650–1651 годах примерно в шесть раз – с 1676 по 1680 год их было привезено в Устюг около 1428 дюжин91.
Церковь также являлась одним из преследователей азартных игр, именно она выступила инициатором издания указа 1648 года. Стоглав (1551), ссылаясь на правила VI Вселенского собора, запрещал не только языческие «плясания» и «игрища», но и такие «гражданские» игры, как шахматы, шашки и кости, о которых в правилах Собора ничего не говорилось92. Запрещая игру в шахматы, сам царь не придерживался установленного запрета. Известно, что Иван Грозный умер как раз за шахматной доской. Церковное благочестие рассматривало игру как порочную страсть: «…возрадуются бесы и налетят, увидев свой час, и тогда творится все, что им хочется: бесчинствуют игрою в кости и в шахматы и всякими играми бесовскими тешатся…»93
К началу третьей четверти XVII века относится появление литературно-педагогического памятника «Гражданство обычаев детских» – русский перевод сочинения Эразма Роттердамского De civilitate morum puerilium (1530). В адресованных детям наставлениях встречается и такое: «…кия игры заповеданы суть: всякое костырство, кости, карты, купание в воде»94. При составлении договорных записей о найме или поступлении в ученики к ремесленнику обязательно оговаривалось, что работник или ученик должен не только «всякую работу работать без всякого ослушания», но и «не пить и не бражничать, зернью и карты не играть и по квасным не ходить»95.

Страница из Соборного уложения 1649 года
Чрезвычайно интересен вопрос о наказании, предусмотренном для картежников. Соборное уложение 1649 года гласит: «А которые воры на Москве и в городех воруют, карты и зернью играют, и проигрався воруют, ходя по улицам, людей режут, и грабят, и шапки срывают, и о таких ворах на Москве и в городех и в уездех учинити заказ крепкой и биричем кликати по многия дни, будет где такие воры объявятся, и их всяких чинов людем имая приводити в приказ»96. Эта статья непосредственно не предусматривала наказания, а отсылала к предыдущим статьям: «…тем вором чинити указ тот же, как писано выше сего о татех». В этой связи распространено мнение, что, согласно Соборному уложению, игрока в карты приравнивали к татям и применяли по отношению к нему членовредительные наказания – отсекали уши, руки, пальцы и ноги97.
Однако эта точка зрения ошибочна. Как следует из самого текста, азартные игры рассматривались как занятие уголовно наказуемое лишь в тесной связи с вызываемыми ими преступлениями. Соблазн игры был настолько велик, что проигравшиеся, чтобы вернуть долг или отыграться, «людей режут и грабят, и шапки срывают» (в которых обычно прятались деньги). Уже через двадцать лет в аналогичной статье нового законодательства о суде упоминание об игре в карты и зернь опускается98. Кроме того, азартные игры были распространены среди лиц, находившихся на «государевой службе», и, поступая с ними столь сурово, можно было лишиться полноценных служилых людей. В некоторых городах «закладные» игры были фактически легализованы и приносили доход в местную казну, поэтому было бы нелогичным со стороны государства одновременно покровительствовать азартным играм и столь жестким способом пресекать поступления в собственный бюджет. И, наконец, ни в одном из документов нет указания на то, что только за игру в карты или в зернь подвергали членовредительным наказаниям.
Картежнику, если за ним не числилось какой-либо татьбы и воровства, в худшем случае грозило битье кнутом на торгу (торговая казнь) или «в проводку» по улицам и площадям, а в лучшем – денежный штраф. В воеводских и царских наказах предписывалось различных «воров от воровства унимать» и «чинити им наказание, смотря по винам, кто какого наказанья достоин, чтоб на то смотря, иным неповадно было впредь воровать». Для зернщиков и картежников, а также для тех, кто такую игру «держит» и распространяет, встречаются такие виды наказаний, как «бить кнутом нещадно», «бить батоги», «бить кнутом по торгам нещадно, да на них же править заповеди» и тому подобные.
В указе 1648 года тех людей, «которые от того всего богомерзкого дела не отстанут», предписывалось также «бить батоги». Быструю и скорую расправу ожидали и сами карты, которые, в отличие от вина и «потаенных товаров», не «имали» в казну, а сжигали на торговой площади (см.: ПСЗ. Т. 3, № 1542). Таким образом, азартная игра в Соборном уложении не являлась составом преступления, а рассматривалась лишь как одна из причин, их вызывающая. Не знало русское уголовное законодательство и таких жестоких наказаний для «чистых» картежников, как членовредительство, хотя, конечно, «нещадное» битье (50 ударов) тоже крайне болезненная процедура.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе