Доминион. История об одной революционной идее, полностью изменившей западное мировоззрение
Текст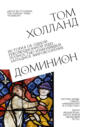


Перейти к аудиокниге
Ваш доход с одной покупки друга: 63,90 ₽
- Объем: 750 стр. 1 иллюстрация
- Жанр: популярно об истории, религиоведение / история религий, христианство
Но вы умрёте, как человеки
До захвата Помпеем Иерусалима оставалось более пятисот лет, когда вавилоняне, сровняв с землёй Первый Храм, переселили всех знатных людей завоёванного ими царства в Вавилон. Люди эти не могли себе и вообразить столь громадного города; а его храмы, среди которых им пришлось поселиться, были столь высоки, что казалось, будто они упираются в небосвод. Величайший из них назывался Эсагила; вавилоняне почитали его как древнейшее строение в мире и как саму ось Вселенной. Не смертные воздвигли эту потрясающую твердыню, но боги, и она служила дворцом Мардука, царя небес. Внутри находились статуи, созданные самим Мардуком, и могучий лук: «вечное напоминание» [115] о победе, одержанной богом в начале времён. Вавилоняне утверждали, что Мардук сразил громадного дракона, чудовище бурного океана, разорвав его тело надвое стрелами и создав из этих двух частей небо и землю. Затем, чтобы избавить богов от бесконечных трудов, Мардук совершил ещё один акт творения. «Воистину я сотворю человеков. Пусть богам послужат, чтоб те отдохнули» [116], – объявил он. Люди были созданы из праха и крови, чтобы трудиться.
Евреям, изгнанным из Иерусалима, ошеломлённым поражением и ощущавшим свою ничтожность в сравнении с громадой Вавилона, нетрудно было согласиться с этим мрачным представлением о предназначении человека. Но они не соглашались. Они не опустились до почитания Мардука, но твёрдо уверовали, что именно их Бог сотворил людей. В историях, которые рассказывали изгнанники, положение людей, мужчины и женщины, было исключительным. Только их Бог сотворил по своему образу и подобию; только им была дарована власть над всеми живыми существами; только они были созданы на шестой день творения, уже после самого неба, земли и всего, что их наполняет. Люди обладали достоинством, как и Бог, которому, в отличие от Мардука, не нужно было сражаться с морским чудовищем, чтобы приступить к сотворению мира: Он создал всё сущее один, без чьей-либо помощи. Его служители, изгнанные из разрушенного Иерусалима, находили в этой истории столь необходимое им утешение: Тот, Кому они поклонялись, по-прежнему царствовал над всем. Версии этой истории передавались из поколения в поколение. Когда их свели воедино, записав на пергаменте единственный окончательный текст, именно она стала первой в Торе. Величие Мардука давно обратилось в прах, а книгу, которой люди, переводившие её на греческий, дали греческое название Genesis [117], по-прежнему переписывали, изучали и чтили. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» [118].
Но иудеи, придерживаясь таких представлений о Боге и пытаясь осмыслить несчастья, постоянно обрушивавшиеся на них в результате нападений различных завоевателей, сталкивались с проблемой. Если Бог создал хороший мир, почему Он позволил всему этому произойти? Прежде чем под стены Храма явился Помпей, иудейские книжники нашли на этот вопрос ответ, и довольно безрадостный. Вся история человечества – это история неповиновения человека Богу. Создав мужчину и женщину, Бог дал им сад Эдем, наполненный всевозможными экзотическими растениями, и разрешил вкушать плоды всякого дерева, за исключением одного. То было «дерево познания добра и зла» [119]. Но первая женщина, Ева, поддалась искушению змея и отведала плод этого дерева; а первый мужчина, Адам, взял у неё этот плод – и тоже отведал. В наказание Бог изгнал их из Эдема и проклял, объявив, что с этих пор женщины обречены рожать в муках, а мужчины – трудом добывать себе пропитание и умирать. Приговор был суров, но человек вскоре пал ещё ниже. После изгнания из Эдема Ева родила Адаму двух сыновей; и старший из них, Каин, убил младшего, Авеля. С этого момента жестокость стала для человечества чем-то вроде хронической болезни: кровь никогда не прекращала заливать землю. Иудейские книжники, составляя утомительные перечни преступлений людей, начиная с самых древних, не могли не задаваться вопросом, в чём – или в ком – кроется корень этой поразительной способности творить зло. За век до взятия Иерусалима Помпеем еврейский мудрец по имени Иисус Бен-Сирах пришёл к логичному и губительному выводу. «От жены начало греха, и чрез неё все мы умираем» [120].
В этой склонности к неповиновению, врождённой предрасположенности к нарушению заповедей Бога заключалась для иудеев особая проблема. В конце концов, из всех народов мира им одним была дарована Его особая благосклонность. Они, в отличие от остальных, не забыли Создателя мира. Бог, пребывавший с Адамом и Евой в Эдеме, являлся их предкам, и отдал им во владение Ханаан, и сотворил ради них множество чудес. Всё это было известно каждому еврею. Всё это было записано в свитках, составлявших основу иудейской идентичности, об этом можно было прочесть в любой синагоге. Но в Писании говорилось не только о покорности, но и о бунте; не только о верности Богу, но и о служении падших идолам. Предания о завоевании Ханаана описывали землю, полную алтарей, которые следовало разрушить, и святилищ, которые требовалось разграбить. Но даже подвергаясь разрушениям, эти ужасные капища соблазняли людей. Даже дарованная Израилю Земля обетованная не удержала его от идолопоклонства. Многие «избрали новых богов» [121]. Книга за книгой история повторялась: отступничество, наказание, покаяние. Иудеи, читая о том, как их предков искушали боги других народов – хананеев, сирийцев, финикийцев, – узнавали и то, какая главная кара в конце концов настигала отступников: порабощение народа Израиля, разграбление Иерусалима, уничтожение Храма. Эти травмы не давали покоя каждому иудею. Почему Бог позволил всему этому случиться? По окончании вавилонского плена именно этот вопрос сильнее, чем что бы то ни было, вдохновлял составителей иудейского Писания. Читатели свитков, содержавших историю их народа, сознавали, какой расплаты следует им ожидать, если они когда-либо вновь отступятся от Бога; но в Писании наряду с предостережением они обнаруживали и надежду. Даже если Иерусалим вновь будет разрушен и евреи снова будут рассеяны по всем концам земли, а на их поля обрушится дождь из соли и серы, любовь Бога пребудет вечно. Покаяние, как это было всегда, принесёт им прощение.
«…Тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою, и опять соберёт тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой» [122].
Этот Бог, требовательный, эмоциональный и непостоянный, отличался от всех прочих богов. Аполлон покровительствовал троянцам, а Гера – грекам, но ни об одном народе ни один бог не заботился столь ревниво, как Бог Израиля – о евреях. Он был мудрым, но своенравным; всемогущим, но ранимым; последовательным, но угрожающе непредсказуемым. Тщательно обдумывая свидетельства Писаний, иудеи никогда не сомневались, что человека и Бога могут связывать глубоко личные отношения; но главной особенностью Его яркой индивидуальности было именно обилие противоречий. Он был воителем, чей гнев обращал в бегство армии, уничтожал города и направлял истребление целых народов; и Он же поднимал бедного из праха и возвышал нищего из брения [123]. Его почитали как Господа неба и земли, «Шествующего на небесах» [124], и Он же служил утешением тем, кто взывал к Нему из непроглядной тьмы страданий и страха. Творец и опустошитель; муж и жена; царь, пастух, садовник, горшечник, судья: всеми этими и многими другими словами называют Бога Израиля Писания иудеев. «Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога…» [125] В этих словах, записанных вскоре после того, как в 539 г. до н. э. Кир взял Вавилон, содержится мысль, никогда прежде не находившая столь явного выражения. Бог Израиля, как и Мардук, практически теми же словами, объявляет, что это Он даровал победу персам. Но Мардук, сколько бы его жрецы ни утверждали, что именно он избрал Кира, чтобы тот правил миром, считался лишь одним из бесчисленного множества богов. Боги и богини; божества-воители и божества-ремесленники; божества-громовержцы и божества плодородия: «Вы ничто, и дело ваше ничтожно» [126]. Кир был давно мёртв, храмы Вавилона лежали в развалинах, их идолы валялись в грязи, а иудеи по-прежнему зачитывали у себя в синагогах обещания, данные веками ранее персидскому царю, – и знали, что обещания эти сбылись. «Я препоясал тебя, хотя ты не знал Меня, – говорил единственный Бог Израиля Киру, – дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет, кроме Меня; Я Господь, и нет иного» [127].
Но, хотя во времена римских завоеваний иудеи находили в своих Писаниях доказательства истинности этих слов, в них можно отыскать и отдельные следы более ранних представлений. Монументальное полотно, созданное священнослужителями и переписчиками после разрушения Храма вавилонянами, было составлено из множества древних нитей. Лучшим свидетельством разнообразия источников еврейской Библии является множество упоминаемых в ней имён Бога: Яхве (Сущий), Шаддай (Вседержитель), Эл (Бог). Все иудейские книжники, разумеется, предполагали, что все эти имена всегда относились к одному и тому же божеству; но из ряда намёков вполне можно сделать вывод, что всё обстоит иначе. «Кто, как Ты, Господи, между богами?» [128] Этот вопрос – эхо далёкого мира, который трудно даже вообразить: мира, в котором Яхве, бог, к которому этот вопрос обращён, считался всего лишь одним из множества богов Израиля. Как же тогда он стал единственным Господом неба и земли, не имеющим себе равных? Такой вопрос составителям Писания, священникам и переписчикам, показался бы немыслимо возмутительным. Но несмотря на все старания редакторов, в еврейском Писании сохранились отдельные элементы ранних представлений о Яхве. Застывшие, словно насекомые в янтаре, они намекают на культ, не похожий на практиковавшийся в Храме: культ бога-громовержца, почитавшегося в виде быка, явившегося «с поля Едомского», из земли к югу от Ханаана, и возглавившего собрание богов [129]. «Ибо кто на небесах сравнится с Господом? кто между сынами Божиими уподобится Господу?» [130]
Существование небесной иерархии люди во всём мире воспринимали как нечто само собой разумеющееся. Как бы иначе Мардук заставил других богов на себя трудиться? И Зевс, сидя на троне на вершине Олимпа, возглавлял божественное собрание. Но у сияния его славы были известные границы. Другие боги Олимпа не были им поглощены. Их атрибуты не становились атрибутами Зевса, а самих их не объявляли в конце концов демонами. С Богом Израиля выходило иначе. Откуда взялись многочисленные сложности и противоречия Его личности? Возможно, имело место нечто прямо противоположное тому, о чём сообщают священные книги: процесс, в результате которого Яхве, как ни один из богов, вобрал в себя бесчисленные множества. Характерно, что в первой строке Книги Бытия, где говорится, как Бог создал небо и землю, Он назван еврейским словом Elohim. Значение его двусмысленно: в иудейском Писании оно постоянно употребляется как существительное в единственном числе, но его окончание соответствует множественному. «Бог» был когда-то «богами».
Возможность того, что евреи не только не вторглись в Ханаан, уничтожая на своём пути статуи и капища, а сами некогда следовали обычаям своих соседей и вообще были от них практически неотличимы, иудейское писание подчёркнуто, даже воинственно, отвергает [131]. Быть может, это отрицание чересчур нарочитое? Имело ли место в принципе завоевание Ханаана? В еврейских летописях, описывающих ряд блистательных побед военачальника Иисуса Навина, говорится о падении городов, которые к моменту предполагаемого еврейского вторжения либо уже давно были покинуты, либо ещё не были основаны. Убеждённость составителей Книги Иисуса Навина в том, что Бог даровал эти земли богоизбранному народу в награду за послушание, была отражением угроз их собственного времени: книга эта писалась, по всей видимости, в тени разрастающегося ассирийского могущества. Но в ней отразилось и кое-что ещё. Настойчивость, с которой в Книге Иисуса Навина утверждается, что евреи пришли в землю Ханаан как завоеватели, намекает, что её авторам не давала покоя мучительная мысль: возможно, когда-то их культ был связан с религией хананеев гораздо сильнее, чем признавали иудейские книжники? Может быть, обычаи, которые они отрицали как чудовищные нововведения – поклонение другим богам, кормление мёртвых, принесение в жертву детей, – были, наоборот, древнейшими традициями, по сравнению с которыми их развивающаяся религия была чем-то принципиально новым?
Революционный характер этого новшества – рождения из смеси хананейских, сирийских и едомских верований нового и знаменательного представления о божественном – иудейское Писание скрыло. Но не до конца. Один из псалмов служит яркой иллюстрацией долгого и запутанного процесса, в результате которого elohim – «боги» – стали единственным всевышним Господом: Elohim. «Бог стал в сонме богов; среди богов произнес суд…» [132] Несправедливость; потворство нечестивым; презрение к бедным, униженным и угнетённым – вот в чём обвинялись собранные боги. Их преступления повергли землю во тьму и поколебали её основания. В наказание за это они были навечно низвергнуты с небес. Сам Бог, Elohim, огласил приговор:
«Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы;
но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей» [133].
Отныне в небесах царствовал лишь один Бог.
Евреи, возможно, были довольно незначительным народом, мало заботившим великие державы; но Бог их писаний, ниспровергнувший других богов так же, как Александр и Помпей свергали царей, господствовал над мирозданием безраздельно. «Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Моё между народами…» [134] Эти слова не случайно напоминают претензии персидского царя. Великодушие, проявленное Киром по отношению к изгнанным из Иерусалима евреям, не было ими забыто. В отличие от правителей Египта, Ассирии или Вавилона, он продемонстрировал уважение к Богу Израиля. В большей степени, чем кто-либо из иноземных монархов, упомянутых в анналах истории изгнанников, Кир послужил для них образцом царя. И небеса после возвращения евреев из Вавилона стали чем-то напоминать персидский царский двор. «Откуда ты пришёл?» – спрашивает в Книге Иова Бог у царедворца из своей свиты, который именовался «Противоречащим» – «Сатаной». И сатана отвечает Ему: «Я ходил по земле и обошел ее» [135]. В Афинах страх перед соглядатаями Великого царя вдохновил Аристофана изобразить одного из них в виде огромного глаза; но в иудейском Писании не было места насмешкам над царскими слугами. Слишком могучими, слишком угрожающими были эти доносчики. Когда Господь упоминает Иова, отмечая, что он «человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла» [136], Сатана насмешливо заявляет, что тем, кто преуспевает, легко оставаться хорошими людьми; «но простри руку Твою и коснись всего, что у него, – благословит ли он Тебя?» [137] Поспорив с Сатаной, Бог отдал Иова в его руки. Ни в чём не повинный Иов лишился всех земных благ; его дети погибли; его тело покрылось нарывами. «И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел» [138].
Преступник, приговорённый к казни методом скафизма, не мог, конечно, себя скоблить: его руки не были свободны. Но право приговорить человека к гниению заживо являлось во времена персидского могущества ужасающей прерогативой царской власти. Однако Дарий и его наследники заявляли, что пытка эта устраивалась во имя правды, справедливости и света. К Иову, сжавшемуся, лежавшему в пепле, пришли трое друзей. Молча просидев рядом с ним семь дней и семь ночей, они попытались осмыслить обрушившиеся на него несчастья.
«Неужели Бог извращает суд, и Вседержитель превращает правду?
Если сыновья твои согрешили пред Ним, то Он и предал их в руку беззакония их» [139].
Всюду в других книгах иудейского писания утверждалось, что Бог всегда наказывает только виновных, а покровительствует всегда лишь праведникам. Иов, однако, отвергает такое утешение. «Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки?» [140] Поразительнее всего то, чем заканчивается эта история: сам Бог обращается к Иову из бури, категорически опровергая предположение, высказанное его друзьями. Им Он сообщает: «…вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов» [141]. Но на вопрос о том, почему Иов, несмотря на невиновность, был так жестоко наказан, не даётся никакого ответа. Бог возвращает Иову всё потерянное имущество, и даёт ему вдвое больше, и награждает его новыми сыновьями и дочерями. Но те дети, которых он лишился, не восстают из пепла и не возвращаются к скорбящему по ним отцу.
Когда Аполлон истребил детей Ниобы, никто не жаловался на то, что его месть была чрезмерной. Сребролукий бог наказывал тех, кто нанёс ему оскорбление, как ему заблагорассудилось. Божественность Аполлона проявлялась не в том, что он отвечал на жалобы смертных, а в его способности совершать подвиги, которые им были не под силу. Он даже победил дракона, совсем как Мардук. И в Ханаане рассказывались истории о богах, сражавшихся с драконами и морскими змеями и тем самым демонстрировавших, что они достойны царствовать в небесах. Авторам Книги Бытия эти выдумки казались бессмыслицей и богохульством; поэтому, описывая Творение, они уточнили, что Бог (Elohim) не уничтожил, а создал обитателей глубин. «И сотворил Бог рыб больших…» [142] Но это поверхностное спокойствие иудейских священных книг обманчиво: время от времени из глубин памяти и традиций, которые даже самая тщательная редактура не могла искоренить до конца, возникает извивающаяся туша чудовища, которое в самом деле боролось с Богом. Под разными именами – Раав, Таннин, Левиафан – упоминается тот же семиглавый змей, о котором говорилось в поэме, созданной почти за тысячу лет до Книги Иова. «Можешь ли ты удою вытащить Левиафана и верёвкою схватить за язык его?» [143] Вопрос, заданный Иову из бури, был, разумеется, риторическим. Только Бог мог усмирить Левиафана. В Книге Иова Он изображён правящим наподобие персидского царя, Господином над слугами, обходящими моря и земли; но когда Он обращается к человеку, упрекнувшему Его в несправедливости, мощь Его описывается при помощи гораздо более древних образов. Неудивительно, что Иов признал поражение: «Знаю, что Ты всё можешь…» [144]
Но Иов и не сомневался в могуществе Бога – лишь в Его справедливости. Насчёт этого Бог ничего не сказал. Автор Книги Иова, в которой впервые была предпринята попытка осмыслить существование божества одновременно всемогущего и во всём справедливого, осмелился провести исключительно глубокий анализ следствий, исходящих из этого представления о Боге. Тот факт, что иудейские книжники включили её в своё великое собрание священных текстов, красноречиво свидетельствует об их попытках решить новую и насущную проблему: проблему происхождения зла. Представителей других народов, веривших во множество божеств, этот вопрос практически не беспокоил. Ведь чем больше богов почитали люди, тем больше объяснений они находили для человеческих страданий. Но чем объяснить эти страдания, если во Вселенной существует лишь один Бог? Лишь последователи Ахурамазды, которые, как и иудеи, верили, что Вселенную создало всеведущее и всеблагое божество, сталкивались с проблемой такого рода. Возможно, присутствие у престола Бога Сатаны, который подвергает Иова мучениям, а затем таинственным образом пропадает и больше не упоминается в этой истории, – это отголосок решения, предложенного персами: зло могущественно, потому что оно – сила, равная добру и соперничающая с ним. Как бы то ни было, иудейские книжники не собирались мириться с подобным объяснением. Они чтили память Кира, но в их Писаниях не было места чему-либо наподобие вселенской борьбы Истины (arta) с Ложью (drauga). Для них существовал лишь один Бог. Меньше богохульства было в мысли о том, что Он создал зло, чем в предположении, что оно может представлять угрозу для Его власти. И в обращении Яхве к Киру представления о вечном соперничестве Лжи и Истины явным образом отвергаются: «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю всё это» [145].
Нигде более в иудейских писаниях нет ничего подобного этому грозному утверждению. Если Бог всемогущ, значит, Он во всём справедлив. Эти идеи и их взаимосвязь лежали в основе представлений о божественном, которых придерживались все иудеи, несмотря на существовавшие между ними разногласия. Мысль о том, что Бог позволил римлянам взять приступом Храм – не в качестве наказания за грехи избранного народа, а просто потому, что Он был творцом равно порядка и хаоса, – была слишком абсурдной, чтобы прийти им в голову. Все Его деяния вершились во имя порядка. Порой Его намерения были сокрыты от смертных, но Он не пренебрегал несчастьями людей, заботился об убогих и утешал горюющих.
«Бедные и нищие ищут воды, и нет её;
язык их сохнет от жажды:
Я, Господь, услышу их,
Я, Бог Израилев, не оставлю их» [146].
Никогда прежде одному божеству не приписывались качества настолько несочетаемые: нечеловеческое могущество и близость к человеку, грозный нрав и готовность к состраданию, всеведение и забота обо всём сущем.
И этот Бог – всемогущий, всеблагой, правящий всем миром и поддерживающий гармонию во Вселенной – избрал евреев и покровительствовал именно им. Они не могли противостоять натиску римских легионов, им не удавалось защитить от захватчиков даже свою самую главную святыню, у них не было ни единого шанса когда-либо подчинить мир своей власти, но одно утешало их: твёрдая уверенность в том, что лишь их Бог был единственным истинным Господом.
Эта и ещё 2 книги за 399 ₽