История пиратства. От викингов до наших дней
Текст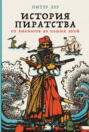


Перейти к аудиокниге
Ваш доход с одной покупки друга: 49,90 ₽
- Объем: 390 стр. 43 иллюстрации
- Жанр: документальная литература, зарубежная публицистика, популярно об истории
Нападения на пиратские базы
Охота на пиратов в море было непростой задачей: по численности они всегда превосходили охотников. С другой стороны, существовало лишь ограниченное количество пиратских баз – мест, где разбойники могли «прожигать жизнь», сбывать награбленное, пополнять запасы провианта, оружия и боеприпасов, а также восстанавливать свои корабли. Поэтому вместо того, чтобы охотиться на отдельные корабли, логичнее было атаковать разбойничьи базы – при условии, что охотники были достаточно сильны, а угроза – достаточно серьезна, чтобы оправдать столь затратную экспедицию. Во многих случаях, например когда пиратская база находилась на вражеской территории, успешное нападение означало необходимость объединения усилий с другими странами.
Римская и ранневизантийская империи имели все козыри: они могли контролировать все побережье Средиземного моря. Ситуация изменилась после появления во второй половине VII века мусульманских империй – теперь политический контроль над морем постоянно оспаривался. Это означало, что захватить пиратское логово или тем более безопасную гавань было непросто: подобные действия могли потребовать масштабных военных усилий, обычно подразумевающих привлечение сотен кораблей и десятков тысяч воинов. В 1249 году, например, во время Седьмого крестового похода, парусно-гребной флот христиан захватил египетский город Дамьетту[16] – родной порт сарацинских пиратов. Флотилия, направленная на разведку сил противника, тут же встретила отпор, разгорелся жестокий бой. Хронист Матвей Парижский вспоминал:
Тогда мы стали стрелять в них огненными стрелами и камнями из морских баллист [катапульт]. ‹…› …и мы бросали во врагов маленькие бутылки с негашеной известью. Наши стрелы пронзали тела пиратов, камни сокрушали их, а известь разлеталась из разбитых бутылок и ослепляла их{119}.
Потонуло много вражеских кораблей, сотни сарацин были убиты. Сам город был взят быстро, но ненадолго: год спустя его пришлось сдать египетским мамлюкам в счет выкупа за французского короля Людовика IX, попавшего в плен после разгрома в битве при Эль-Мансуре в 1250 году, где погибла вся его армия. Стоит ли говорить, что Дамьетта немедленно возобновила свой промысел, выступая в качестве главной базы для пиратов и корсаров?
Османская империя тоже на собственном горьком опыте убедилась в том, как сложно захватить логово корсаров или пиратов. Камнем преткновения был Родос – остров у побережья Анатолии, формально находившийся под контролем Византийской империи, но с 15 августа 1309 года оказавшийся в руках ордена госпитальеров – непримиримых врагов ислама, изгнанных за пару десятилетий до того из Святой земли{120}. При поддержке родосцев, которые «снабдили своих новых правителей прекрасными кораблями и моряками», госпитальеры перенесли Крестовый поход в море и вскоре сами стали грозными корсарами{121}. Морские походы, или «караваны» госпитальеров, не сулили ничего хорошего мусульманскому судоходству; мало того, их постоянные нападения расценивались как угроза хрупкому миру между христианскими державами и турками{122}. После того как обещания изгнать корсаров и пиратов с Родоса, данные великим магистром ордена в 1437 и 1454 годах, ни к чему не привели, Османская империя решила, что пора наконец удалить это «бельмо на глазу»{123}.
Первая попытка захватить остров-крепость была предпринята между 23 мая и 17 августа 1480 года. Хотя османские силы, насчитывавшие примерно 70 000 человек и 160 кораблей, намного превосходили госпитальеров в численности (300 рыцарей, 300 сержантов и 3000–4000 солдат), захватчики вскоре были разбиты и вынуждены отступить. В то время как хорошо укрепившиеся защитники потеряли всего пару десятков человек, османы понесли потери в 9000 солдат убитыми и 15 000 ранеными. Сорок с лишним лет спустя, 24 июня 1522 года, османы вернулись – на этот раз с куда большими силами в 200 000 человек. И все же серьезно уступавшие им числом рыцари и их сторонники сдались лишь после шестимесячной осады. В награду за доблестное поведение во время жестокой осады султан Сулейман позволил выжившим госпитальерам и пяти сотням местных жителей беспрепятственно уйти. Это был великодушный жест, ведь войска султана вновь понесли тяжелые потери{124}. На этом история госпитальеров не закончилась: в 1530 году император Священной Римской империи Карл V пожаловал им во влад ение Мальту. Благодаря своему превосходному географическому положению Мальта стала еще более грозной пиратской базой, чем Родос{125}.

2. Деревянная модель галеры госпитальеров
В северных водах мирный договор в Фальстербу 1395 года положил конец войне на Балтике, но не угрозам судоходству: виталийские братья продолжали охоту на морских просторах. Уже не каперы, а просто пираты, они все еще могли пользоваться определенной поддержкой в некоторых районах Балтийского моря; политическая раздробленность и постоянная вражда между различными королевствами, герцогствами и портовыми городами предполагали наличие безопасных гаваней. Что еще хуже, незадолго до конца войны виталийские братья захватили остров Готланд, в том числе город Висбю, и превратили его в свою крепость{126}. В начале 1398 года после безуспешных переговоров с Ганзейским союзом Тевтонский орден решил действовать. Конрад фон Юнгинген, великий магистр Тевтонского ордена, собрал крупный флот из 84 кораблей с 5000 солдатами, 50 тевтонскими рыцарями и 400 лошадьми. Эти силы успешно высадились на Готланде 21 марта. Разрушив замки пиратов, тевтонцы осадили Висбю, защитники которого вскоре сдались{127}. Хотя капитуляция острова в качестве пиратской базы не означала, что с виталийскими братьями покончено, они оказались серьезно ослаблены. Тевтонская дипломатия при поддержке посольских миссий из Любека постепенно развернула ситуацию на 180 градусов: порт за портом, государство за государством, монарх за монархом переходили на сторону ордена. Последние из виталийских братьев, некогда столь могущественных, а теперь насчитывавших лишь 400 человек, предприняли отчаянную попытку найти покровителя, который помог бы им перегруппироваться, но когда один такой потенциальный союзник, герцог Померании Барним VI, проявил интерес, ганзейская лига быстро собрала флот и блокировала Штеттин (ныне Щецин), центр Померании, – на этом история закончилась. После утраты всех своих баз на Балтике виталийские братья были вынуждены отступить в Северное море. Поначалу их охотно поддерживали фризские вожди, но после нескольких ганзейских экспедиций в 1400 году и это прекратилось; вскоре виталийские братья, или ликеделеры, как они называли себя сами, растворились в истории.
В восточных водах «бельмом на глазу» у прибрежных государств, зависевших от судоходства, были свои подобные пиратские базы, пользовавшиеся недоброй славой. Наиболее грозную силу представлял остров Цусима, расположенный в Корейском проливе (шириной 120 морских миль), отделяющем Корейский полуостров от Японских островов и связывающем Японское море с Восточно-Китайским. Тот, кто контролировал Цусиму, держал мертвой хваткой судоходство в проливе и вдоль его берегов. В XIV веке, например, японские пираты использовали Цусиму для безжалостных набегов на прибрежные поселения Кореи. В 1389 году корейский ван[17] Тхэджо отправил большой боевой флот, чтобы нанести по острову ответный удар: были сожжены 300 кораблей вокоу и сотни жилищ, спасены десять корейских пленников{128}. Пираты на время затаились, но возобновили атаки, как только корейский двор отвлекся от морских проблем. Теперь, когда делами цусимских пиратов заправлял японский клан Со, они снова стали настолько серьезной угрозой, что 19 июня 1419 года корейский ван Седжон Великий отправил флот из 200 кораблей и 17 000 солдат, чтобы раз и навсегда разрушить знаменитую пиратскую базу на Цусиме и занять остров{129}.
Операция, известная в корейской истории как Восточная экспедиция Гихэ, а в японских текстах – как Шейское вторжение, поначалу шла успешно. Бóльшая часть пиратских кораблей находилась в море, и корейцы сумели с легкостью оккупировать остров. В последующие дни были убиты или схвачены 135 пиратов, сожжены 129 кораблей и разрушены 2000 домов. Более того, 131 пленник и 21 раб получили свободу. Однако примерно через четыре недели, когда казалось, что кампания закончена, корейские силы попали в засаду, устроенную японским ополчением под предводительством фактического правителя острова, пиратского барона даймё[18] Со Садамори. Эти события вошли в местную историю как битва при Нукадакэ. Потеряв в короткой ожесточенной схватке 150 человек, корейцы, опасаясь дальнейших жертв, договорились с пиратами о перемирии. Они эвакуировались с острова 3 июля 1419 года, возможно поверив хитрому заявлению Со Садамори о приближении крупного тайфуна{130}. И опять после временного затишья пиратские атаки возобновились. В конце концов с пиратством в здешних водах покончили не военные, а дипломаты. В 1443 году корейский двор предоставил клану Со существенные торговые привилегии, «понимая, что его представители будут стремиться пресечь пиратство и помешать японским кораблям, торгующим в корейских портах, использовать поддельные документы и фальшивые печати»{131}. Решение позволить клану Со богатеть на законной торговле и одновременно поручить навести порядок в водах между Кореей и Японией, чтобы покончить как с пиратством, так и с контрабандой, принесло долговременные результаты.
Как видите, в пиратстве не так уж много романтики и приключений, им движут, скорее, жажда наживы, обида и до некоторой степени убеждения и религия. В сущности, стать пиратом человек решал в результате рационального выбора с учетом таких факторов, как жизненные условия, ожидаемая выгода и вероятность выйти сухим из воды. Разумеется, свою роль играли и социальное одобрение или благоприятная среда в виде коррумпированных чиновников, лояльных портов и потворствующих им правительств. Религия тоже была убедительным оправданием такого выбора для человека или целой группы: если того желает сам Бог (или Аллах), то выйти в море в качестве крестоносца или гази не преступление, а священный долг. Соответственно, предполагаемая нажива расценивалась как вознаграждение Господне за демонстрацию благочестия с оружием в руках, хороший пример тому – непримиримые враги с исламом, рыцари-госпитальеры. Такие рассуждения поддерживали корсарство на плаву на протяжении веков, хотя истинное религиозное рвение – в отличие от показного – в тот период, по-видимому, то возрастало, то убывало.
К тому же мы видим, что пиратство – это не просто боевое столкновение двух кораблей, как это часто преподносится в романах и фильмах. Примеры викингов и вокоу показывают, что в крупномасштабных набегах могли участвовать десятки кораблей и сотни или тысячи пиратов, которые обрушивались на прибрежные деревни и города. Это были самые жестокие и безжалостные атаки, настоящие оргии грабежа и насилия, «разгул убийств и мародерства»{132}: селения разграбляли и предавали огню, многих жителей хладнокровно убивали, а выживших уводили в рабство. Прекращение подобных рейдов зависело от ресурсов и решительности атакуемого государства, а и того и другого очень часто не хватало по самым разным причинам. Одной из них были гражданские войны; другой – раздробленность на ряд мелких княжеств, которые могли бы оказать серьезное сопротивление, если бы действовали сообща. В силу отсутствия флота оборонительные меры по большей части носили скорее пассивный, нежели активный характер. Когда государство могло собрать необходимые военно-морские силы и вдобавок обладало политической волей, чтобы уничтожить пиратские базы, такие операции обычно заканчивались бомбардировкой берегов и высадкой десанта для захвата крепостей. Зачастую это приводило к полному разрушению прибрежных деревень, независимо от того, содействовали их жители разбойникам или нет, – и сопровождалось все это точно таким же «разгулом убийств и мародерства», олицетворением которого были сами пираты.
Наконец, интересно, что в силу общих коренных причин, таких как тяжелые условия жизни, крайняя нищета и междоусобицы, пиратство проявлялось очень похоже в трех морских регионах, рассмотренных выше, – Средиземном, северных и восточных морях, несмотря на то что в тот период эти три горячие точки пиратства были достаточно изолированы друг от друга. Тут следует сделать оговорку: некоторые корсары, к примеру дон Перо Ниньо, время от времени совершали набеги в Северном море, приплыв из основного района боевых действий в Средиземноморье, в то время как флоты викингов иногда спускались в Средиземноморье с Севера. Тем не менее все возможные формы пиратства возникали в этих водах независимо друг от друга, будь то пираты «по совместительству», которые обычно занимались рыбной ловлей, но время от времени нападали на менее мощные суда, или организованные флоты сарацинов в Средиземноморье, викингов на севере и вокоу на востоке. Таким образом, хотя о пиратстве того времени можно говорить как о глобальном явлении, истоки его были локальные. Это следует иметь в виду при анализе следующего периода, с 1500 по 1914 год. Как мы увидим, именно в эти столетия пиратство, особенно западное, стало глобальным.
Часть II
Расцвет европейских морских держав, 1500–1914 годы



В поисках веселой и недолгой жизни
Напомним, что пиратство или каперство было опасным занятием и вероятность погибнуть была для пирата намного выше, чем шансы разбогатеть. Какую-то роль играли, наверное, и романтика, и любовь к приключениям, но обычно на решение человека влияли гораздо более будничные факторы – толкающие и притягивающие. Так происходило в 700–1500 годах, и то же самое можно сказать о четырех последующих столетиях, о которых пойдет речь в этой части книги.
Фактор притяжения объяснить легко: это надежда разбогатеть, невзирая на риск безвременно погибнуть. Большинство тех, кто выбирал этот путь, вероятно, согласилось бы с пиратским капитаном Черным Бартом (Бартоломью Робертсом). Он родился 17 мая 1682 года в Касневид-Бах[19], что в Уэльсе, а погиб, не дожив до сорока, в кораблекрушении близ мыса Лопес в Габоне 10 февраля 1722 года и говорил, что его девиз: «Жить весело и недолго»{133}. Факторы «толкающие» более разнообразны, но обычно их можно свести к «суровым условиям жизни», когда убожество отдельных граждан, порожденное крайней бедностью, эксплуатацией, унижением и безработицей, а также повсеместными войнами, приводит к страданиям целых обществ. Например, в Средиземноморье в конце XV и первой половине XVI века наблюдался бурный рост торговли. Этот период расцвета привел к стремительному развитию различных кустарных промыслов, что, в свою очередь, стало причиной появления высоко мобильной рабочей силы – бродячих ремесленников, которые странствовали по всей Европе в поисках прибыльных занятий. Однако во второй половине XVI века казавшийся неиссякаемым поток золота и серебра из испанских владений в Новом Свете («открытом» Христофором Колумбом в 1492 году) привел к инфляции и постепенному, но катастрофическому ослаблению экономики, сопровождавшемуся непомерным ростом цен. Результатом стало резкое обнищание населения{134}. Отчаянные времена требуют отчаянных решений – и по мере ухудшения экономических условий в Средиземноморье опять стали развиваться бандитизм на суше и пиратство на море.
В XVII веке английский крестьянин жил не лучше средиземноморского, пусть и по несколько другим причинам: при феодальной системе с работниками обращались как со скотом или даже хуже, их жизнь полностью зависела от милости господина и его деспотичного толкования правосудия; поэтому мужчин (а иногда и женщин) не мог не мучить вопрос: неужели нет ничего лучше этой доли? Зачем тянуть лямку за один фунт в год, если добыча пирата может составить сногсшибательную сумму – от 1500 до 4000 фунтов?{135} По законам того времени можно было отправиться на виселицу за кражу одного фунта. Так почему бы не украсть сразу целое состояние?{136} Английские – равно как нидерландские, французские, фламандские и немецкие – крестьяне обычно были наслышаны о несметных сокровищах, для обладания которыми требовалось всего лишь немного смелости и удачи. Они узнавали об этом от бродячих рассказчиков, а начиная с XVI века – из памфлетов и баллад: те, кто умел читать, покупали их у коробейников. Эти приукрашенные истории повествовали о сказочных богатствах, захваченных храбрыми сорвиголовами на испанских, португальских и индийских кораблях сокровищ – кораблях, груженных сундуками, полными золота и серебра, и мешками, набитыми алмазами, рубинами, изумрудами и жемчугами{137}. А жители побережья могли даже слушать и самих мореходов. Так зачем же изнурять себя тяжелым трудом за сущие гроши, если где-то за горизонтом при некоторой отваге и попутном ветре можно завоевать сказочные богатства?
На другом конце света жизнь безземельных крестьян во времена империи Цин (1644–1911) также изобилует безрадостными примерами. Таких крестьян, работавших на землях могущественных феодалов, постоянно преследовали призраки безработицы, мизерной оплаты труда, растущей стоимости жизни и, вследствие стремительного роста населения, жесткая конкуренция за рабочие места, а в результате – падение уровня доходов{138}. Учитывая ежедневную борьбу за выживание, неудивительно, что постоянно возникал соблазн заняться преступной деятельностью, а для жителей прибрежных районов это подразумевало пиратский промысел – либо «по совместительству», до и после сезона рыбной ловли, либо на постоянной основе. Пиратство давало надежду раз и навсегда избавиться от бедности. Богатые купцы, с важным видом разгуливающие по пристани, дорогие товары, которые то загружают на корабли, то сгружают с них – подобное зрелище не могло не наводить на мысль, что есть масса возможностей завладеть чужим имуществом. Жизнь китайской королевы пиратов Чжэн И-сао[20] (1775–1844) – пример восхождения из грязи в князи, о котором мечтали многие из этих работающих бедняков. Бывшая проститутка из Гуанчжоу в 1801 году вышла замуж за пиратского вожака Чжэн И (1765–1807) и создала вместе с ним мощную конфедерацию из 40 000–60 000 пиратов, плававших на 400 джонках{139}. Ее современник, пиратский барон У Ши Эр (1765–1810), до того как присоединиться к банде пиратов, был мелким воришкой. Когда в 1810 году его наконец схватили, он командовал флотом из более чем ста кораблей{140}.
История Чжэн И-сао показывает, что иногда на путь пиратства человек вставал в силу стечения обстоятельств, а не из-за алчности или недовольства судьбой. Еще один такой пример – жизнь Энн Бонни (1698–1782). Энн Кормак родилась в 1698 году в ирландском графстве Корк; затем ее семья переехала на Карибы, где Энн вышла замуж за некоего Джеймса Бонни, моряка, время от времени промышлявшего пиратством, хотя и без особого успеха; его описывают как «молодого парня, который принадлежал морю и гроша не имел за душой; это настолько выводило отца [Энн] из себя, что он выставил ее за дверь»{141}. Однако этот весьма несчастливый брак оказал решающее влияние на будущую жизнь Энн. Супруги перебрались в порт Нассау на Багамах, где Энн встретила куда более успешного пирата – капитана Джона Рэкхема (1682–1720), известного также как Калико Джек. Рэкхем попал под амнистию, пожалованную всем пиратам королем Георгом I, и они вместе скрылись. Но когда Калико Джек заскучал по прошлой жизни, Энн Бонни отправилась вместе с ним в море и стала пиратом. Ее современница Мэри Рид (ок. 1690–1721) сделала авантюрную карьеру моряка на военном судне и солдата во Фландрии (она всегда носила мужское платье), после чего села на корабль, отплывающий в Вест-Индию, где ей вздумалось попытать счастья. Когда судно, на котором плыла Рид, захватили английские пираты, она без колебаний присоединилась к ним. Волею случая в конце концов Мэри оказалась на одном корабле с Энн Бонни и Калико Джеком{142}.
Цепь совпадений сыграла роль и в судьбе Мартина Винтергерста – пекаря из Южной Германии. Человек явно неугомонный, Винтергерст в 1689 году оказался в Венеции, куда явился как бродячий ремесленник. Хотя он сразу же нашел работу в пекарне, принадлежавшей одному немцу, занятие это ему не нравилось, и он пристроился в таверну другого немца из Нюрнберга, где вскоре начал бегло разговаривать на итальянском. Так случилось, что здесь на него обратил внимание нидерландский капер и убедил Винтергерста стать переводчиком на его судне с 46 орудиями и 180 людьми. Так началась яркая карьера Винтергерста-моряка на каперских, пиратских, военных и торговых кораблях – длилась она не менее двадцати лет, за которые он исплавал под разными флагами вдоль и поперек все Средиземное море, совершая вылазки в Северное море, после чего наконец добрался на кораблях Голландской Ост-Индской компании до Южно-Китайского моря. Каким-то образом, вопреки всем ожиданиям, если брать в расчет все опасности его жизни, он вернулся в родной город, где провел свои последние годы за сочинением мемуаров (Винтергерст был одним из немногих простолюдинов, оставивших воспоминания, ведь обычно их писали сильные мира сего – либо сами, либо кто-то от их лица){143}.
Пример испанского корсара Алонсо де Контрераса (1582–1641) – еще одна иллюстрация удивительных совпадений на пиратской стезе. Если бы Алонсо следовал совету матери, то стал бы серебряных дел мастером в Мадриде. Но нет, в ответ на оскорбление от своего ровесника мальчик нанес ему смертельный удар ножом и, скрывшись от правосудия, в нежном возрасте четырнадцати или пятнадцати лет вступил в испанскую пехоту, а немногим позднее оказался в Палермо в качестве пажа при капитане каталонской пехоты. Когда его отряд участвовал в десантной операции, на борту флагманского судна сицилийской эскадры Контрерас узнал, что такое морской бой: «Здесь я впервые услышал, как пушечные ядра со свистом проносятся мимо моих ушей, когда я стоял перед моим капитаном, держа щит и его золоченое копье»{144}. На следующий год он участвовал уже как солдат в двух плаваниях вдоль берегов Леванта на борту галеры рыцарей-госпитальеров, где осваивал искусство навигации, наблюдая за работой штурманов и задавая им бесчисленное множество вопросов{145}. Постепенно Контрерас стал профессиональным моряком, пройдя путь от солдата до одного из самых успешных корсаров своего времени.
Похожая история бегства от проблем на родине в нежном возрасте привела в профессию мореплавателя и французского буканьера[21] Луи Ле Голифа (ок. 1640-?). Известный как Borgnefesse, или Ползадницы (из-за пулевого ранения он потерял одну ягодицу), Ле Голиф, как и Контрерас, был скромного происхождения. Родители заставили его пойти в семинарию, но из-за чрезмерного сексуального аппетита Луи очень скоро нажил себе неприятности и понял, что карьера священника не для него. Так в юные годы он покинул и семью (которую более никогда не видел), и Францию, сев на корабль, который держал курс на Тортугу в Вест-Индию, чтобы там в течение трех лет отрабатывать свой долг за плавание по кабальному договору с Французской Вест-Индской компанией. После того как его выкупил плантатор, оказавшийся «невероятно жестоким и алчным человеком»{146}, Ле Голиф провел восемь месяцев на Тортуге практически на положении раба, прежде чем бежал и стал буканьером{147}.
Александр Эксквемелин (ок. 1645–1707) также подался в буканьеры, пройдя опыт неволи. Он живо описывает свое богатое событиями плавание на Тортугу в 1666 году на борту 28-пушечного французского корабля St. Jean и рабский труд на местных плантациях{148}. К счастью для Эксквемелина, его жестокий первый хозяин перепродал его корабельному врачу, который хорошо обращался с ним и дал вольную уже через год. Свой следующий шаг, предпринятый в 1669 году, Эксквемелин описывал в таких выражениях: «Будучи теперь на свободе, но подобен Адаму, когда он был создан Богом, то есть наг и лишен всего необходимого человеку, не зная, как добыть средства к существованию, я решил присоединиться к порочному ордену пиратов, или морских разбойников»{149}. Проще говоря, он стал буканьером. До 1672 года Эксквемелин оставался в их рядах, а потом написал свое знаменитое сочинение «Буканьеры Америки» – одно из самых авторитетных свидетельств пиратской жизни. Все эти истории мужчин и женщин, ставших пиратами, показывают, что, когда им выдался шанс, они ухватились за него, – другие на их месте, вероятно, выбрали бы другой путь.
Эта и ещё 2 книги за 399 ₽