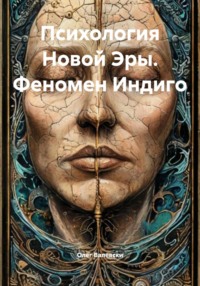Читать книгу: «Психология Новой Эры. Феномен Индиго», страница 2
Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, долговременную и важнейшую роль. У тревожных матерей часто вырастают тревожные дети; честолюбивые родители нередко так подавляют своих детей, что это приводит к появлению у них комплекса неполноценности; несдержанный отец, выходящий из себя по малейшему поводу, нередко, сам того не ведая, формирует подобный же тип поведения у своих детей и т.д.
В каждой семье объективно складывается определенная, далеко не всегда осознанная её членами, система воспитания. Здесь имеется в виду и понимание целей воспитания, и формулировка его задач, и более или менее целенаправленное применение методов и приёмов воспитания, учёт того, что можно и чего нельзя допустить в отношении ребёнка. Каждый из родителей видит в детях своё продолжение, реализацию определенных установок или идеалов. И очень трудно отступает от них. Конфликтная ситуация между родителями – различные подходы к воспитанию детей, а перегибы в дисциплинарном аспекте восприятия приводят зачастую к весьма печальным последствиям. Дети быстро «схватывают» происходящее и довольно ловко маневрируют между родителями, добиваясь сиюминутных выгод (обычно в сторону лени, плохой учебы, непослушания и т.д.).
ТИПЫ СЕМЕЙНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Могут быть выделены 4 тактики воспитания в семье и отвечающие им 4 типа семейных взаимоотношений, являющиеся и предпосылкой, и результатом их возникновения: диктат, опека, «невмешательство» и сотрудничество.
Диктат в семье проявляется в систематическом подавлении одними членами семейства (преимущественно взрослыми) инициативы и чувства собственного достоинства у других его членов. Родители, разумеется, могут и должны предъявлять требования к своему ребёнку, исходя из целей воспитания, норм морали, конкретных ситуаций, в которых необходимо принимать педагогически и нравственно оправданные решения. Однако, те из них, которые предпочитают всем видам воздействия приказ и насилие, сталкиваются с сопротивлением ребёнка, который отвечает на нажим, принуждение, угрозы своими контрмерами: лицемерием, обманом, вспышками грубости, а иногда откровенной ненавистью. Но даже если сопротивление оказывается сломленным, вместе с ним оказываются сломленными и многие ценные качества личности: самостоятельность, чувство собственного достоинства, инициативность, вера в себя и в свои возможности. Безоглядная авторитарность родителей, игнорирование интересов и мнений ребёнка, систематическое лишение его права голоса при решении вопросов, к нему относящихся, ‑ всё это гарантия серьезных неудач формирования его личности.
Опека в семье – это система отношений, при которых родители, обеспечивая своим трудом удовлетворение всех потребностей ребёнка, ограждают его от каких‑либо забот, усилий и трудностей, принимая их на себя. Вопрос об активном формировании личности отходит на второй план. В центре воспитательных воздействий оказывается другая проблема – удовлетворение потребностей ребёнка и ограждение его то трудностей.
Родители, по сути, блокируют процесс серьезной подготовки их детей к столкновению с реальностью за порогом родного дома. Именно эти дети оказываются более неприспособленными к жизни в коллективе. По данным психологических наблюдений именно эта категория подростков даёт наибольшее число срывов в переходном возрасте. Как раз эти дети, которым, казалось бы, не на что жаловаться, начинают восставать против чрезмерной родительской опеки. Если диктат предполагает насилие, приказ, жесткий авторитаризм, то опека – заботу, ограждение от трудностей. Однако результат во многом совпадает: у детей отсутствует самостоятельность, инициатива, они так или иначе отстранены от решения вопросов, лично их касающихся, а тем более общих проблем семьи.
Система межличностных отношений в семье, строящаяся на признании возможности и даже целесообразности независимого существования взрослых от детей, может порождаться тактикой «невмешательства». При этом предполагается, что могут сосуществовать два мира: взрослые и дети, и ни тем, ни другим не следует переходить намеченную таким образом линию. Чаще всего в основе этого типа взаимоотношений лежит пассивность родителей как воспитателей.
Сотрудничество, как тип взаимоотношений в семье, предполагает опосредованность межличностных отношений в семье общими целями и задачами совместной деятельности, её организацией и высокими нравственными ценностями. Именно в этой ситуации преодолевается эгоистический индивидуализм ребёнка. Семья, где ведущим типом взаимоотношений является сотрудничество, обретает особое качество, становится группой высокого уровня развития – коллективом.
Основные сложности в общении, конфликты возникают из‑за чрезмерного родительского контроля за поведением, учебой подростка, его выбором друзей и т.д. Крайние, самые неблагоприятные для развития ребёнка случаи – жёсткий, тотальный контроль при авторитарном воспитании и почти полное отсутствие контроля, когда подросток оказывается предоставленным самому себе, безнадзорным. Существует много промежуточных вариантов:
– Родители регулярно указывают детям, что им делать;
– Ребёнок может высказать своё мнение, но родители, принимая решение, к его голосу не прислушиваются;
– Подросток может принимать отдельные решения сам, но должен получить одобрение родителей, родители и ребёнок имеют почти равные права, принимая решение;
– Решение часто принимает сам ребёнок;
– Ребёнок сам решает подчиняться ему родительским решениям или нет.
Остановлюсь на наиболее распространенных стилях семейного воспитания, определяющего особенности отношений подростка с родителями и его личностное развитие.
Демократичные родители ценят в поведении подростка и самостоятельность, и дисциплинированность. Они сами предоставляют ему право быть самостоятельным в каких‑то областях своей жизни; не ущемляя его прав, одновременно требуют выполнения обязанностей. Контроль, основанный на теплых чувствах и разумной заботе, обычно не слишком раздражает подростка; он часто прислушивается к объяснениям, почему не стоит делать одного и стоит сделать другое. Формирование взрослости при таких отношениях проходит без особых переживаний и конфликтов.
Авторитарные родители требуют от подростка беспрекословного подчинения и не считают, что должны ему объяснять причины своих указаний и запретов. Они жестко контролируют все сферы жизни, причем могут это делать и не вполне корректно. Дети в таких семьях обычно замыкаются, и их общение с родителями нарушается. Часть подростков идёт на конфликт, но чаще дети авторитарных родителей приспосабливаются к стилю семейных отношений и становятся неуверенными в себе, менее самостоятельными.
Ситуация осложняется, если высокая требовательность и контроль сочетаются с эмоционально холодным, отвергающим отношением к ребёнку. Здесь неизбежна полная потеря контакта. Ещё более тяжелый случай – равнодушные и жестокие родители. Дети из таких семей редко относятся к людям с доверием, испытывают трудности в общении, часто сами жестоки, хотя имеют сильную потребность в любви.
Сочетание безразличного родительского отношения с отсутствием контроля – гипоопека – тоже неблагоприятный вариант семейных отношений.
Подросткам позволяется делать всё, что им вздумается, их делами никто не интересуется. Поведение становится неконтролируемым. А подростки, как бы они иногда не бунтовали, нуждаются в родителях как в опоре, они должны видеть образец взрослого, ответственного поведения, на который можно было бы ориентироваться.
Гиперопека – излишняя забота о ребёнке, чрезмерный контроль за всей его жизнью, основанный на тесном эмоциональном контакте, – приводит к пассивности, несамостоятельности, трудностям в общении со сверстниками.
Трудности возникают и при высоких ожиданиях родителей, оправдать которые ребёнок не в состоянии. С родителями, имеющими неадекватные ожидания, в подростковом возрасте обычно утрачивается духовная близость. Подросток хочет сам решать, что ему нужно, и бунтует, отвергая чуждые ему требования во всех сферах жизни. Мало кто из родителей хоть раз задумывался, насколько опасно насильственное внедрение в интимную жизнь ребёнка. Мы и сами‑то боимся этой жизни. Боимся непонятно чего.
Младенец нашел свои половые органы ‑ ужас. У ребенка постоянно руки «там» ‑ однозначно, вырастет маньяком. Пошел в первый класс и влюбился в соседку – присмотреться, из «достойной» ли семьи девочка. Влюбился в двоечницу – неудачником и будет по жизни… Трудно поверить, но это факт: миллионы культурных и образованных родителей навязывают детям свои личные страхи в самой извращенной манере. Отсюда получается, что воспитание – это система бесконечных самоограничений. Родителям необходим постоянный самоконтроль, в том числе и за словами. И ничего удивительного, это не шуточное дело – формирование новой жизни.
ВНУТРИСЕМЕЙНЫЕ КОНФЛИКТЫ
Конфликты возникают при отношении родителей к подростку как к маленькому ребёнку и при непоследовательности требований, когда от него ожидается то детское послушание, то взрослая самостоятельность. Часто источником конфликта становится внешний вид подростка. Родителей не устраивает ни мода, ни цены на вещи, так нужные их ребёнку. А подросток, считая себя уникальной личностью, в то же время стремится ничем не отличаться от сверстников. Камнем преткновения во многих семьях может стать вопрос: до которого часа подросток может гулять вечером, или родители считают, что девочке рано встречаться с мальчиком и т.д. Легкая ранимость этого «взрослого» ребёнка требует от родителей терпеливого разъяснения, но, ни в коем случае нравоучений и нотаций! Подросток хочет, чтобы взрослые считались с его мнением, уважали его взгляды. Отношение к себе, как к маленькому обидит подростка. Вот почему со стороны родителей недопустимы мелочная опека, излишний контроль. Слова убеждения, совета или просьбы, с которыми родители на равных обратятся к подростку, воздействуют быстрее.
Для достижения воспитательных целей в семье родители обращаются к разнообразным средствам воздействия: поощряют и наказывают ребёнка, стремятся стать для него образцом. В результате разумного применения поощрений развитие детей, как личности, можно ускорить, сделать более успешным, чем при использовании запретов и наказаний. Если всё же возникает нужда в наказаниях, то для усиления воспитательного эффекта наказания, по возможности, должны следовать непосредственно за заслуживающим их проступком. Наказание должно быть справедливым, но не жестоким. Очень суровое наказание может вызвать у ребёнка страх или озлобленность. Наказание более эффективно в том случае, если проступок, за который он наказан, разумно ему объяснен. Любое физическое воздействие формирует у ребёнка убеждение, что он тоже сможет действовать силой, когда его что‑то не устроит.
Кроме того, необходимо выделить момент запретов и ограничений, которые часто неоправданны и базируются в большей мере на личных амбициях родителей, нежели на здравом смысле и необходимости. Ребёнок это чувствует и это в нём вызывает массу разнообразных негативных эмоций и реакций: от пессимизма до агрессии, что способно приводить к апатии и унынию. Опасность состоит в том, что состояния аффекта, как и уныние, могут приводить к мыслям о самоубийстве. (Более подробно о суициде мы остановимся ниже в Главе 4 данной части)
Специфические условия для воспитания складываются в так называемой «неполной» семье, где отсутствует один из родителей. Мальчики гораздо острее, чем девочки, воспринимают отсутствие в семье отца; без отцов они часто бывают задиристыми и беспокойными.
Распад семьи вообще отрицательно влияет на отношение между родителями и детьми, особенно между матерями и сыновьями. В связи с тем, что родители сами испытывают нарушение душевного равновесия, им обычно недостает сил, чтобы помочь детям справиться с возникшими проблемами как раз в тот момент жизни, когда те особенно нуждаются в их любви и поддержке.
После развода родителей мальчики нередко становятся неуправляемыми, теряют самоконтроль, проявляя одновременно завышенную тревожность. Эти характерные черты поведения особенно заметны в течение первых месяцев жизни после развода, а к двум годам после него, сглаживаются. Такая же закономерность, но с менее выраженными отрицательными симптомами, наблюдается в поведении девочек после развода родителей.
Хотелось бы особо отметить, что в семьях, где супруги живут вместе «только из‑за детей», травмируется психика детей ничуть не меньше, чем, если бы родители жили в разных семьях, но действительно с любовью относились к своему ребёнку, не настраивая его против одного из родителей. Напротив, это бы способствовало более полноценному становлению ребёнка как личности впоследствии, хотя, по большому счёту, лишило его, в определённой мере, детства. Взрослые почему-то забывают, что ребёнок – не игрушка в родительских руках, и он очень чувствителен к фальши и лжи. И даже если вы обманули его, он всё равно это чувствует, и это со временем обернётся против вас самих. Собственно, ребёнку особо много и не надо понимать, он ещё чист и его подсознание, и изначальная чистота не осквернена и не искажена сознанием, социальными установками и всякого рода человеческими правилами. Я не верю, что ребёнок может быть изначально испорченным или плохим. Портим наших детей мы сами, но…
Но ребёнок не всегда остаётся маленьким и несмышленым; он медленно и верно растёт и взрослеет и телом, и разумом. Опека взрослых для него становится недостающей, не всеобъемлющей, а то и фактором напряжения. И тут он начинает «выходить в мир», познавать другие семьи, другие отношения и, может быть, впервые сознательно сравнивать. Раньше он неосознанно сравнивал девочку и мальчика, папу и маму, дядю и тётю, животных и растения, и, не находя истинных объяснений, довольствовался придуманными другими или домысленными им самим исчерпывающими ответами. Со временем всё познание, которое он вынес из окружающего его и его семью мира, маленький человечек переносит на осмысление вовнутрь. В это время происходит первое разделение.
ШКОЛА
Один из важнейших моментов влияния в становлении ребёнка – школа.
Это очень щекотливая и неоднозначная тема и здесь следует уделить внимание некоторым аспектам этого вопроса.
На эти годы, совпадающие с младшим школьным возрастом, приходится «Возраст познания», когда ребенок расположен к узнаванию нового о мире предметов и понятий, к овладению средствами этого познания – чтению, письму, логическому мышлению и др. Во многих случаях наша современная школа успешно подавляет у ребенка эти интересы и стремления или существенно их ограничивает. Распространенным примером в практике преподавания является организация учителями действий учащихся по образцу: излишне часто учителя предлагают детям упражнения тренировочного типа, основанные на подражании, не требующие мышления. В этих условиях недостаточно развиваются такие качества мышления, как глубина, критичность, гибкость, которые являются сторонами его самостоятельности.
Несбалансированная школьная программа, условия и критерии обучения, которые постоянно меняются и усложняются, не способствуют получению полноценного образования, а наоборот отбивают желание у детей учиться. А на самом деле поступление в высшее учебное заведение связано не с этими школьными отметками, а связано с коррупцией, личными связями и другими неприглядными вещами.
Важность школы заключается в том, что ребёнок – ещё «чистый лист бумаги», он учится, но не только тому, что преподают учителя, а всему что видит. В первые годы учителя являются примером для малышей, но со временем интересы и отношения ко многим вещам меняется. Но учителя действуют по‑старинке, а это лишь только усугубляет положение, так как навязывание «чуждых» интересов не является самым оптимальным выходом из ситуации. Учитель не становится на место малыша и не хочет понять то, как видит ситуацию он, не хочет и услышать, что по этому поводу думает сам ученик; и даже если ученик и объясняет ситуацию, то учитель слушает, но не слышит. Тут мы опять встречаемся с той же проблемой, что и в семье – не находя для себя идеала в учителях, ребёнок ищет его в своих сверстниках, но чаще всего в старших. Параллельно с этим угасает, и без того слабый, интерес к предметам, которые пытаются ему преподать.
Начало этому – в младших классах. Теперь ситуация глазами уже старшеклассника. То, что он не хочет учиться, становится уже явным – прогуливание уроков, курение, сквернословие. Но ситуация та же, только уже на другом уровне восприятия: если раньше ученик не мог возразить учителю, а только молча абстрагировался, то тут реакция иная – сразу начинаются возражения и споры. Этим учитель, в свою очередь, пожинает плоды прошлых «заслуг». Ещё грубость, а порой и хамство, со стороны отдельных учителей в адрес учеников, показывает ученикам своё отношение, и наталкивает на убеждение, что с учителем можно разговаривать точно так же, как и он с учеником. А это, в свою очередь, порождает естественное недовольство со стороны учителей. И всё упирается в начальные этапы отношений «ученик–учитель»: как бы школа не старалась, она не вырастит достойного поколения, пока не поймет своих ошибок и не признает их.
Уже в школе ребенок сталкивается с тем, что взрослые не могут обеспечить ему сносный уровень учебы и минимальную безопасность. Известно, например, что у многих школьников нередко появляется гастрит на почве школьных неврозов. Малыши боятся опоздать в школу – учительница будет ругать. Боятся не выполнить домашнее задание – получат плохую отметку, что влечет за собой соответственное наказание дома.
Но, к счастью, так бывает не всегда. Во всяком случае, первый учитель младшего школьника может претендовать на звание самого значимого представителя Взрослого Мира. Может – если сумеет ему соответствовать на деле и в восприятии младшего поколения. Поэтому нельзя недооценивать роль учителя в школе, как родителям, так и самим учителям.
СОЦИУМ ВООБЩЕ
Не лучшим образом обстоит и отношения с социумом на уровне власти. Милиция и вообще правоохранение с педагогической точки зрения – вершина нашей взрослой бездарности в устройстве жизни. Каждый ребенок знает о том, как ведут себя милиционеры в участках. Жизнь на улице для подростка – это мир, поделенный между насилием бандитов и насилием милиции. Третьего не дано, и это тоже результат нашего взрослого неумения обустроить свою жизнь. Ребёнка с детства готовят к приятию несправедливости и видимости выбора в жизни, а фактически – к бесправию в условиях менталитета полицейского государства.
И, наконец, совсем взрослый мир – мир денег и большой власти и политики; мир, где ребенку уже не надо объяснять смысл золотого правила современности: «не обманешь – не продашь», где грабежи и убийства в выпусках новостей подаются так обыденно, как будто речь идет о мелкой неприятности, например, о поломке светофора на центральной улице города.
Эстетика взрослой жизни, которую видит ребенок, отвратительна. Мы просто привыкли к ней, притерпелись, и для нас это так же нормально, как для солженицынского Ивана Денисовича – лагерные бараки и нравы, там царящие. Мы привыкли к лагерной жизни, к её ценностям и её стилистике, и сами не заметили, как стали частью и этой жизни, и этой стилистики. Но дети в отличие от взрослых открывают этот мир заново, у них нет ещё сформировавшихся ценностей и норм, они только строят, выращивают своё отношение к миру…
Тут-то и возникают проблемы. На фоне стремления к взрослению, нынешнее развитие общества, в частности, стран бывшего СССР, вызывает в детях и даже молодых людях постарше, боязнь взросления. Известный специалист по возрастной психологии Борис Хасан (Россия), вместе с коллегами с психолого–педагогического факультета Красноярского университета высказал, на мой взгляд, очень любопытные и во многом справедливые выводы. Он установил, что дети… боятся становиться взрослыми.
Образ ближнего взрослого – родителей, учителей – настолько отвратителен для подростков, что они пытаются как можно дольше оставаться в детстве. Дети все время получают уроки безответственности взрослых, их неумения наладить детскую жизни и при этом… запредельного стремления воспитывать детей. Соответственно, дети стараются дистанцироваться от родителей. По сути, их стремление к сепарации от последних, есть ни что иное, как стремление освободиться от родительской зависимости. И, в самой сути, это самому распоряжаться своей свободой. Тут неважно, доминировать или подчиняться. И, как правило, это другое подчинение.
Если мы не хотим, чтобы дети нас боялись, если мы хотим хоть как-то обелить свой образ в их глазах, нам в какой-то момент, пересилив себя хоть однажды, а лучше время от времени и всё чаще и чаще, нужно самим становиться воспитанниками. Чтобы вместе с детьми, как они, учась у них, строить жизнь.
Другая крайность тенденции в развитии взросления детей – полярность их становления. Взрослым не мешало бы взглянуть на всё происходящее так, как это выглядит глазами детей! Данная ситуация приводит к тому, что вырастает поколение неудачников, не уберегших наследство своих родителей, не могущих противостоять бандитам и насильникам, разрушивших все институты государственной и общественной защиты граждан. Это поколение нищих, потерявших всякое право делать замечания и наставлять на путь истинный других, но которое только и делает, что берётся судить своих детей. Берётся давать им уроки добра и справедливости, которые загублены в нём самом, которые не реализовало само…
ГЛАВА 3. ПЕРИОДЫ КРИЗИСОВ
«Люди, пожалуй, не имеют твёрдых очертаний:
они меняются в зависимости от того, кто их окружает»
Леон Фейхтвангер
Юность, как известно, «период внутренних и внешних конфликтов, периодов бури и натиска, поисков и сомнений». Здесь без всякой, казалось бы, причины общительность мгновенно сменяется замкнутостью, непосредственность – эмоциональной скованностью, бурные вспышки – тягой к самоанализу. Но основы различных проявлений, явственные в юношестве, закладываются в очень раннем возрасте на определённых стадиях развития. Поэтому есть необходимость, хотя бы бегло остановится на некоторых моментах. Если рассматривать психосексуальные стадии развития человека по Фрейду, нельзя не сказать о том, какие изменения несёт с собой фаллическая стадия развития в юном возрасте.
Между тремя и шестью годами интересы ребенка сдвигаются в новую зону, область гениталий. На протяжении фаллической стадии дети могут рассматривать и исследовать свои половые органы, проявлять заинтересованность в вопросах, связанных с половыми отношениями. Хотя их представления о взрослой сексуальности обычно смутны, ошибочны, и весьма неточно сформулированы, Фрейд полагал, что большинство детей понимают суть сексуальных отношений более ясно, чем предполагают родители. Основываясь на увиденном по телевизору, на каких-то фразах родителей или на объяснениях других детей, они рисуют «первичную» сцену.
КОМПЛЕКС ЭДИПА
Разрабатывая учение о неврозах, Фрейд пришел к выводу о сексуальности их этимологии. Обращаясь за подтверждением своей гипотезы к мифологическим сюжетам, художественным и литературным памятникам истории, Фрейд особое внимание уделяет древнегреческому мифу о царе Эдипе. Поэтому доминирующий конфликт на фаллической стадии, по определению, состоит в комплексе, что Фрейд назвал «Эдиповым» (аналогичный конфликт у девочек получил название комплекса Электры3). Описание этого комплекса Фрейд заимствовал из трагедии Софокла «Царь Эдип».2 Подобные легенды распространены у многих народов. Кара, постигшая Эдипа, отражает восходящее к глубокой древности запрещение брачных отношений между прямыми родственниками.
Эдипов комплекс – психоаналитическое представление об особенностях эмоциональных отношений ребёнка в возрасте 3— 4 лет к своим родителям. Согласно З. Фрейду, это комплекс детских переживаний, состоящий из влечения (либидо) мальчика к своей матери одновременно с ревностью и недоброжелательством по отношению к отцу. У девочек он характеризуется особой привязанностью к отцу и направленностью на него сексуального влечения и называется комплексом Электры. В дальнейшем этот комплекс вытесняется в сферу бессознательного, является, как утверждал Фрейд, универсальным для мужчин и определяет многие аспекты их сексуальности и невротизма.
По Фрейду, комплекс Эдипа составляет основу и сущность всей истории человечества. В незапамятные времена человек жил в ситуации промискуитета всех мужчин со всеми женщинами в первобытном обществе. В этом обществе вожак, будучи самым сильным, присваивал себе всех самок, которые могли быть матерями, жёнами и сестрами остальных самцов. Сам же вожак, по сути, был отцом всех самцов первобытного общества.
Однажды униженные самцы убили вожака–отца и решили ввести экзогамию (запрет браков и половых отношений с кровными родственниками).
Фрейд считал, что введение экзогамии положило начало общественной морали и государственной организации человеческого общества. Первобытные братья, убив отца, начали испытывать противоречивые чувства, которые зачастую обнаруживаются у невротиков и у детей: ненависть и чувство соперничества по отношению к отцу и восхищение им, затем возникло сознание вины и раскаяние. Осознание вины за совершенное деяние побудило установить табу (запрет) на инцест и на убийство отца. В психоаналитической трактовке Фрейда предполагается, что на сознании вины за совершенное на заре цивилизации деяние, незримо присутствующей в душе каждого человека, основана вся современная культура с её предписаниями морали и различными ограничениями. Следует сказать, что эти выводы не являются абсолютными, так как входят в противоречия с некоторыми данными современной науки.
В клинической и психологической практике зачастую можно обнаружить символические проявления Эдипова комплекса (для женщин – комплекса Электры). Например, в выборе сексуального партнёра играют роль те его свойства и качества, которые присущи образу родителя противоположного пола, в большинстве случаев эта закономерность человеком не осознаётся. Спорным остаётся психоаналитическое утверждение в том, что Эдипов комплекс является универсальным для каждого.
В норме Эдипов комплекс развивается несколько по–разному у мальчиков и девочек. Рассмотрим, как он проявляется у мальчиков. Первоначально объектом любви у мальчика выступает мать или замещающая её фигура. С момента рождения она является для него главным источником удовлетворения. Он хочет выражать свои чувства по отношению к ней точно так же, как это делают, по его наблюдениям, люди более старшего возраста. Это говорит о том, что мальчик стремится играть роль своего отца и в то же время он воспринимает отца как конкурента. Но мальчик догадывается о своем более низком положении, он понимает, что отец не намерен терпеть его романтические чувства к матери. Боязнь воображаемого возмездия со стороны отца Фрейд назвал страхом кастрации и, по его мнению, это заставляет мальчика отказываться от своего стремления.
В возрасте примерно между пятью и семью годами Эдипов комплекс развивается: мальчик подавляет (вытесняет из сознания) свои желания в отношении матери и начинает идентифицировать себя с отцом (перенимает его черты). Этот процесс выполняет несколько функций: во‑первых, мальчик приобретает конгломерат ценностей, моральных норм, установок, моделей полоролевого поведения, обрисовывающих для него, что это значит – быть мужчиной. Во‑вторых, идентифицируясь с отцом, мальчик может удержать мать как объект любви путем замещения, поскольку теперь он обладает теми же атрибутами, которые мать видит в отце. Ещё более важным аспектом разрешения Эдипова комплекса является то, что ребенок перенимает родительские запреты и основные моральные нормы. Это подготавливает почву для развития Супер‑Эго или совести ребенка. То есть Супер‑Эго является следствием разрешения Эдипова комплекса. Взрослые мужчины с фиксацией на фаллической стадии ведут себя дерзко, они хвастливы и опрометчивы. Фаллические типы стремятся добиваться успеха (успех для них символизирует победу над представителем противоположного пола) и постоянно пытаются доказать свою мужественность и половую зрелость. Они убеждают других в том, что они «настоящие мужчины». Это так же может быть поведение по типу Дон Жуана.
КОМПЛЕКС ЭЛЕКТРЫ
К. Г. Юнг в 1913 году попытался ввести особое название для Эдипова комплекса девочек. Эта попытка оказалась неудачной, так как она подчёркивала симметрию обоих полов в установках по отношению к образам родителей, что явно противоречит клиническому опыту. Об этом Фрейд убедительно говорит в следующей фразе («О женской сексуальности», 1931): «Судьбоносное взаимодействие одновременно существующих любви к одному родителю и соперничества–ненависти к другому характерно только для мальчиков».
Версия Эдипова комплекса у девочек получила название комплекса Электры. Прообразом в данном случае выступает персонаж греческой мифологии Электра, которая уговаривает своего брата Ореста убить их мать и её любовника и таким образом отомстить за смерь отца. Как и у мальчиков, первым объектом любви у девочек является мать. Однако, когда девочка вступает в фаллическую стадию, она осознает, что у нее нет пениса, что может символизировать недостаток силы. Она обвиняет мать в том, что она родилась «дефектной». В то же время девочка стремится обладать своим отцом, завидуя, что он имеет власть и любовь матери.
Со временем девочка избавляется от комплекса Электры путем подавления тяги к отцу и идентификации с матерью. Другими словами, девочка, становясь более похожей на мать, получает символический доступ к отцу, увеличивая, таким образом, шансы когда‑нибудь выйти замуж за мужчину, похожего на отца.
У женщин фаллическая фиксация, как отмечал Фрейд, приводит к склонности флиртовать, обольщать, а также к беспорядочным половым связям, хотя они могут иногда казаться наивными и невинными в сексуальном отношении. Неразрешенные проблемы Эдипова комплекса расценивались Фрейдом как основной источник последующих невротических моделей поведения, особенно имеющих отношение к импотенции и фригидности.
ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ
В ходе становления личности от рождения к взрослости чередуются периоды с преимущественным развитием одного из процессов «взаимоотношения с миром» и «интеллекта», когда другой становится в определенной степени зависимым от первого. Так, в младенчестве от способности ребенка и его матери к открытому общению и диалогу на позитивной основе взаимной симпатии и доверия – прямо зависит сама возможность чему‑нибудь научиться. В младшем школьном возрасте – «Возрасте Познания» – действует обратная закономерность – от уровня информированности ребенка об окружающем мире и его умения этой информацией владеть – зависит характер общения с ровесниками, с взрослыми, а именно: разносторонность, интенсивность и эмоциональная насыщенность этого общения.
Начислим
+30
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе