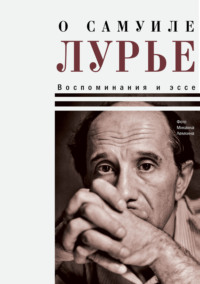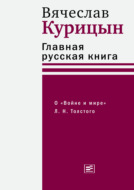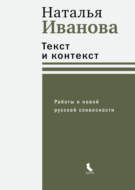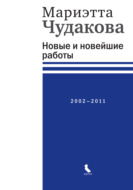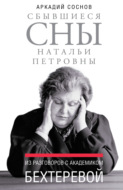Читать книгу: «О Самуиле Лурье. Воспоминания и эссе», страница 2
И снова он повторяет свое настойчивое желание отдать подписчикам предполагаемые от реализации суммы: «Предвижу Ваши возражения, – но напоминаю: я сказал: я в матпомощи не нуждаюсь, а Вы ответили: это матпомощь русской литературе. Ну что ж, литература получила свое. На случай, если это Вас не убеждает, и Вы считаете неудобным брать назад бескорыстно пожертвованные деньги, – предлагаю компромисс. Давайте сохраним эту сумму у того же Романкова – и употребим ее на издание следующей книги – Вашей, или Ларисы Щиголь, или Юрия Малецкого, или Геннадия Моисеевича – и вообще какой захотим. Так возродится форма писательского кооператива, какие бывали в 20-е годы».
«…Книжка вчера поступила в продажу и была, как следует, обмыта в редакции Звезды. Первый тост был, естественно, за Вас. Обсуждение перспектив предполагаемого фонда – ввиду некоторого опьянения присутствовавших – получилось каким-то невнятным, и конкретной резолюции пока нет. На той неделе постараюсь отправить Вам первую пару экземпляров по почте» (30 июля 2011 года).
В нескольких письмах описания мучений с отправкой книг в Германию и другие страны, где обитают подписчики. Такая выдалась осень 2011 года.
Пишет тоскливое письмо: «Заграничная корреспонденция в Пулково лежит уже несколько месяцев. Новую пока не принимают. Книжки с надписями лежат под журнальным столиком. Очень обидно». В конце письма почему-то такое добавление: «Куплен пока что один (1) экз.: покупательница – приятельница Л. Романкова». (Леонид Романков занимался подписчиками в России. Помню, что среди подписчиков была и Елена Цезаревна.)
С. Л. продолжает рассылать книжки. Какие-то нелепости. Мне совершенно непонятные. Помню, что посылала свои книжки в Нью-Йорк и другие города – два или три дня, и всё. Причем из Германии на книги какая-то льгота. Просто на упаковке пишешь, что это «книга». И всё, недорого получается для книгочеев.
Вскоре получаю вот такое письмо:
«…Сегодня ровно три недели, как книжки посланы. Вы, конечно, ничего не получили. Вот сколько времени нужно на изучение дарственных надписей. Трясусь от злости, боюсь лопнуть. Простите» (11 октября 2011 года).
До меня книжка – С. Гедройц. «Гиппоцентавр, или Опыты чтения и письма» – доходит в середине октября. Под дарственной надписью стоит: «сентябрь 2011». Текст автографа приводить не буду (не заслуживаю я такой чрезмерной благодарности). На мой адрес пришли и книжки для Геннадия Моисеевича (Борис Хазанов) и для Майи Туровской. Так договорились с С. Л. – чтобы им не ходить за посылками на почту, а у меня был бы повод встретиться с дорогими друзьями.
Постепенно все проблемы разрешились, подписчики получили книжки, любовались авторскими благодарностями, отдельные счастливцы завели дружбу с Самуилом Ароновичем Лурье. И веселую переписку! Мне кажется, ему понравилось.
Новогоднее поздравление:
«Дорогая Милочка! Горячо желаю Вам легкой жизни в наступившем году, радостей и удач. Сердечно благодарю за великодушное участие, столь скрасившее мою жизнь в году ушедшем» (2 января 2012 года).
А мне часто приходила в голову такая мысль: надо было отговорить Самуила Ароновича всем подписчикам рассылать книжки. Наблюдала, сколько нервного напряжения это ему стоило. Ведь никто не надеялся получить книжку от самого автора. Просто все хотели, чтобы она была издана. И всё. Чтобы каждый мог по почте заказать… Или в «Звезде» купить. Или просто в книжных магазинах, куда отправлял сам издатель Арсений Шмарцев. Но ведь остановить Лурье было невозможно.
«Дорогая Мила, сообщаю Вам первой приятную, хотя и пустяковую новость. Только что позвонила Иванова из “Знамени” и сказала, что Гедройцу присуждена какая-то премия “Станционный смотритель”. Это как бы отросток (для критиков) премии Белкина. Денежное наполнение – нуль, но – банкет, речь (которую надо написать), аплодисменты. Навряд ли я поеду, но неважно. Еще раз спасибо Вам. Без Вас не было бы такого приятного сюрприза. Хотя продается книжка неизвестно как, рецензий – то ли две, то ли три, деньги не собираются – и, к большому моему сожалению, мне даже пришлось полученные на сегодняшний день от продаж 22 тысячи начать тратить. (Умер Житинский – работа в журнальчике “Полдень” остановилась и моя зарплата тоже.) Смешно, как подумаешь: Вы собрали 60 тысяч рублей, чтобы я мог получить и растратить 22. Причуды бизнеса. Что Вы пишете, как поживаете, собираетесь ли в СПб? Не забывайте меня.
Ваш С. Л.» (14 февраля 2012 года).
Поясняю: С. Л. все еще намерен деньги, полученные от продаж, возвратить подписчикам. Слов нет. Убедить его, что это его авторский гонорар, что он просто заработал эти деньги, у меня не получалось. Хотя… как-то раз все-таки получилось.
Помню, был такой случай. Совершенно неожиданно приходит от моих зарубежных физиков некий взнос на издание Гедройца. А издательский процесс уже оплачен и вполне успешно идет. И вот что мне делать? Прилетаю по своим обычным делам в Питер. Встречаемся с Лурье в знакомом кафе. Вручаю ему конверт. Сколько там было долларов, не помню – сколько вложили, столько вручаю. Те, кто хорошо знают Самуила Ароновича, могут представить его реакцию. До сих пор не понимаю, как мне удалось убедить С. Л., что это его гонорар. Думаю, что тихим предложением вернуть этот взнос добрым ученым, любителям русской литературы. Отослать обратно хорошим людям, в заокеанскую страну. Вот так холодно сказать: «Спасибо, уже не надо…» Все-таки убедила.
В мае 2012 года я прилетаю в Питер. Отмечаем день рождения Самуила Ароновича, передаю ему подарки из Мюнхена. Знакомлю со своими друзьями в Питере – почти все участвовали в издании С. Гедройца. С. Л. так и сказал мне: «Ваши друзья теперь мои друзья». А уж какие драгоценные подарки получаю от него я! «Железный бульвар» и «Изломанный аршин». Прекрасные дни в родном городе, незабываемые. Счастье дружбы и любви.
В сентябре 2012 года объявлен курс лекций Самуила Лурье «Техника текста» в Музее современного искусства «Эрарта». Просвещенная общественность готовится. Задаю С. Л. вопросы, будет ли запись лекций. Отвечает: «Злополучный этот мой “курс” не предполагается никак записывать. Что, я думаю, к лучшему для моей репутации… авторское-то право – бог бы с ним. Но я немножко боюсь, что, если жизнь затянется, всякие семинары и курсы могут стать для меня единственным источником заработка. Поэтому лучше не надо фиксировать. Тем более что это… будет импровизация, и в качестве ее я абсолютно не уверен. Полагаю, что, согласившись (из присущей мне алчности), проявил излишнюю самонадеянность. Кстати: моя публичная лекция “Техника текста” (двухлетней, кажется, давности) где-то в Интернете существует. Постараюсь найти ее и прислать».
Но… очень скоро я получаю свежую запись лекций в «Эрарте» от совершенно незнакомого мне человека. Фамилию помню – Турундуков. Первая лекция. Вижу переполненный небольшой зал. Такое длинное, вытянутое помещение. Вижу своих друзей. Толпятся в проходе. Жилин Александр Александрович (Сан Саныч – тот, с кого и началась подписка на Гедройца) стоит у стеночки, Танечка его все-таки сидит. И другие – знакомые все лица. Вижу лицо Лурье – удивлен, не ожидал, переговаривается с устроителем. Устроитель разводит руками. Теперь-то у меня и книжка есть с этими лекциями. И диск – можно послушать. Но я видела первый миг – изумленное лицо Сани Лурье.
Новогоднее поздравление:
«Дорогая Милочка! Счастливого Нового года! Хотелось бы в нем повидаться. И почитать Ваши новые тексты. Но главное – будьте здоровы и веселы. При случае передайте, пожалуйста, мои наилучшие пожелания дорогому Геннадию Моисеевичу.
Ваш неизменно
С. Л.» (31 декабря 2012 года).
Начинается 2013 год. На долгие месяцы наша переписка прерывается.
Но в августе получаю вот такое письмо:
«Дорогая Мила,
я тут, было, запропал. Простите. В нашей жизни произошли неожиданные перемены. Пять недель назад на медосмотре рентген показал, что у меня затемнение в легком. Опускаю дальнейшие подробности. Меня обследовали, диагноз подтвердился, он оказался такой, что операция бесполезна, а нужна – и чем скорее, тем лучше, – химия и лучевая терапия. И доктора сказали: если у меня, как я упомянул, действительно имеется возможность провести лечение за границей, скорей-скорей. Мои дети перевернули небо и землю, – и вот мы с Элей уже 12 дней как в Калифорнии. Вот уже неделю, как мной занимаются в клинике Стэнфордского университета. Собственно, сегодня должны были начать уже химию, а за ней лучевую, – но диагноз немного осложнился, и потребовалась еще одна манипуляция. Которую произведут завтра. А лечение начнут через неделю. Вот такие дела, такая стала жизнь. Эля очень тут грустит, но вся жизнь покуда вертится вокруг меня и моих процедур. Она передает Вам привет. Пишите нам.
Ваш С. Л.» (28 августа 2013 года).
Мой ответ в тот же день:
«Дорогой Саня,
прочитала Ваше письмо и тут же позвонила Геннадию Моисеевичу – Вы уж простите меня. Просто Вы не можете не знать, как мы любим Вас. Ну и Г. М. все-таки врач. И сын Илья у него тоже врач, работает в клинике в Чикаго, специализация – пульмонология. Совсем недавно они беседовали о новых методах в медицине. Илья рассказал о больших изменениях в химиотерапевтических методах (именно в США, именно в этой области). Колоссальный прогресс. Так что – имейте в виду. Так победим! Напишите, не надо ли чего. Может быть, есть какие-то проблемы.
Последнее время все напоминало мне о Вас. И публикация в “Звезде”, и рассказ о Пантелееве на “Эхе”, и книжка последняя Гедройца, которую постоянно перелистываю (и боюсь, как бы чего-нибудь ненароком не украсть).
И замечание одной неизвестной девушки (в сети), что пора создать уже партию лурьеристов. Там, в сети, Вас читают и обожают.
Геннадий Моисеевич просит передать Вам самые нежные и добрые слова.
Пишите, пожалуйста. Эле большой привет.
Обнимаю Вас.
Ваша Мила А.»
Переписка наша возобновляется. На все мои письма приходит быстрый ответ:
«…Все у меня пока совсем неплохо. Организм переносит лечение ‹…› почти легко. Погода и еда способствуют. Пишу для “Звезды” текстик про Кармен, никак не кончить, но вот-вот. Литературных новостей совсем не знаю – и не присылают, – и опять-таки спасибо Вам за них. Расскажите, как Ваши дела и что Вы пишете. Геннадию Моисеевичу – самый горячий привет. Все его книжки я взял сюда и надеюсь перечитать» (18 сентября 2013 года).
«…Я прошел лучевую. Авось выдержу и химию (временно прекращенную из-за изменений в крови). По-прежнему весел и спокоен. Написал бы: и всем доволен, – но, во-первых, это тон писем Чернышевского из крепости, а во-вторых, я недоволен тем, что внутри все обожжено и болит, и нормально поесть – не говоря уже выпить – временно невозможно. Написал обещанный “Звезде” довольно длинный и довольно скучный (но не для меня: он меня отвлекал, развлекал, вообще поддерживал) текст про Кармен. Вот и все мои новости. Майе Туровской – большой привет. И Геннадию Моисеевичу, конечно» (27 сентября 2013 года).
«…Я прочитал книгу Дружинина. И даже написал про нее – не помню, в каком номере “Звезды”. Вроде бы в майском. Посылаю Вам весь этот блок, потому что он открывается рецензией на книгу Геннадия Моисеевича, совместную с М. Харитоновым. Вдруг Вы ее не читали. А вдруг и он не читал» (29 сентября 2013 года).
Поясняю: в письме речь идет о многолетней переписке Бориса Хазанова и Марка Харитонова. Два объемных тома «…Пиши, мой друг» (первый том: 1995–2004; второй том: 2005–2011). Вот, стоят у меня на полке. Невероятно увлекательное чтение – на все времена! Получила я такой подарок от Геннадия Моисеевича.
«…Сеансы химии то и дело откладывают из-за нехватки лейкоцитов в крови. А я и рад, потому что после этих сеансов очень кружится голова и вообще страшно падает качество жизни. Пытаюсь воспользоваться очередной передышкой и написать один текстик из истории литературы, авось получится…» (24 октября 2013 года).
«Мои новости – хорошие. Меня отпускают из больницы на целых три месяца. ‹…› Вторая хорошая новость – в Москве переиздали “Литератора Писарева”, мою старую злополучную книжку. Я тоже много думаю про Геннадия Моисеевича. Недавно прочитал его блестящий – мудрый! – цикл про историю как истерию. Мне очень хотелось бы, чтобы он (и чтобы Вы) заглянул в мой текст в 1-м номере “Звезды” – еще не вышедшем. Там есть мысли, которые тревожат меня всю жизнь, – а он, наверное, давно их отбросил. Но текст большой, чуть не два листа…» (25 декабря 2013 года).
И тут же С. Л. присылает мне текст – «Ватсон» (не удержался). На следующий день я отправляюсь к Геннадию Моисеевичу со своим легким и быстрым компьютером, читаю ему «Ватсона» (у него уже тогда были проблемы со зрением). Сидим в столовой, на столе какое-то вино, обсуждаем, я слушаю, стараюсь запомнить…
«…Очень рад, что так удачно навязал Вам этот текст. Мне и в самом деле хотелось, чтобы Вы его прочитали. И чтобы Геннадий Моисеевич – который, по крайней мере, одну из тронутых там тем понимает гораздо глубже моего, – сказал: правильно ли выбран тон. И стоило ли это делать. Нужен читатель старше и умней меня. Один такой человек остался… А “Писарев” переиздан “Временем”. Наверное, красиво. Тираж – полторы тысячи. Счастливого Рождества! Счастливого Нового года! Ваш С. Л.» (26 декабря 2013 года).
Отрывок из моего письма:
«…Г. М. просил Вам передать, что это замечательно написанная историческая повесть. И что эрудиция автора не выкачана из доступных теперь источников. “Точно, – сказала я, – просто живет в голове у человека”. А про рану на ноге Надсона он заметил, что, видимо, у несчастного был еще и костный туберкулез. Но мы еще поговорим, поговорим…» (2 января 2014 года).
Ответ на мое письмо:
«Спасибо Вам. За письмо, за все. Сами знаете, как важны такие письма. Мы же все пишем практически друг для друга… У меня эра сурка: сплю 20 часов в сутки. А когда не дают (заставляют есть или ходить) – чувствую дурноту. Как и при любом физическом и мозговом усилии… Не могу писать, не могу читать – и при этом не курю. Зачем жить – совершенно непонятно. Горячий привет и огромная благодарность Геннадию Моисеевичу…» (14 января 2014 года).
Следующее письмо получаю только в марте:
«Имею сообщить, что все у меня по-прежнему, т. е. не так плохо. Ну и что несколько пришиблен полит. новостями. Как воинственны соотечественники. Как презирают цивилизацию и с каким особым иезуитским цинизмом артикулируют чушь. Ну, да ничего. С 68 года все одно и то же, я привык и не впадаю в гнев. А были и есть еще люди, привыкшие с 56 года. Геннадий Моисеевич, думаю, – один из них. Сердечный ему привет. Будьте здоровы и не забывайте писать прозу» (13 марта 2014 года).
Почти в каждом письме спрашивает, что я пишу:
«Что Ваша новая проза? Пишется? Моя – нет, – или да, но непривычно и даже неестественно медленно. Я пошел на второй тур химиотерапии. Кончится он осенью, и после этого мы с Эльвирой надеемся, если мне не сильно поплохеет, хоть ненадолго съездить в СПб…» (20 июня 2014 года).
«Самочувствие мое сравнительно неплохое, некоторые трудности с составом крови. В этом месяце начну борьбу – с медиками, с бюрократами и домашними – за хотя бы краткую поездочку в СПб. Авось удастся – скажем, в октябре. Сердечный привет дорогому Геннадию Моисеевичу и замечательной Майе Туровской. Сколько ни сужается в течение последнего года круг близких лиц, – Мюнхен остается для меня городом практически родным. Это почти странно: так немного времени провели вместе. Ну, читали друг друга с уважением и удовольствием. Думаем про политику и про литературу примерно в одном ключе. И всё! Но как же это, оказывается, много» (7 августа 2014 года).
Поздней осенью 2014-го я прилетела в родной город. Была в редакции «Звезды». Галина Кондратенко спросила, могу ли я послать Самуилу Лурье книгу Евгения Шварца «Позвонки минувших дней» из Мюнхена. Объясняет: «Там его предисловие… Ему будет приятно». И книгу мне протягивает. С радостью соглашаюсь, знаю, что из Германии книга дойдет быстро и надежно. Не более трех дней. Возвращаюсь в Мюнхен. Пишу Лурье, все объясняю, спрашиваю его почтовый адрес. Получаю такой ответ: «Что касается Шварца, мне было бы приятно, если бы Вы посчитали эту книжку моим скромным подарком».
Очень трудно открывать и перечитывать письма 2015 года:
«…Желаю Вам всего хорошего в Новом году. Каким бы он ни оказался, должно же найтись и в нем что-нибудь хорошее… Будем на что-нибудь надеяться. Или просто любить друг друга. Нас так мало, что это легко».
«Работать – нет, не работаю, а только мечтаю: как выглядел бы текст, если бы я смог его написать. Спасибо, способность читать вернулась. Но трачу ее в основном на Салтыкова-Щедрина. Не забывайте меня. И всем, кто меня помнит, передайте, пожалуйста, мой привет».
Так что – вот: привет от Самуила Лурье всем, кто его помнит, читает и перечитывает.
Андрей Арьев. Бабочка жизнь
Среди ушедших друзей есть несколько человек, память о которых с горизонта моего сознания вряд ли исчезнет. С 7 августа 2015 года один из отчетливых на нем силуэтов – Самуила Лурье, Сани, как большинство приятелей его называли. А примкнувшие к приятелям – Сашей. Как к Самуилу, насколько помню, я к нему вообще ни разу не обратился со дня знакомства – летом 1959 года, когда мы уехали на практику в диалектологическую экспедицию и поселились вдвоем в псковской деревне Логово. Мы только что закончили первый курс филфака, и представления о жизни уже тогда были у нас расписаны литературными узорами. Почти синхронно, переиначивая Маяковского, мы резюмировали: «Вот и для нас уготовано Логово!» Оно нам понравилось. Изба с вполне бодрыми стариком и старухой стояла на околице, вместо изгороди за ней простирался склон заросшего оврага с «псковскими далями» в перспективе. Старик ловил вершей рыбу в недалеком озерце, старуха пряла свою пряжу. С хозяевами отношения сложились идеальные: мы подворовывали для них сено, они потчевали нас огурцами с медом. Тот самый набор, над которым желчно посмеивался Достоевский, прочитав «Анну Каренину»: дескать, Толстой думает, если он научился есть огурцы с медом, то народной жизни причастен. Мы, в отличие от толстовского героя, ведать не ведали, что «к сотовому меду огурцы свежие подаются». Для нас это было экзотическое лакомство, в привычное глаголание о тяжелой крестьянской доле никак не вписывающееся.
Для собирания псковского диалекта нам достаточно было необременительного общения с деревенскими. Ограничивалось оно преимущественно хозяевами избы. Куда как забавным казалось нам, к примеру, спросить, как они оценят портрет Цицерона из книжки, у нас случившейся. Ответ был выписан на словарную карточку: «Цицерон – красивый дядюга». Нужный окказионализм был добыт: словечко просилось в картотеку почтенного лексиколога Б. А. Ларина. Развлечение совмещалось с выполнением поставленной перед нами задачи… Записали мы, помнится, и такую частушку:
Летел журав и калист,
Оба сели в один лист,
Калист песенку запел,
Журав девок завопел.
На вопрос, что значит «завопел», старуха смешливо замахала руками. Но ничего не ответила. Как и старик.
Все же больше нас интересовали не частушки, а лирика Александра Блока, что́ у него, скажем, в строчках «И лживый блеск созвездий милых / Под черным шелком узнаю» довлеет себе: глаза очередной «незнакомки» или символика соответствий земного и небесного – «путь комет»? метафизика «падений»?
Вообще вся история наших с Самуилом Лурье дружеских отношений есть разговор о литературе. И Блока мы тогда знали много лучше, чем современное стихотворчество. Знание, не исчезнувшее с годами.
Из новой неподцензурной поэзии нам в то лето доставались какие-то обрывки, часто безымянные, например строчки, предположительно принятые нами за стихи Ольги Берггольц:
Небо зеленое, трава синяя,
Надпись желтая – Страна Керосиния.
В стране рацион порциона убогий –
Только бы двигались руки да ноги…
И еще несколько строчек, которые я забыл, нигде больше не встречал и не вспоминал. Только сейчас, оживляя «былое», нашел в интернете: это неавторизованный вариант начала стихотворения сокурсника Беллы Ахмадулиной по Литинституту Юрия Панкратова. Вместе с приятелем Иваном Харабаровым он отрекся от литературного крестного отца Бориса Пастернака, а потому для нас канул. В оригинале еще строк пятьдесят, да и первые висели в моей памяти не совсем точно. Вспомнились они из-за «рациона порциона»: мне этот каламбур показался претенциозным (напечатанный в самиздатском «Синтаксисе» Александра Гинзбурга, он звучит более литературно: «…рацион с порционом убоги»). Сане же, наоборот, обостряющим наше восприятие скудной действительности. Не скажу – не уверен, – кто какой тезис отстаивал. Много важнее другое: поскольку мы относились в ту пору друг к другу со всем пылом настигшей нас дружбы, заподозрить, что кто-то из нас в возникавших спорах оплошал, мы не могли. Так, не без удивления, мы открыли для себя закон: поэтический текст не имеет однозначного толкования, иметь его не может и содержит в самом себе разные уровни выражения, противоборствующие начала. Еще более важно, что речь как тайна предстала перед нами возвышенной загадкой речи поэтической.
Разумеется, подобный подход к анализу художественного текста – не наше открытие, для себя я его переоткрыл вскоре в трудах Л. С. Выготского. Важен был сам уход от прививавшейся нам в школе и, как, увы, вскоре выяснилось, на филфаке тоже одномерной оценки любого творения.
«В это лето, – написал мне Саня позже, – я научился мыслить самостоятельно».
На последнем курсе мой друг подался в семинар Д. Е. Максимова, заповедный питомник нескольких поколений блоковедов. Еще на третьем курсе написав сочинение о «Двенадцати», я тоже намеревался стать в их ряды, но курьезный случай отвратил меня от этого шага. Я никак не мог сообразить, почему Дмитрий Евгеньевич имеет привычку в заглавии Блока «Стихи о Прекрасной Даме» менять падеж и произносить вместо «Даме» – «Дамы». Да еще несколько растягивая слово. Наконец я спросил его об этом и услышал в ответ: «Вам не кажется, что мне лучше знать, как говорить?!» От такого реприманда я как-то поскучнел и в занятия семинара решил не встревать, здраво рассудив, что Блок от меня не уйдет, обойдусь печатными источниками и далекими от академической толерантности дискуссиями с тем же Саней Лурье и с нашим в ту пору общим приятелем и однокурсником Кириллом Бутыриным, также подавшимся к Максимову. Поразило меня в дальнейшем не то, что оба эти неординарно и полярно друг другу мыслившие коллеги вскоре разошлись без объяснений, но то, что и блоковедением оба не обольстились. Санино отношение к Блоку в зрелые годы решительно скатилось к неприятию личности поэта, а вместе с тем и его стихов. В начале нового века он написал «Самоучитель трагической игры», сочинение по мотивам блоковской «Клеопатры», сравнив поэта с Поприщиным. И в стихах, и в прозе он искал – и находил – отбрасываемую автором на свое творение тень. И закулисная тень Блока ему не нравилась, если не отвратила вовсе от его поэзии. Выражаясь его витиевато точным слогом по одному высокому поводу, «он не хотел верить, что смысл его жизни равняется совокупной ценности текстов, которые он успеет произвести». Конечно, не равняется. Но для всех прочих, кроме автора, его личность именно из этой «совокупной ценности» вырастает. Творец сам становится ее тенью. Иногда в ее «большой тени» делается «хорошо», как заметил другой поэт. Но тень есть тень. Без творения не существует.
«В России нужно жить долго», – заметил ценимый Саней как критик Корней Чуковский. Я бы сказал проще: «В России нужно ждать долго». Наступила пора, когда стали более или менее доступны и записные книжки Блока с «жиденком Мандельштамом», и последние его стихи «Русский бред» с «тремя жидами в автомобиле», и обескураживающий романтизм записи о гибели «Титаника»: «Жив еще океан!» Можно при желании ознакомиться и с иными его «мыслями» и «впечатлениями», теми, что до сих пор не решаются предать гласности озабоченные наследием автора «Стихов о Прекрасной Даме» блоковеды, более чем на десять лет заморозившие выпуск очередного тома его академического собрания сочинений («полного»)… И все же я продолжаю внимать стихам Блока. Его завету доверяю: не это «сокрытый двигатель его». «Угрюмство» меня трогает мало. Саня, видимо, судил иначе.
Вот разговор, то есть не разговор даже, а беглая сценка, глухой диалог, в котором имя Блока проскользнуло между нами последний раз. Поздняя осень 2011 года, мы быстро идем куда-то по Кирочной, в метельный дождь, скорее всего за выпивкой… Ситуация не для приватных бесед. И вдруг Саня как-то тихо, невзначай, спрашивает: «А сейчас тебе у Блока, если нравится, то что?» Не поворачиваясь к нему, произношу в питерскую муть: «Есть времена, есть дни, когда / Ворвется в сердце ветер снежный, / И не спасет ни голос нежный, / Ни безмятежный час труда…» Ответа не последовало. Или я не расслышал.
«Я органически не могу писать без злости», – признался он мне однажды. И в самом деле: восхваления звучат в иных его сочинениях как противоядие этому чувству. Но и то и другое пропущено через первоклассный фильтр иронии – в широком диапазоне ее воплощений: от сокрушительного сарказма до легкой усмешки. Иронии, сопряженной у Самуила Лурье с психологической изощренностью в интерпретации характеров персонажей и превращающей филологическое по своей исходной позиции исследование в оригинальную прозу. Читать ее легко, и, мне кажется, самому автору писать – при всех мучениях – было наслаждением. Нас это удовольствие захватывает независимо от содержания. Физически ощутимо, как автор, подобно дирижеру, взмахнув палочкой, выводит: «Начали! Строки пятая и шестая…» Это эссе с обещающим мало радостей заглавием: «В пустыне, на берегу тьмы». Заголовки Самуила Лурье вообще особая статья. Вот, к примеру, Чарли Чаплин приглашает нас на кошмарную экскурсию «Огни Большого Дома». Или такой разворот: «Умом – Россию?» Тютчев, как говорится, «отдыхает».
Собственно острое филологическое зрение никуда из текстов Лурье не уходит, и мне всегда было жаль, что литературоведы обходят его публикации стороной, даже очевидные текстологические открытия. Так еще в студенческую пору он сумел прочитать тысячекратно повторяемую строчку Крылова совсем иначе, чем мы ее назидательно произносим. «А ларчик просто открывался», – говорим мы, упирая на то, что открыть его труда не составляет, сделать это «просто». Чрезвычайно развитое у Сани «чувство текста» надоумило его перенести ударение на конец предложения, на слово «открывался» (то есть ящик и заперт не был). Или вот Шекспир, всем миром изученный, как теперь и Набоков в англо-русском культурном ареале. Но только Лурье заметил в «Приглашении на казнь» отклик на «Меру за меру» – «мрачную комедию» об исторических сдвигах, выводящих на сцену «шутов на ролях исполнителей приговоров».
А уж в какой перл Самуил Лурье превратил десятилетиями вынашиваемый сюжет с Николаем Полевым, далеко не всякому филологическому уму представимо. Насколько я знаю, все началось с прозаической детали, с «пустяка»: почему несчастный издатель «Московского телеграфа» завещал похоронить себя в халате?
Или вот Санин взгляд на персонажей «Капитанской дочки». Кто еще мог бы уловить в наружности Швабрина пушкинские черты: «…невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым»? И что если вообразить себе двойной портрет Швабрина и Гринева, то едва ли не откроешь в нем зашифрованную судьбу самого автора романа? Явление утратившего честь Швабрина с голосом блюстителя чести Пушкина… Это финал статьи «Ирония и судьба». Достойно Тертуллиана: «Истинно, ибо абсурдно»! Недоказуемо, дерзко, но блестяще! Хотя и «чушь» – с точки зрения громогласно откликнувшегося на изложение автором этой идеи в Доме писателя присутствующего на докладе почтенного историка литературы. Более вразумительного комментария не нашлось.
Литературоведом академического типа Самуил Лурье не стал и вряд ли мог стать: на текст он и сам смотрит в первую очередь как художник. Всякое сходство ему смешно, глядит в его интерпретации оксюмороном. И в этом своем ви́дении он солидарен с Набоковым. «Универсальное» вроде бы есть, но оно – «тень», «облако», не воспроизводимое без «единичного», без психологических сущностей, выражающих характер отдельного индивида. А потому извлекается лично, персонально. Для Сани цель сочинительства – добыть из «пустяка», когда речь идет о писателе, его «собрание сочинений».
Никакие литературоведческие методологии, никакие принятые тем или иным сообществом дискурсы Лурье не удовлетворяют, содержа в себе реальную угрозу его собственному речевому статусу. Можно поэтому считать удачей, что никто так и не выявил жанр, в котором Самуил Лурье творил. Саня называл себя «просто литератором», полагая таковым же и своего героя Писарева. Поверим этой простоте.
В глаза бросается здесь другое: тот же «трактат» «Изломанный аршин» написан с чрезвычайной интеллектуальной дерзостью, Самуилу Лурье свойственной прежде всего, если взглянуть на его тексты sub specie aeternitatis. По силе выразительности и по усвоенному методу они похожи на гоголевские «Записки сумасшедшего»: правда, вскрывающая безумие мира и на него помноженная. Нужно неимоверное напряжение мысли, чтобы так думать и так писать. Собственно, вся Санина жизнь была непрерывным процессом мышления, включающим и борьбу с разрывами сознания. При известной дискретности они имеют свою логику и последовательность. Путь от вспышки к вспышке. Если принять и уловить их код или хотя бы направление, найти связующие эту систему слова, то очнемся мы внутри глубоко художественного текста. Разрывы в нем распахивают окна в мир.
В этом мире мы с ним после университета встречались эпизодически: я уехал в Архангельск, работал там в издательстве. Саня год «по распределению» отдал сельской школе. Вернувшись из Архангельска, я застал его в должности старшего научного сотрудника Всесоюзного музея А. С. Пушкина, мне же досталась доля редактора самого, нужно сказать, одиозного отдела массово-политической литературы в «Лениздате». С ним я неблагополучно расстался довольно скоро – ровно в 50-ю годовщину Октября. Тут дорожки наши с Саней начали разбегаться, не всегда переплетаясь. К моему удивлению, мой друг оставил пушкинистику ради участия в современной литературной жизни – занял место редактора отдела прозы в журнале «Нева». Печататься Самуил Лурье начал сравнительно (со своими сверстниками) рано – в журнале «Звезда» (1964. № 4), однако в советское время публиковаться ему удавалось лишь изредка: несколько рецензий и очерков из истории литературы и живописи.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+10
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе