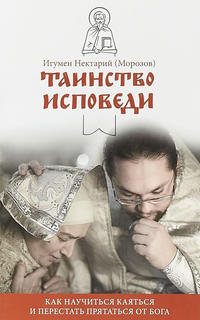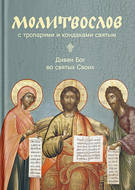Читать книгу: «Таинство Исповеди. Как научиться каяться и перестать прятаться от Бога», страница 3
Значение исповеди сегодня
Итак, было бы очень странно и, повторюсь, неестественно для нашей нынешней жизни вернуться сегодня к практике публичного покаяния. Христианских общин, какими они были в древности, сейчас нет. Может быть, и существуют исключения: где-нибудь в небольшой обители, где естественным образом вся братия знает, что тот или иной брат пал и таким образом отлучил себя от их общей жизни. Но и тут, помня о немощи современного человека, надо подумать, полезна ли ему будет исповедь перед всей общиной, выдержит он это или нет? Ведь все, что существует в Церкви, должно содействовать спасению человека, а не разрушать и не уничтожать кого бы то ни было.
Так мы, с одной стороны, знаем о древней епитимийной практике5, сопряженной с отлучением согрешившего христианина на много лет от евхаристического общения, а с другой стороны, в Апостольских посланиях встречаем свидетельство совершенно иного пастырского подхода. В своем Втором послании к Церкви Коринфа апостол Павел пишет о некоем блуднике, прежде отлученном от нее, и просит коринфских христиан вновь принять его в общение, чтобы сатана не умертвил его чрезмерной печалью (см.: 2 Кор. 2: 5-11). Ясно, что он говорит об этом не через десять или четырнадцать лет после случившегося грехопадения. Апостол посчитал достаточно краткое время довольным для покаяния, поскольку знал ситуацию изнутри и понимал, что подобное решение принесет падшему пользу.
Впоследствии от той строгой епитимийной практики, которая существовала на заре христианства, отказалась и вся Церковь, что представляется совершенно здравым и естественным. Если бы сегодня мы отлучали людей от Причастия на семь, десять, четырнадцать лет, то просто губили бы их, отсекая от жизни в Церкви фактически навсегда. Любовь же, сострадание и снисхождение (но не потакание!) к немощи современного христианина приносят свои плоды: мы видим, какие перемены постепенно происходят в людях, как совершается в них то преображение, которое без возвращения к участию в таинствах было бы невозможно.
Вместе с тем мы видим и другое: редко кто в наши дни меняется так скоро и бесповоротно, как это можно было наблюдать в древности, в жизни огромного множества святых. И сегодня сказать, что покаяние – личное дело каждого, что человек сам перед Богом согрешил и сам перед Ним покается, будет огромной ошибкой. Нам действительно нужен свидетель, нужно примирение с Церковью через таинство, дающее возможность Божественной благодати врачевать нашу немощь и восполнять недостающее. Без этого какое-либо движение вперед оказывается решительно невозможным.
Я ни в коем случае не хочу сказать, что таинство Покаяния необходимо лишь сегодня, а раньше нужды в нем не было – разумеется, это не так. Все таинства, установленные в Церкви действием Духа Святого, необходимы. Я просто обращаю внимание на то, что если в древности мы находим примеры обращения грешников от жизни беззаконной к жизни святой через внутреннее покаяние благодаря колоссальному стремлению измениться и стать другими, то для современного человека, постоянно колеблющегося, слабого, нерешительного, исповедь – фактически единственный путь к воссоединению со Христом после отпадения от Него.
Бог восполняет нашу немощь
В деле нашего спасения действует принцип синергии – взаимодействия двух воль и двух сил: Божественной и человеческой. Повторюсь вновь и вновь: мы видим, насколько сегодня стал слабее человек, насколько немощнее стала его воля и умалились силы. И мы не можем не понимать: раз в этом процессе синергии с нашей стороны сил прикладывается все меньше, то, значит, этот недостаток может восполняться лишь Богом. Современная практика таинства Исповеди и есть отражение этих перемен, происходящих в человеке и в его взаимоотношениях с Богом.
Из книги «Одна ночь в пустыне Святой Горы» мне запомнился такой эпизод. Когда расстаются автор, будущий митрополит Иерофей (Влахос)6, и его безымянный собеседник, то первый говорит: «Какая же здесь, на Святой Горе, удивительная благодать Божия!», на что собеседник возражает: «Нет, благодать Божия не меньше действует у вас, живущих посреди мира. Ведь здесь, в уединении, очень мало искушений и соблазнов, вы же окружены ими со всех сторон. Конечно, Господь в гораздо большей степени покрывает вас, помогая вам устоять». То же самое можно сказать и про таинство Исповеди: чем немощнее и слабее человек, тем больше в его жизни действует Бог.
Об этом ярчайшим образом говорится в известной притче о подвижнике, который, умирая, жалуется Богу: «Господи, почему тогда, когда мне было тяжелее всего, Ты меня совершенно оставлял? Я был предоставлен самому себе и страдание мое было нестерпимым». В ответ Господь показывает ему две цепочки следов, тянущиеся по песку: в какие-то моменты цепочка остается только одна. Видя это, подвижник говорит: «Я прав, Господи! Ты меня оставлял!» – и слышит голос Божий: «Это не твои следы, но Мои. В самые трудные моменты твоей жизни Я нес тебя на руках».
Таинство Исповеди в его нынешней форме – это одно из проявлений того, как крайняя человеческая немощь восполняется участием Божиим. Это действительно так. Порой человек приходит к аналою с крестом и Евангелием, еще до конца не понимая, что такое исповедь, не имея ясного христианского сознания, не будучи способным назвать и осознать девяносто процентов своих грехов. Приходит, потому что в какой-то очень малой степени, отчасти, понимает необходимость покаяния. Но само это покаянное движение – начальное, несовершенное, почти детское – является тем, к чему может привиться благодать. Иной раз человек после исповеди уходит совершенно другим, утешенным, и в его жизни начинают происходить перемены.
Чудо обновления души: случай из жизни
Я, наверное, уже не раз приводил этот пример, когда-то поразивший меня самого, но тем не менее приведу его снова. Это было достаточно давно – около шестнадцати лет тому назад. Я служил литургию, и в тот момент, когда к Чаше подходили причастники, последним среди них я увидел молодого человека, весь вид которого ясно говорил: он идет к Причащению безо всякой подготовки. На самом деле часто взор священника способен выхватить из череды людей, стоящих и ожидающих момента, чтобы подойти к Чаше, тех, кто не понимает, что он делает, кто решил причаститься «на всякий случай», «как все». Обычно во внешнем облике такого человека, в его взгляде, выражении лица есть что-то, что заставляет задуматься, все ли правильно, и задать ему вопрос: а вы исповедовались ли, готовились ли к Причастию? У нас на приходе, как правило, в момент причащения рядом с Чашей находится второй священник, и, если становится понятно, что подходящий к Причастию не готовился, мы его тут же «передаем» этому священнику. И тот уже либо объясняет, в чем должна состоять подготовка к Причастию, либо исповедует пришедшего, если это необходимо.
И вот к Чаше подходит молодой человек, и по его виду я понимаю, что он не просто не читал положенных молитв, не постился и не исповедовался, не просто живет какой-то не очень хорошей жизнью, – в одно мгновение мне вдруг становится ясно (не знаю, как это получилось), какая страшная у него жизнь – просто какая-то бездна! И лицо у него – словно оживший мрак.
При том, что я обычно и человека, который сложил неправильно руки на груди или у которого отсутствующий взгляд или напряженное лицо, и то на всякий случай спрошу: «А готовились ли вы?», тут я, будто мое тело и руки не принадлежат мне, спрашиваю его имя и – причащаю. Не в состоянии объяснить себе, почему я это делаю. Проходят сутки, в течение которых я постоянно вспоминаю этот эпизод и по-прежнему не могу найти причину своего неожиданного поступка. Меня это страшно беспокоит, но в то же время – нет ощущения, что я совершил ошибку. На следующий день я служу уже как требный священник7, исповедую. Вдруг ко мне на исповедь подходит тот самый молодой человек. Все мои предположения о его жизни оказались абсолютно верны: исповедь его была страшной, потому что страшной была его жизнь – это такая тьма, такой мрак, все, что с ним в жизни творилось, что он делал сам и что делали с ним! Когда он исповедовался, его жутко ломало, все его тело буквально изгибалось волнами, было ощущение, будто из него кто-то выходит. Для того, чтобы просто быть свидетелем этого, требовался огромный труд и напряжение, и я могу только отчасти догадываться, что переживал в эти мгновения он сам.
Этот юноша приходил на протяжении какого-то определенного времени, исповедовался, потом причащался, и с ним происходила совершенно поразительная вещь. Помните, как говорит преподобный Серафим Саровский8: душа христианина, который постоянно причащается, с течением времени просветляется. Но это происходит в том случае, если есть покаянное стремление к Богу; если человек не просто регулярно причащается, но и изменяется с каждым Причащением, прилагая к этому изменению свой труд. У меня было ощущение, что этого юношу на моих глазах за какое-то короткое время отстирали, очистили, смыли с него всю грязь и нечистоту: он был черным и постепенно стал светлым. Ушел тот страшный мрак. Совершенно поразительное ощущение!
Я рассказал ему впоследствии о том самом первом дне, когда он появился в храме, что я не могу объяснить, почему допустил его до Причастия, а он ответил: «А я не знаю, почему я пошел причащаться. Но я вдруг почувствовал, что обязательно должен это сделать, и если не сделаю, то у меня ничего не получится». И это Причащение дало ему силы для покаяния.
Потом он уехал – просто чтобы не находиться в этом городе, чтобы оказаться дальше от мест, напоминающих ему о его грехах.
Вот такое чудо изменения человека я видел. А сколько их происходит!
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+3
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе