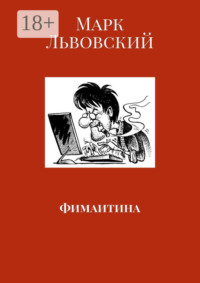Читать книгу: «Фимаитина», страница 6
– 10 —
Инна Львовна наклонилась к Липкину, что-то шепнула ему на ухо и, грозно глянув на притихших слушателей, громко приказала:
– Оставьте в покое Липкина! Можете взяться за меня!
– Инна Львовна, а как вы познакомились с Липкиным?
– Как обычно знакомятся литераторы – в Доме творчества в Малеевке. Случилось это в 1967 году. Там же познакомилась и с Василием Гроссманом. Что я знала о Липкине? Переводчик. Хороший, но бедный. Но однажды, в одной из дальних комнат Дома творчества собрались поэты почитать друг другу стихи. Вещь, вообще-то, для поэта не безопасная, ибо какой же поэт любит стихи другого? Настала очередь Липкина. И я пропала. С этого дня мы не расстаёмся. А ведь у каждого из нас была семья. Но всё, что мог подарить мне муж – скуку. А Семён Израилевич – бесконечную радость и непреходящее вдохновение. Когда он заболел, я кричала:
Возьми меня, Господи, вместо него,
А его на земле оставь!
Я – легкомысленное существо,
И Ты меня в ад отправь.
Пускай он еще поживет на земле,
Пускай попытает судьбу!
Мне легче купаться в кипящей смоле,
Чем выть на его гробу.
Молю Тебя, Господи, слезно молю!
Останови мою кровь
Хотя бы за то, что его люблю
Сильней, чем Твою любовь.
Кстати, в сем высокоморальном обществе, в котором я сейчас нахожусь, могу, не стесняясь, объявить – мы до сих пор не расписаны.
– О чём говорят в быту два выдающихся поэта?
– О стихах, милочка.
– Трудно жить рядом с выдающимся поэтом?
И тотчас ответил Семён Израилевич:
– Нет!
Все дружно рассмеялись.
– Ну, кому ещё доступно такое рыцарство? Но и я отвечу. Действительно, с Семёном Израилевичем жить легко. Он в быту на редкость неприхотлив, совершенно не капризен в еде, я никогда не слышала от него, что что-либо невкусно. Единственное, в чем Семен Израилевич неуступчив, – это в точном соблюдении распорядка дня. С девяти утра до часу он работает ежедневно. Тут он крайне педантичен. И ждёт того же от меня. Это единственная моя трудность, ибо я разболтана, недисциплинированна и вечно жду вдохновения.
– Простите, но бывает, что вы ссоритесь?
– Конечно, милочка. Я, например, не так высоко ставлю Заболоцкого, как Семён Израилевич. (Смех) Друзья мои, а не хотите ли вы знать, какие цветы любит Липкин? Каких художников? От какой еды у него случается несварение желудка? Друзья мои, я не только жена Липкина, я тоже, в некотором смысле, пишу стихи.
– Простите эту толпу, – вмешался Валерий Николаевич. – И раздавите её своими стихами!
– Инна Львовна, расскажите о себе!
– Родилась я страшно давно – в 1927 году, в Баку. Стихи начала писать, кажется, с шестимесячного возраста. Будучи в пятом классе, помогала медсёстрам ухаживать за ранеными в госпитале. Пела раненым песни.
Сердце на 118 долек
Здесь разрывалось, – девочка пела
В зале на 118 коек.
Это был госпиталь лицевых ранений, один из самых страшных, ибо раненый никогда не знал, что останется из его лица, каким оно будет:
От дальних бомб дрожали рамы.
И, красные до черноты,
Из всех бинтов сочились раны,
И я меняла те бинты…

Инна Львовна Лиснянская. 1985 год
– После школы друзья отправили мои стихи в Литинститут. Они легко прошли творческий конкурс. Но от сдачи вступительных экзаменов я отказалась.
– Почему?!
– Сдавать математику и английский, чтобы учиться по-русски писать стихи?! Но всё-таки год поучилась в Бакинском университете – заставили. Первый сборник вышел в Баку в 1957 году. В 1961 году переехала в Москву. И здесь по-настоящему ощутила на своей шее сучьи лапы цензуры. Над книгой стихов «Из первых уст» – она вышла в свет в 1961 году – надругались так, что мне и сейчас стыдно за неё. А следующая книга «Виноградный свет» вышла только в 1978 году. И не единого отклика в печати. Потом семь моих стихотворений появились в неподцензурном «Метрополе», и, конечно, разразился скандал…
И тут вмешался Семён Израилевич Липкин.
– А знаете, что сказал о стихах Инны Лиснянской Бродский? Что стихи Лиснянской – это «поэзия чрезвычайной интенсивности». Я бы добавил – и поэзия чрезвычайной виноватости. Но продолжу Бродского: «Лиснянская, может быть, точнее, чем кто иной, пишет о смерти… А это ведь одна из самых главных тем в литературе». Это точная его цитата и, на мой взгляд, верная…
– Инна Львовна, почитайте, пожалуйста…
– Конечно, почитаю…
Она вскинула глаза к потолку, что-то молитвенно прошептала, кашлянула и неожиданно сильным голосом, чуть с хрипотцой, начала читать:
Забвенья нету сладкого,
Лишь горькое в груди, —
Защиты жди от слабого,
От сильного не жди.
Такое время адово
На нынешней Руси —
Проси не у богатого,
У нищего проси.
Наглядны все прозрения,
Все истины просты, —
Не у святых прощения,
У грешников проси.
У затаивших дыхание слушателей было ощущение, что этот стих не услышан, а обрушен на них. Мгновенно почувствовав аудиторию, Инна Львовна улыбнулась и сказала:
– А вот одно из моих любимых, из книги «Виноградный свет»:
Стоит зима-тихоня,
Бесшумно снег идёт,
Но чудится погоня
Все ночи напролёт.
Берёт мой след овчарка
На длинном поводке,
И у кого-то ярко
Фонарь горит в руке.
Горит от страха темя:
Возьмут меня вот-вот!
Но на прыжок всё время
Овчарка отстаёт.
Потру глаза ладонью,
Глотну сухой снежок,
Но снова меж погоней
И мной всего прыжок.
К чему, на самом деле,
Затеяна возня?
Иль на бегу велели
Всю жизнь держать меня? —
Чтоб свет от батарейки,
Чтоб слушала в тоске
Дыхание ищейки
На длинном поводке.
– Меня заставили дать этому стихотворению название: «В ночь войны»…
Все рассмеялись.
– У меня есть теперь работа – в каждой книжке, что я дарю друзьям, зачёркивать, и как можно гуще, это политически корректное название.
– Инна Львовна, ещё, пожалуйста!
– Пожалуйста. «Переделкинское кладбище»:
День истлел. Переселилось
Слово в жёлтую звезду.
Нет, ни с кем я не простилась
У погоста на мосту.
На погосте я гостила,
Здесь – деревья и кусты,
Разномерные могилы,
Разносортные кресты —
Деревянные, простые,
С червоточинным нутром,
И железные, витые,
Крашенные серебром.
А поодаль, за оградой,
Спят, разжавши кулаки,
Ряд за рядом, ряд за рядом,
Старые большевики.
И над ними – ни осины,
Ни берёзы, ни ольхи,
Ни травиночки единой —
Лишь посмертные кручины
Да бессмертные грехи,
Да казённые надгробья,
Как сплочённые ряды.
Господи, твои ль подобья
Дождались такой беды?
– Ещё!
– Пожалуйста:
Предвидено, предсказано,
Цветком не прорасту,
Я к времени привязана,
Как к конскому хвосту.
О плоские булыжники
Крутым затылком бьюсь.
Молчат твои подвижники,
Истоптанная Русь!
Молчат твои утешники,
Лежат в сырой земле,
Кровавые подснежники
Им чудятся во мгле.
Да снится, как расплющило
Их младшую сестру, —
Лишь волосы распущены
И тлеют на ветру.
Семён Израилевич Липкин сиял.
– А вот об отце:
Мой отец – военный врач,
Грудь изранена.
Но играй ему, скрипач,
Плач Израиля!
Он, как видишь, не ловкач —
Орден к ордену,
Но играй ему, скрипач,
Не про родину.
Бредит он вторую ночь
Печью газовой,
– Не пишись еврейкой, дочь, —
Мне наказывал.
Ах, играй, скрипач, играй!
За победою
Пусть ему приснится край
Заповеданный!
За него ль он отдал жизнь
Злую, милую?
Доиграй и помолись
Над могилою.
– Инна Львовна, а вы бы уехали в Израиль?
– Липкин не пустит. У нас интересная динамика отношений с советской властью: были невыездными, стали – выталкиваемыми. Но не дождутся. Если только в кандалах.

Семён Израилевич Липкин и Инна Львовна Лиснянская. 1985 год
И снова стихи:
Но там, где возродилась быль,
Где жизнь творится наново,
Ты обо мне не плачь, Рахиль,
В жилище ханаановом!
Вросла я в почву, словно ель,
А почва многослойная.
Меня не вызволит отсель
Звезда шестиугольная.
Я в русский снег и в русский слог
Вросла – и нету выхода, —
Сама я отдалась в залог
От вдоха и до выдоха!
– А вот дочь моя, к моему ужасу, об отъезде подумывает.
– Инна Львовна, почитайте ещё!
– Напоследок. Короткое…
Пусть не на что опереться,
Но разве не чудно, скажи,
Смеяться от чистого сердца
И плакать от всей души?
Задумано всё безупречно,
И тем эта жизнь хороша,
Что счастье, как сердце, не вечно
И горем бессмертна душа.
– И в честь всех вас, я хочу завершить этот чудный вечер гениальным стихотворением Марины Цветаевой, посвящённым вам, дорогие мои:
Кто не топтал тебя – и кто не плавил,
О, купина неопалимых роз!
Единое, что на земле оставил
Незыблемого по себе Христос:
Израиль!
Приближается второе
Владычество твоё. За все гроши
Вы кровью заплатили нам: Герои! —
Предатели! – Пророки! – Торгаши!
В любом из вас, – хоть в том, что при огарке
Считает золотые в узелке —
Христос слышнее говорит, чем в Марке,
Матфее, Иоанне и Луке.
По всей земле – от края и до края —
Распятие и снятие с креста.
С последним из сынов твоих, Израиль,
Воистину мы погребём Христа!
…Это был уникальный семинар, длившийся около трёх часов. И не было обсуждения. Кому могло прийти в голову обсуждать эти стихи…
Фима вызвался проводить чету поэтов. Они медленно высвободились из своих кресел и провожаемые тихими аплодисментами, которые, казалось, не прекращались с самого начала их выступления, тихо прошествовали вдоль стены к выходу. Проходя мимо вставших им навстречу Фимы и стеснительно улыбающейся Тины, Семён Израилевич неожиданно остановился, взял Тинину руку и почтительно поцеловал. Онемевшая, раскрасневшаяся Тина беспомощно взглянула на Инну Львовну.
– Не беспокойтесь, милочка, – величественно произнесла Инна Львовна. – Он не может равнодушно пройти мимо экзальтированной, хорошенькой слушательницы. Ловелас с полувековым опытом.
– Такова участь поэта, – добродушно пробормотал Липкин.
Сопровождаемые Фимой, Липкин и Лиснянская спустились вниз, и неожиданно Инна Львовна обратилась к Фиме:
– Дорогой Ефим! Валерий Николаевич рассказал мне, что вы прекрасно обиваете двери. Я была бы чрезвычайно признательна вам, если бы вы нашли время обить входную дверь на нашей даче – уж осень близится, и по опыту прошлого, сколько бы мы не жарили нашу печурку, всё тепло вылетает через дверь. Я заплачу вам, сколько полагается, и угощу отменным обедом с водкой. Обивщик должен любить водку, не так ли?
Противостоять этому напору было бессмысленно, и Фима обещал уже в ближайшее воскресенье прибыть на поэтическую дачу. Расстались совершенными друзьями.
Фима вернулся, когда все уже одевались, оживлённо обмениваясь впечатлениями, и немедленно был схвачен Валерием Николаевичем.
– В это воскресенье, у входа в здание Курского вокзала, в восемь утра. Электричка отходит в восемь двадцать. И не таскайте с собой ничего съестного. Вы, Фима, будете работать, причём, как догадываетесь, бесплатно. Это и будет вашим весомым вкладом в воскресный обед. Вот, и договорились. И возьмите с собой «Плащаницу» и «Балладу о гене». Покажете им. Не стесняйтесь. Истина важнее сомнений.
…Фима с Тиной тихо брели к дому от автобусной остановки. Стояла спокойная, звёздная ночь начала августа. И Фима вдруг в отчаянье проговорил:
– Наверное, мне надо перестать писать стихи… Сколько можно исписать страниц о Катастрофе! Сколько сочинить стихов! И вдруг:
Бредит он вторую ночь
Печью газовой.
Не пишись еврейкой, дочь, —
– Мне наказывал.
И голова кружится…
– Как это, перестанешь писать стихи?! Ты с ума сошёл! Ни в коем случае! Что делать, если каждому Бог дал своё? Даже Липкин жалуется. Помнишь?
О, если бы строки четыре
Я в завершительные дни
Так написал, чтоб в страшном мире
Молитвой сделались они…
Я больше тебе скажу – покажи стихи Лиснянской. В это воскресенье.
– И Валерий Николаевич о том же… Страшно… Хотя много думал об этом. А почему не Липкину?
– Инна Львовна – женщина. А он, мне кажется, так рубануть может! Она добрее.
– Мне не доброта их нужна, а мнение. А получу несколько неискренних комплиментов в знак благодарности за обитую дверь. Ах, чёрт, но как мне неловко! Уже сейчас неловко!
– Скажи, тебя не поразило, что Инна Львовна закончила вечер потрясающим стихотворением Цветаевой?
– Нет, не поразило… Это было её обращение к богу поэзии. Но обращение не простого смертного, а приближённого к этому богу…
– Фимка, ты обратил внимание, какая это великая штука – «отказ»? Где и когда мы могли бы общаться с такими людьми? Великими людьми! За одно это надо низко кланяться чекистам. Сам Липкин поцеловал мне руку!
– 11 —
Фима выглядел великолепно: в потёртых джинсах, в выстиранной и отглаженной рабочей рубахе; на плечах – рюкзак, набитый двумя килограммами ваты, двумя метрами тёмно-вишнёвого дерматина, укатанного в согнутый пополам рулон, и количеством обивочных гвоздей, достаточных на обивку двух дверей. В правой руке Фима держал увесистую сумку с инструментами – электродрель, разнообразные свёрла, молоток, отвёртки, кусачки, пассатижи, «фомка» для особо упрямых дверей, дверной глазок и ещё много чего на всякий случай, а также новый врезной замок, годный для двери, открывающейся как вовнутрь, так и наружу. В заднем брючном кармане лежали два его стихотворения…
Валерий Николаевич, увидев упакованного Фиму, уважительно произнёс:
– Люблю профессионалов.
Колёса с точностью метронома отсчитывали каждый рельсовый стык, за окнами электрички, покачиваясь, проплывало ровное, зелёное, безмолвное Подмосковье, иногда нарушаемое видами то маленького городка, то деревеньки, то крошечного заводика. Нина и Тина, усевшись друг против друга около окна, весело щебетали, изредка поглядывая на мужей, а те были, как и полагается мужам, погружены в думы: Валерий Николаевич – о предстоящем ему визите в милицию, другими словами, для беседы с гебешником, казалось, никаким, из ряда вон выходящим поступком не спровоцированным; Фима – о порученном ему новоиспечённым симпозиумом под пышным названием «Отказ в выезде из страны по режимным соображениям» фельетоне о чём-нибудь эдаком. Очень скоро выяснилось, что думы обоих ни во что цельное и законченное не складывались, и Фима, угадав перемену в настроении Валерия Николаевича, спросил:
– Валерий Николаевич, а существуют ли гены, характерные только для одной национальности?
Женщины тотчас умолкли и красиво уставились на Валерия Николаевича. Поняв, что аудитория готова, он, по привычке запустив ладонь с растопыренными пальцами в лёгкие, непокорные свои волосы, заговорил.
– Я так понимаю, что уважаемого обивщика дверей интересует конкретный вопрос – существует ли еврейский ген? Не знаю. Мне трудно следить из-за «железного занавеса» за всем, что происходит в современной генетике. Но вот, что мне известно доподлинно. Во-первых, что, безотносительно генетических исследований, на основе только анализа исторических, лингвистических и иных факторов независимо мыслящие учёные пришли к выводу о принадлежности еврейского племени времен Авраама к народу, сформировавшемуся в результате исторического развития слившихся племен аккадцев и шумеров. Интересно, что после ассирийского пленения насильно угнанных евреев расселили в местах обитания их древних сородичей: в окрестностях родного города отца Авраама – Харана, а также в районе города Нипур, не случайно называвшегося Хабур, от слова «хибру».
Недавно я узнал, что учеными Тель-Авивского университета было доказано, что и генетика восточных евреев, живущих в Израиле, идентична генетике коренного населения шумерско-аккадского симбиоза, расположенного на территории древней Месопотамии. Генетическая близость этих евреев с коренным населением шумеров и аккадов, подтверждает, что еврейский этнос является наследником шумерско-аккадской или, как её иногда называют, шумеро-хурритской общности. Шумеро-хурритов иногда называют народом «черноголовых». Так что, белобрысые мои Фима и Тиночка, ваше еврейство ещё надо долго и нудно доказывать. А моё уж и не доказать вовсе.
Поехали дальше. Американцами, израильтянами, канадцами и англичанами, которые, исследовали генетику многих сотен людей, носящих фамилии Кан, Кон, Коэн, Каган, Коган и так далее, установили, что у всех у них существует специфический набор генов, так называемый, гаплотип, указывающий на наличие у них общего предка, существовавшего примерно 3,5 тысяч лет назад. Этим самым, учитывая, что исход евреев из Египта относится именно к этому периоду, фактически подтвержден библейский рассказ, согласно которому род священников – Коэнов, принадлежащих колену Левия, действительно ведет свое происхождение от брата Моисея Аарона. При этом немаловажно, что подобное сохранение генетики, то есть, «чистоты крови» в течение столь длительного периода, было возможным лишь благодаря тому, что именно для потомков Аарона, предназначенных быть священнослужителями, были установлены строгие ограничения на браки, и, тем самым, исключалась метисизация. Чёрт возьми – безумно интересное дело! Я ещё дорвусь до него.
– Валерий Николаевич, но ведь левиты – потомки Якова, а у того было 12 сыновей, и, значит, у всех двенадцати колен должен быть этот самый гаплотип, пусть даже в малом количестве?
– Должен быть, но, увы, убедительно это не доказано. Виноваты в этом мутации, да и трахались – пардон, дамы, – ваши предки, кроме, видимо, коэнов, с таким количеством малых и больших народов, что их потомки почти растеряли свой гаплотип. А сколько было прозелитов! Но есть учёные, в основном, еврейского происхождения, утверждающие, что гаплотип Коэнов в несколько урезанном виде присущ основной массе евреев, и в таком виде его даже называют «гаплотипом исраэлитов». Подтверждением этому генетическому доказательству, – хотя я бы не назвал это доказательством из-за невысокого уровня статистики исследований и неясной научной аргументации, – является этнокультурная идентичность, то есть, сохранение языка и традиций, чего не скажешь о подавляющем большинстве современных народов.
Остаётся неясным, есть ли общие корни у семитов и арабов? По этому поводу можно сказать, что многие авторы попадают под влияние ошибочного толкования библейского рассказа о внебрачном сыне Авраама от служанки Агари Исмаиле, как о родоначальнике арабов. Исмаил – сын еврея и египтянки, женившийся на египтянке, никак не мог быть родоначальником арабов, которые – и это хорошо доказано – являются потомками южных семитов, обитавших в Аравии за несколько тысячелетий до появления на свет Исмаила. Так что, нехрена вас и арабов называть двоюродными братьями. Интересно, что египтяне, согласно библейской традиции, считаются потомками сына Ноя – Хама, то есть, хамитами. А в «арабов» коренные египтяне (как и многие другие народы) начали превращаться лишь после захвата их территории последователями Мухаммеда и насильственной исламизации. Завершился этот процесс, когда коренное население вместо родного коптского языка полностью перешло на арабский. Вот так-то, дорогие мои…
И в это время раздалось энергичное: «Следующая остановка – станция Ильинская».
Станция как станция. Прошли небольшой базар, несколько непонятного назначения уродливых зданий и вышли на дорогу, вонзившуюся в березняк. От свежего воздуха приятно покачивало, от резкого летнего запаха трав выступали слёзы. Уверенно шагавший впереди Валерий Николаевич, полководческим жестом показал рукой влево, ещё несколько сот метров по лесной тропинке, и путешественники вышли к аккуратному дачному посёлку, сплошь застроенному одноэтажными домиками, с прилегающими к ним, крошечными участками земли, окружёнными разноцветными, невысокими заборами. В самой середине очаровательного посёлка находилась дача Липкина и Лиснянской. Калитка оказалась отворённой, дорожка от калитки к домику была выложена продавленным во многих местах, кирпичом, садик около дома зарос симпатичным бурьяном, со всех сторон окружившим четыре молодые берёзки и раскидистую яблоню, под которой было отвоёвано место для крошечного столика и двух окружавших его скамеек.
Слегка надавленная Валерием Николаевичем, кнопка дверного звонка сначала ничего не изменила в окружающей тишине, но, надавленная сильнее, вызвала такой звон, что с берёз в воздух массово взмыли прежде не замеченные, погружённые в дремоту ленивые птицы.
Едва Инна Львовна, хорошо повозившись с замком, открыла дверь, и едва гости ступили в неожиданно просторные сени, как началась суета.
– Чаю? Кофе? Что-нибудь перекусить? Но рабочему человеку надо перекусить! Не надо? Впрочем, на голодный желудок даже стихи пишутся легче.
– Прошу вас, – взмолился Фима, – оставьте меня одного! Погуляйте! Всего один час! А вас, Семён Израилевич, я прошу подойти к двери – мне нужно установить, на какой высоте врезать глазок.
– А зачем нам глазок? – искренне удивился Липкин.
– Чтобы знать, кто хочет войти к вам. Или у вас здесь все сплошные друзья? А, не дай бог, вор?
– Хотел бы я знать, что у нас можно своровать. Но если нужен глазок, я не против.
Семён Израилевич подошёл к двери, встал на цыпочки.
– Отмечайте!
– А зачем вы встали на цыпочки? – спросил Фима.
– Я всегда думал, что если подглядывать, то надо становится на цыпочки. Инстинкт, знаете ли. Да и некоторая коррекция моего роста…
Фима подошёл к двери, отметил карандашом точку врезки глазка, потом, озабоченно поцокав языком, подёргал дверь, потом изучил щели между дверью и дверной коробкой, потом очертил карандашом границы обивки, потом раскрыл дверь настежь – она открывалась наружу – и одним ловким и сильным движением попытался приподнять её. Проблем не было – дверь приподнялась, затем снова, словно игрушка в Фиминых руках, села на место. Все остальные, потрясённые, умолкли.
– Я посадил её на место, ибо, прежде всего, я сменю вам замок.
– Какое счастье! – воскликнула Инна Львовна. – Я один за другим ломаю себе пальцы, пытаясь открыть этот кошмарный механизм.
– Дверь, естественно, буду обивать изнутри…
– А почему и для нас это должно быть естественно? – спросила Инна Львовна.
– Потому что обивка внутренней стороны двери, открывающейся наружу, и более эффективна, чем наружная обивка, и, кроме того, обитая дверь не будет сверкать бардовым дерматином на всё Ильинское.
– Вот этого точно не нужно, – сказал Липкин. – Но, с другой стороны, дерматин наружу может стать замечательной рекламой для вас. И вы быстро разбогатеете.
– Семён Израилевич, если здесь запахнет обивкой, сюда примчатся сотни обивщиков и растопчут меня, как таракашку.
– Всё, – провозгласил Валерий Николаевич, – дайте человеку работать! Мы идём гулять!
– Чуть не забыла, – сказала Инна Львовна. – «Боржоми», водка, солёные огурцы и колбаса находятся в холодильнике, на кухне. Но помните – вас ждёт роскошный обед! Счастливого вам, Фима, творчества!
Тина на мгновенье задержалась.
– Фима, – прошептала Тина, – сделай эту дверь так, чтобы она стала поэмой!
Чмокнула мужа и бросилась догонять весёлую компанию.
Едва они скрылись из глаз, Фима осторожно проник из сеней сначала в небольшую кухню и увидел немало удививший его, идеальный в ней порядок. Поэты представлялись ему людьми, у которых всё всегда разбросано. Из кухни дверь вела в ничем не примечательный салон, откуда Фима с трепетом ступил в кабинет. Чёрт возьми, и здесь был порядок! Всю левую стену занимал книжный шкаф, за стеклянными дверцами которого стояли книги и во множестве папки. На письменном столе – настольная лампа, новая пишущая машинка, аккуратная стопка писчей бумаги и несколько рукописных листов. А на правой стене – увеличенная, без рамы, копия известной фотографии Мандельштама, сделанная в тридцатые годы.
Из кабинета приоткрытая дверь вела в спальню, была видна спинка кровати. И Фиме вдруг стало стыдно, – как будто подглядывал чужую жизнь, – и он выскочил из кабинета. Не давала покоя только мысль – а где же творит Инна Львовна? Или по очереди? И, не найдя ответа, начал вставлять замок.
С замком Фиме просто повезло – принесённый им был почти копией старого, и через полчаса ключ, с чмоканьем грудного ребёнка, легко и радостно открывал и закрывал благодарную дверь…
И Фима приступил к обивке.
Закончив работу, распрямил спину, чтобы полюбоваться содеянным, и услышал знакомый, чуть картавый, шамкающий голос:
– Ловко, ловко. Простите, самоучка?
Фима повернулся на голос и увидел стоящего на веранде высокого, улыбающегося Григория Горина.
– Нет, профессионал.
– Давайте знакомиться: меня зовут… Чему вы улыбаетесь – знаете без меня, как меня зовут? А вас?
– Ефим.
– А где, позвольте узнать, хозяева?
– Гуляют.
– Белые люди гуляют, остальные – работают…
– Ошибаетесь, я тоже белый. И это вовсе не работа, а дружеская, от всего сердца услуга выдающимся поэтам. А вам не нужно обить дверь?
– Нет, я уже обит. Передайте привет Семёну Израилевичу и его драгоценной супруге и скажите, что я загляну попозже. Прощайте!
И не дожидаясь ответа Фимы, повернулся и быстро пошёл восвояси.
И скоро, послушный Фиминым рукам, плотный, но тягучий, скованный по краям блестящим гвоздями с широкой, затейливой шляпкой, дерматин навечно накрыл собою дверь, превратив когда-то тощую, обшарпанную доску в пышнотелую красавицу тёмно-вишнёвого цвета.
Чуть отдохнув, Фима повесил яркую дверь, отошёл от неё на три шага и в небольшом внутреннем монологе похвалил себя.
Аккуратно собрал инструменты, сунул сумку в опустевший рюкзак, нашёл метлу, савок, подмёл, вынес мусор и высыпал его в стоящий около веранды мусорный бак. Сел на крыльцо и стал сочинять заказанный ему фельетон для симпозиума.
Идея симпозиума возникла в умах старых «отказников» совсем недавно. Этому способствовало неуёмное желание громко и отчётливо выказаться о главной проблеме «отказа», высказаться не лозунгами, не слёзной просьбой «отпусти народ наш», но точно, документально, профессионально.
– Почему мне поручили писать фельетон, а не серьёзную заметку? Почему никто не думает обо мне, как о мыслителе? Сам виноват, ибо двенадцать лет отказа только и делал, что сочинял шутливые стишки в честь дней рождения великих «отказников» и их великих жён, возвращения их из тюрем и ссылок, их семейных юбилеев, свадеб их отпрысков, проводов их в Израиль, а также в честь сионистских сборищ на квартирах, на природе и так далее, и так далее…
И о чём же будет фельетон? Ага, например, так. Рабинович, младший научный сотрудник «Почтового ящика», изобретает автомат, могущий стрелять вбок, допустим, в правый. Правда, автомат не очень совершенный, требующий немалой доработки. А потом этот Рабинович подаёт документы на выезд в Израиль. И несколько лет не дёргается, вполне согласный с полученным «отказом». А через пять лет узнаёт, что и американцы придумали автомат, тоже стреляющий вбок, но в левый. Заметка в газете «Правда» гласила, что это «античеловеческое оружие создано в стране загнивающего империализма для борьбы со свободолюбивыми народами». И сопровождалась рисунком, где злобный, крючконосый «дядя Сэм», спрятавшийся за стену, стреляет в проходящего слева от него, измождённого негритянского мальчика. Рабинович мчится в ОВиР.
– Вот, – кричит, – никакой это не секрет, все теперь будут стрелять из такого автомата!
А ему отвечают:
– Дурак ты, Рабинович! Если раньше тебя нельзя было отпускать, чтобы ты не разболтал секрета о своём кривом автомате, то теперь тебя нельзя отпускать, чтобы ты не разболтал, что и у нас есть кривой автомат, но – хреновый. Твой автомат больше убил целившихся из него, чем тех, в кого целились. И что же, ты приедешь в Израиль и с радостью расскажешь всем империалистам, каким мы говном пользуемся? Марш обратно в «отказ»!
Прошло ещё десять лет, и Рабинович узнаёт из газеты «Правда», что в «нашей стране изобретён автомат, стреляющий вбок – и в левый, и в правый – для борьбы с посягающим на наш мирный труд империализмом». Заметка заканчивалась словами: «Все на борьбу за мир!». И Рабиновича, уже старого, седого и нездорового, вызывают в ОВиР и говорят: «Езжай, Рабинович. Ты теперь и на хрен никому не нужен. И чтоб через десять дней духу твоего здесь не было!» Ох, и врежут мне чекисты за такой фельетон…
И вдруг Фиму охватило давно не посещавшее его чувство радости, такой отчаянной радости, что петь захотелось. Ему стало совершенно ясно, что и появление Горбачёва, и освобождение из тюрьмы Толи Щаранского, и ещё, пока тихо произносимое слово «перестройка», и беременность жены, и намечавшийся «Симпозиум по «отказу», и счастливое знакомство с поэтами – это начало новой жизни, жирная черта под «отказом». Выпустят… Ну, конечно, выпустят… И явным подтверждением этой мысли стало появление медленно двигающихся, оживлённо жестикулирующих хозяев и гостей маленькой усадьбы в дачном посёлке подмосковной станции Ильинская.
И вместе с хлынувшей, до слёз разобравшей его радостью, там, в глубине живота, словно ножом полоснуло: навсегда расстаться с этим зелёным раем, с поэтами, с Валерием Николаевичем и Ниной, с семинарами…
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе