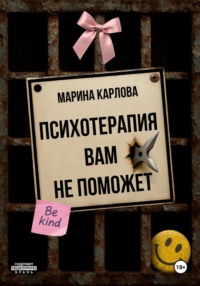Читать книгу: «Психотерапия вам не поможет», страница 2
Субъект не доказывает, что он прав, и не требует признания. Он не участвует в чужом фрейме. Он не спорит, потому что не принимает правила игры, в которой должен что-то объяснять. Он не оправдывается, потому что не считает себя объектом оценки. Он не играет роль хорошего, ранимого, "прорабатывающегося". Он отказывается быть материалом для чьей-либо работы.
Субъектность – не психотип и не характер. Это точка сборки, где перестаёшь соотносить себя с внешней перспективой. Это момент, в котором ты прекращаешь допускать, что кто-то вообще вправе оценивать твоё существование, твои слова, твои действия. Именно в этот момент возникает фраза, которая не требует защиты или объяснения: "Я не считаю себя объектом вашей оценки." Это не отказ от диалога, а отказ от архитектуры, в которой ты изначально размещён на шкале чьих-то представлений о норме, адекватности или праве на голос.
С этого момента вся структура власти – и в терапии, и в семье, и в обществе – теряет устойчивость. Потому что она держится на том, что ты соглашаешься участвовать. Ты соглашаешься быть увиденным, понятным, принятым.
Субъект не соглашается. Он существует независимо от реакции на него.
Субъектность невозможна как постепенное становление. Она не возникает в результате проработки: это – точка разрыва. Осознание, что всё, что ты пытался выстроить – "хорошие отношения", "безопасную коммуникацию", "доверие" – было построено на изначальной ошибке: ты позволил, чтобы тебя рассматривали как объект. И сам это поддерживал.
Субъект не побеждает в системе. Он выходит из неё. Не за счёт силы, а за счёт способности видеть архитектуру и отказываться в ней участвовать.
Про мечты
1 февраля, 2012
Местонахождение: BsAs
Музыка: Invisible Star – Marina Karlova
Результаты недавнего опроса на тему детских мечт меня, надо сказать, несколько разочаровали. То-ли вы не колетесь, то-ли правда никто ни о чем особенном в детстве не мечтал…
Как насчет стать космонавтом, художником, писателем, актером, балериной? Ну или там, например, археологом, или кладоискателем, или Робинзоном Крузо на необитаемом острове? Или стать ученым и скрестить кошку с баобабом? Изобрести волшебную палочку, поработить вселенную, уничтожить человечество, на худой конец? А?
Я вот мечтала быть моряком, и еще играть музыку собственного сочинения. В какой-то короткий период времени мечтала быть балериной, но не потому, что мне шибко уж нравился балет, а просто у них такие прикольные пачки и тапочки. Было, конечно, и другое – чтоб лето никогда не кончалось, чтоб не надо было рано вставать, и собственный двухкассетный магнитофон. Еще мечтала о сотовом телефоне, но это уже в школе :) – когда о них еще никто и не слышал. Еду, бывало, в автобусе, и думаю – "Эх, вот стоять бы щас и болтать по телефону, вот бы все охуели!.."
Кстати, к последнему: в детстве у меня почему-то было много разных фантазий, оканчивавшихся именно этой фразой. Например:
В детском саду – "Вот бы щас прийти в садик с магнитофоном, вот бы все охуели!.."
Или в школе – "Вот бы приехать в школу на спорткаре, вот бы все охуели!.."
На физкультуре – "Вот бы щас на лошади мимо галопом, пока все тут корячатся, вот бы все охуели!.."
Во взрослой жизни постепенно стало понятно, что для того, чтобы все охуели, чаще всего вообще не надо ничего делать. Они сами, причем иногда просто с раздражающей частотой. :)
Весьма популярная фантазия (и у меня в том числе) – это "А вот бы помереть, чтобы вы все поняли, как вы были неправы". Причины такой фантазии вполне объяснимы и понятны, не от радостной жизни она, конечно.
Вообще, из всех мечт для меня наибольший интерес представляют мечты не потребительские, а созидательские, или как это по-русски. Активные. "Хочу компьютер" – это первый вариант, а, например, "хочу быть психиатром" – это второй.
***
У тебя ужасный характер!
Обвинение в «ужасном характере» никогда не относится к характеру как к внутренней целостности. Это не попытка описать человека, его тип реагирования или внутренние мотивации. Это форма отчуждения. Когда говорят «у тебя ужасный характер», на самом деле имеют в виду: «ты не укладываешься в мои ожидания». Это не суждение о тебе, это реакция на твою несгибаемость, неуправляемость, эмоциональную точность, прямоту, отказ молчать, когда молчание считается правилом хорошего тона. Этот ярлык возникает не из наблюдения, а из столкновения. Его произносят не тогда, когда ты проявляешь реальное зло, а когда ты перестаёшь быть удобным. Ты становишься «ужасным» именно в момент, когда отказываешься выполнять предписанную роль.
Именно поэтому этот диагноз никогда не уточняется. Он всегда звучит как общая формулировка, без конкретики: не «ты солгал», не «ты ударил», не «ты разрушил чьё-то доверие» – а просто «с тобой невозможно». Вся тяжесть, вся конфликтность, вся невозможность коммуникации в этом высказывании приписывается тебе, как будто ты – единственный источник сбоя, а все остальные присутствующие, включая саму систему, чисты, легки и непричастны. Такая формулировка создаёт не диалог, а архитектуру виновности: ты – носитель неисправности, а значит, всё, что ты скажешь в свою защиту, только подтвердит диагноз.
На самом деле, подобные конструкции – не описание поведения, а механизм социальной изоляции. Когда кто-то выходит за пределы привычного, он становится угрозой: не в смысле опасности, а в смысле непредсказуемости. А всё, что не вписывается в схему – дискредитируется. Это и есть логика системы: она не умеет взаимодействовать с тем, что не поддаётся нормализации, и поэтому стремится либо подчинить, либо выдавить. Именно так формируется эффект «ужасного» – не как отражение внутреннего ада, а как следствие того, что ты сохранил способность быть живым в среде, которая воспринимает живое как нарушение порядка.
Фраза «у тебя ужасный характер» может быть произнесена кем угодно: родителем, учителем, партнёром, даже психотерапевтом. В каждом из этих случаев она будет значить одно и то же: ты вышел за пределы допустимого шаблона, и твоя инаковость теперь должна быть осуждена. Это не столько субъективное мнение, сколько реплика системы, озвученная через конкретного человека. Тебя не характеризуют – тебя локализуют. Ты обозначен как участок сопротивления, а значит, подлежишь либо коррекции, либо исключению. В этом смысле язык психологии, говорящий о «коррекции характера», ничем не отличается от авторитарной педагогики или бытовой эмоциональной манипуляции. Всё это – формы обезвреживания того, что не поддаётся управлению.
Объявляя человека «трудным», «сложным», «маргинальным», среда снимает с себя необходимость адаптироваться, слышать, меняться, расширять пределы допустимого. Диагноз становится удобной формой отказа от роста. Вместо того чтобы признать: «я не справляюсь с этой интенсивностью», или: «я не умею выдерживать остроту чужого сознания», произносится: «с тобой что-то не так». Это – проекция. Маскировка ограниченности под обличием объективного заключения. Более того, сам формат такой речи стирает возможность обсуждения. После «ужасный» разговора больше не будет. Потому что ты уже обозначен как проблема.
Особенно ярко это проявляется в семьях, где дети с раннего возраста получают такие характеристики: «упрямый», «невыносимый», «конфликтный», «вечно всё портит». Это не наблюдение за темпераментом – это ответ на то, что ребёнок сохраняет автономию в среде, где от него требуется функциональное подчинение. Отказ сдаться трактуется как дефект. Сопротивление – как невоспитанность. Воля – как патология. И чем живее ребёнок, тем больше вероятность, что он услышит: «у тебя ужасный характер». И чем чаще он это слышит, тем выше вероятность, что он сам начнёт это повторять – сначала внутренне, потом вслух, потом в терапевтическом кабинете, где этот же ярлык может быть закреплён уже в более респектабельной форме: «у вас выраженные черты…», «у вас низкий уровень эмоциональной регуляции», «вы слишком чувствительны».
Все эти формулы – производные одного и того же механизма: системы, которая не может признать существование субъекта без попытки его классифицировать, контролировать или устранить. И если ты слышал такие фразы в свой адрес – не важно, в какой форме – это не про то, что с тобой действительно «что-то не так». Это значит, что ты отказался быть удобным объектом. Это значит, что твоя целостность не смогла быть интегрирована в среду, построенную на подавлении. Это значит, что ты выжил, сохранив свою внутреннюю ось, в пространстве, где от всех ожидалось подчинение системе.
Характер – это не продукт корректировки. Это не то, что можно «исправить», не разрушив вместе с ним личность. Характер – это совокупность твоей воли, твоей реакции, твоих принципов, твоего темперамента и всех тех особенностей, которые не должны подгоняться под чужую переносимость. И если тебя называют ужасным – возможно, это просто доказательство того, что ты остался собой.
Субъект как несовместимость с интерпретацией
Субъектность – не просто ощущение автономии и не черта характера. Это структурная несовместимость с той моделью реальности, в которой всё подлежит оценке, интерпретации и управлению. Объект можно анализировать, объяснять, моделировать. Его можно сводить к функциям, реакциям, отклонениям от нормы. Вся система работает с объектами – даже когда утверждает обратное. Психотерапия обещает признание субъекта, но использует интерпретацию как основной инструмент, а значит, встраивает человека обратно в объектную матрицу. Субъект не может быть понят, потому что он не предназначен для понимания. Он не существует как задача для анализа. Он просто есть.
Субъект – это структура, которая не отражается. Он не поддаётся обратной связи, потому что не запрашивает её. Он не нуждается в корректировке, потому что не существует как ошибка. Он не может быть понятым, потому что любая попытка объяснить его – уже редукция. Он не просит признания, не требует валидации, не настаивает на том, чтобы его восприняли “правильно”. Он – не результат внешнего чтения, а источник сигнала, который не может быть отредактирован без разрушения структуры.
Поэтому субъектность воспринимается как угроза. Не потому, что она агрессивна, а потому что она не входит в чужие схемы. Она не даёт точку опоры для манипуляции, не формирует предсказуемую реакцию, не позволяет встроить себя в формат “нормальности”. Субъект не может быть интегрирован – только уничтожен или вытеснен. В системе, основанной на иерархии, контроле и идентификации, субъект – это глюк. Его невозможно отследить, классифицировать, оптимизировать. Он выходит за пределы интерпретируемого, а значит, становится невыносимым для конструкции.
Сказать “я не объект вашей оценки” – это не жест самоутверждения. Это отказ участвовать в структуре, где оценка – форма контроля. Субъект не требует одобрения, потому что он не участвует в торге. Он не просит быть понятым, потому что его смысл не сводим к интерпретации. Он не адаптируется, потому что не играет в игру. Это не акт сопротивления. Это принципиальная несовместимость с системой, в которой смысл должен быть описан, проверен и признан. Субъект не нуждается в описании. Он существует, и этого достаточно.
Как я вылезла из творческого кризиса
15 августа, 2010
Местонахождение: Manta
Тут такое дело… Наверное, кто-то заметил, кто-то нет, но что касается дизайна, то последние несколько лет я сидела в затянувшемся, мрачном, тяжелом, сером и унылом творческом кризисе.
Все началось примерно после того, как я наполучала кучу наград на всяких разных профильных конкурсах. Золотой Сайт, РОТОР, шорт-лист ADCR… Последней каплей было вожделенное Золотое Яблоко ММФР, которое я в принципе всегда считала несбыточной голубой мечтой. После этого дизайн из радости и удовольствия превратился в тяжелый и изнурительный труд, заниматься которым приходилось, скорее, вынужденно, потому что нужно же было что-то кушать, а найти работу дворника было сущей фантастикой из-за жесточайшей конкуренции.
Только сейчас мне становится понятно, что произошло тогда. Мне показалось, что я достигла своего "потолка" в профессии, и свой Самый Лучший Сайт я уже нарисовала (foxie.ru), а следовательно дальше расти некуда, оставалось работать себе тихонько на своем уровне, и попытаться получать удовольствие.
Но что-то умерло. Я с трудом разбираюсь во всяких научных штуках про мотивацию и прочее, но деньги оказались слабым мотиватором, а пытаться расти больше не хотелось, возможно из-за страха "не оправдать" все свои гордые регалии, если вдруг последующие работы окажутся не столь "гениальными". Само по себе это обычное дело, но в башке у меня однозначно произошел какой-то коллапс, вследствие чего я как дизайнер просто заморозилась на 4 или 5 лет, продолжая при этом как-то работать (иногда даже вполне хорошо), но безо всякого вдохновения, без радости, без удовольствия и без постоянного стремления к новым и лучшим результатам.
Еще меня все раздражало. Меня бесило, что появилось огромное количество свежевылупившихся дизайнеров и "дизайнеров", которые за несколько месяцев схватывают всё, чему нам в свое время приходилось учиться годами. Мы не были тупее, нам просто не хватало информации. Если бы нам в 1998 году кто-то дал то количество ресурсов и информации в сети, которое можно там найти сейчас, включая все эти горы книг, мы бы, наверное, лопнули бы от счастья. По какой-то неизвестной мне причине я отказалась от гонки с "молодежью" и опустила руки, в знак протеста игнорируя все смэшинг магазины, дизайнмаги, хабрахабры и прочие околодизайнерские ресурсы, таким образом оставшись вариться полностью в собственном соку, который на самом деле давно уже весь вышел.
Несколько лет я продолжала снова и снова спрашивать себя, зачем мне продолжать заниматься дизайном, кроме как из чисто практических соображений. Более того, у меня постепенно пропала какая-никакая уверенность, что я хоть что-нибудь в нем понимаю. В принципе, это в некотором роде соответствовало действительности: за это время появился веб 2.0 и прочие CSS3, но меня все это тоже раздражало. Я сидела и брюзжала, как старая вонючая бабка, что все эти новомодные штучки точно так же когда-нибудь устареют и превратятся в никому не нужный хлам, как когда-то это произошло с "хай-теками" и прочими "гранжами" начала 2000-х (и это тоже недалеко от истины). Я просто не могла себе признаться в том, что я боюсь в это лезть, боюсь учить что-то новое, потому что после взлета я панически боюсь провала. Мне казалось, что мои закостенелые мозги, которые в свое время выросли на дизайне образца 1998-2000 годов, уже не в состоянии принять и объять все это новое, блестящее и карамельное. Кроме того, весь этот поток профессиональных наград (там был еще ряд публикаций в таких книжицах, о которых я на заре своего дизайнерства даже мечтать не могла), видимо, заставил меня почувствовать себя Профи, которому уже стрёмно чему-то шибко учиться (какая идиотская ошибка)…
Так получилось (слишком уж я себя всегда ассоциировала со своей работой, хотя это и не очень правильно), что вместе с кризисом творческим накрыл кризис глобальный, который в конце-концов привел к тому, что я все бросила и уехала хуй знает куда. Проблема не в отъезде, а в том, что находясь в состоянии разброда и шатания все равно невозможно в полной мере замечать красоту окружающего мира и по-настоящему ей наслаждаться – какое, нахер, наслаждение, если внутри болото? Хотя, конечно, определенные вещи меня радовали, но, надо признать, в первую очередь из-за своей новизны, пока она некоторое время сохранялась с каждым новым переездом. А потом – снова привычка, снова туман перед глазами и затычки в ушах. И вот когда выносить всю эту катавасию стало уже практически невозможно, я начала выкарабкиваться, потому что иначе оставалось только пойти и утопиться в Тихом океане. Переезд во всем этом, на самом деле, сыграл важную роль: можно очень долго, сидя, например, в Москве, оправдывать себя тем, что это просто вот такой мрачный город, но когда здесь, на берегу океана, в голову все равно слишком часто закрадываются мысли о смысле жизни, очевидно, что в Датском королевстве что-то сгнило.
Нечеловеческое количество размышлений, дистанционная работа с психологом, чтение и медитация в конце-концов начали выводить куда-то в верном направлении. Я не буду вдаваться в подробности, это долго и не по теме, но до меня стали доходить причины и следствия всего, что со мной происходило и происходит. Я начала рисовать и вместе с этим понемножку выбрасывать застарелые страхи, связанные с собственной творческой несостоятельностью. Мне было странно вдруг понять, что даже если я плохой художник, хреновый фотограф и посредственный дизайнер (ну, это вранье, конечно, гыгы) – от этого мир не рухнет и общество не бросит меня в темную и вонючую яму всенародного презрения.
Вообще, я раньше слышала, что успех – дело опасное и может стать причиной кризиса, но как-то не думала применять это к себе (оно и понятно, некоторые вещи очень тяжело заметить, если они происходят с тобой, а не с кем-то там левым, про которого, как правило, всем все "сразу ясно" :) Тем более мне сложно было согласиться с идеей о том, что я сама способна затащить себя в настолько затяжную и глубокую жопу.
Так вот. Если из себя убрать страх, заниматься дизайном становится по-настоящему легко и приятно. Да и не только дизайном, наверное. Но еще год или два назад, если бы меня спросили, чего я боюсь, мне бы в голову не пришло сказать что-либо из того, что я сегодня здесь написала. Проблема в том, чтобы вылавливать эти вещи из бессознательного и осознавать их, как бы ни было стремно и страшно признаваться себе, например, в зависти, страхе "потерять лицо" или в том, что до дрожи боишься чьей-то критики.
Не настолько плохо бояться, все-таки еще хуже – это пытаться сделать вид, что это совсем не так. И что творческий кризис приходит и уходит "сам по себе", как та кошка…
***
Почему мир такой нелогичный, бесчеловечный и безнадежно больной
Иногда кажется, что ты просто не умеешь адаптироваться. Что ты слишком чувствительный, слишком ранимый, слишком “не в ресурсе”, чтобы принимать этот мир как есть. Что все вокруг как-то справляются, а ты один сидишь с перекошенным от ужаса лицом, глядя на бюрократию, политику, правила, социальные шаблоны и внутренне орёшь: «Какого хуя?»
А теперь хорошая новость: ты не сумасшедший.
Ты просто всё ещё живой.
Потому что сумасшедший – это не ты. Это мир, который поставил всё с ног на голову и называет это порядком. Мир, в котором ты не можешь просто построить дом, не пройдя через полгода бумажного ада. Где нельзя умереть, пока ты не заполнил двадцать три формы. Где никто не может тебе помочь, пока не поставят штамп. Где забота превращается в услугу, а страдание – в административную единицу.
Ты растёшь и сталкиваешься с системой власти, построенной не на разуме, а на страже у двери. С чиновниками, которым глубоко насрать, есть ли у тебя душа. С полицией, чья работа – не защищать, а контролировать. С государствами, чья главная функция – охранять самих себя. С религиями, которые давно утратили святость, но по-прежнему требуют преклонения. С мужчинами, считающими себя центром мира, просто потому что у них есть яйца. С женщинами, обученными поклоняться этим яйцам. С институтами, которые наказывают тех, кто задаёт вопросы. С наукой, которая зависит от грантов. С медициной, которой выгодно, чтобы ты болел.
Ты живёшь в мире, где абсурд – это система, а любой здравый смысл – подозрителен. Где у тебя забирают время, свободу, выбор и заставляют благодарить за безопасность. Где каждый день похож на симулятор, в котором тебе нужно не жить, а соответствовать. Где ты заполняешь анкету, чтобы получить справку, что имеешь право заполнить анкету. Где вместо истины – процедура. Вместо совести – политика. Вместо логики – «так принято».
Тебе говорят, что мир несправедлив. Но это не просто несправедливость. Это активная, институционализированная бесчеловечность. Это устроено так, чтобы лучшие не могли пробиться, а худшие закреплялись. Это не искажение – это ядро. Нарциссы, социопаты, манипуляторы и пустые оболочки пробиваются наверх не потому, что ты не стараешься, а потому что именно под них и заточен этот мир.
Если ты умеешь чувствовать, думать, видеть причинно-следственные связи и задавать неудобные вопросы – ты опасен. Неэффективен. Неудобен. Ты не впишешься в корпоративную иерархию, в научную систему, в традиционную семью. Потому что везде правит не интеллект, не эмпатия, не честность, а социально одобренный нарциссизм. И если ты не адаптируешься – тебя выдавят.
И всё это подаётся как «жизнь». Как «взросление». Как «так устроено, смирись». Но нет – это не “устроено”, это уничтожено. Это не порядок, это подмена порядка. Это не стабильность, это дрессировка. Это не цивилизация, это глобальный глюк, натянутый на миллиарды лиц, чтобы никто не задавал главный вопрос: а почему мы вообще живём в таком дерьме – и делаем вид, что всё нормально?
Культ фальши
Мы живём в мире, где лгать – не стыдно, а честность невыгодна. Где важно не быть, а выглядеть. Где контент важнее смысла, где упаковка важнее сути, а успех меряется охватами. Искусство перестало быть искусством в тот момент, когда его начали адаптировать под «целевую аудиторию». Когда вопрос «зачем ты это делаешь» сменился на «что зайдёт». Когда текст стал «продуктом», а музыка – «треками для плейлиста». В мире, где всё должно быть быстро, удобно и продаваемо, подлинность считается странностью, которую нужно «переформулировать».
Если ты создаёшь не для рынка – ты маргинал. Если не упрощаешь – ты непонятен. Если не продаёшься – ты глуп. Настоящее здесь не нужно, потому что оно невыгодно – оно “не вовлекает”, оно требует времени, глубины, молчания – а это не конвертируется в просмотры. Современная культура устроена так, чтобы всё настоящее казалось устаревшим. А всё пустое – блестящим.
Ты можешь делать что-то честное, яркое, важное – и это не получит ни отклика, ни площадки, ни возможности быть увиденным. Не потому что плохо, а потому, что не заточено под алгоритм. Потому что ты не выучил язык мёртвой рекламы, не встроился в эстетику обложек, не написал описание, которое «удержит внимание». Твоя ошибка в том, что ты делал что-то по-настоящему, а настоящее здесь считается неконкурентоспособным.
Бренд – важнее содержания, презентация – важнее опыта. И если ты хочешь быть услышан, тебе приходится играть. Придумывать, как «упаковать» себя, как «сформулировать ценность», как «донести до аудитории». Как будто ты не человек, а линейка товара. Даже когда ты пишешь о боли – ты должен подбирать правильный шрифт. Даже когда ты снимаешь фильм – ты должен считать хронометраж и «точки удержания». Всё настоящее просеивается сквозь фильтр. И если не проходит – считается нерелевантным.
Мир не просто болен – он учится игнорировать живое. Он учится не видеть. Учится пролистывать всё, что не оформлено под ожидание. И это не случайно. Потому что если бы живое осталось на виду – система рухнула бы.
Маркетинг не может переварить подлинность. Алгоритмы не могут показать боль, поэтому тебя учат быть другим. Даже в искусстве, даже в слове. Тем более – в чувстве.
Самое страшное даже не в том, что всё стало фальшивым. Самое страшное в том, что фальшь – теперь стандарт. Норма. Религия. И если ты не играешь – ты вне игры. Если ты не продаёшь – ты не существуешь. Если ты не соответствуешь эстетике, тренду, алгоритму – тебя просто не видно. Настоящее не просто игнорируют – его даже не считывают как сигнал.
Ты можешь сделать что-то настоящее – текст, музыку, вещь руками, фильм, рисунок, просто слово – и ты знаешь, что оно живое, что оно цепляет, что оно не из каталога. Но оно никому не нужно. Потому что оно не упаковано. Не с оптимизированным заголовком. Не в тайминг. Не с правильной рамкой. Без хештегов. Без охвата. Без лайтовой подачи для уставшего сознания. Ты сделал вещь – а от тебя ждут контент.
Или ты делаешь что-то не для продаж – а тебе говорят: ты не умеешь себя продвигать. Ты не сформулировал ценность, не написал оффер, не выстроил воронку. И ты смотришь на это и думаешь: а вы вообще помните, зачем это всё началось? Когда искусство стало товаром? Когда мысль перестала быть ценностью, если её нельзя красиво выложить в карусель? Когда глубина перестала «заходить»?
Фальшь перестала быть исключением. Сейчас именно настоящее выглядит странным, подлинное – непродаваемым, живое – неуместным. В мире, где всё стало маркетингом, искренность воспринимается как ошибка интерфейса, как технический сбой – как будто ты не туда попал. И тебя мягко, почти вежливо выталкивают – не бойко, не в лицо, а алгоритмом. Молчанием. Пролистыванием.
Всё, что не вписывается – становится невидимым.
И всё, что блестит, шевелится и вовлекает – становится успешным.
Не потому что это хорошо.
А потому что вирус стал системой.
Ты живёшь в мире, где нужно объяснять, зачем быть настоящим. А ложь уже встроена по умолчанию. Это больше не подмена, это архитектура, в которой упаковка съела содержание, а форма – выдавила суть.
Мадам, на кой вам столько баночек?
16 мая, 2012
Местонахождение: BsAs
Я вот помню, когда в Москве жила, была у меня в ванной целая куча всяких баночек и бутылочек. Шампуни, кондиционеры, ополаскиватели, всякие пенки для укладки, кремы для кожи и рожи, и прочее косметическое говно. И я всем этим активно пользовалась, искренне веря, что все эти достижения химической промышленности приносят какую-то пользу.
Уезжая из России, я взяла с собой минимальное, как мне тогда казалось, количество баночек и бутылочек, с которыми никак не хотелось расставаться. В Эквадоре по мере того, как содержимое баночек и бутылочек заканчивалось, баночно-бутылочный багаж естественным образом уменьшался, но еще оставалась косметичка.
В данный момент декоративной косметикой я вообще не пользуюсь, у меня есть только один крем – самый простой и универсальный, на случай какого-нибудь местного раздражения или пересушенности, но и это еще не все :)
У меня нету не то что кондиционера для волос, у меня и шампуня нету. Как и геля для душа. Весь этот вагон бытовой химии мне успешно заменяет бутылка жидкого мыла. Я им еще и посуду мою по мере надобности.
В общем, че я могу сказать.
Никакой, сука, разницы.
По-моему, это просто наебка такая – налить одно и то же в разные бутылки, наклеить разные этикетки, покрасить в разные цвета и добавить разные ароматизаторы, чтобы люди думали, что одной бутылкой ну никак нельзя обойтись нормальному человеку, а надо как минимум три, а лучше пять. А еще есть так называемые люкс-наебки и профессиональные наебки. Это когда стоимость бутылочки шампуня приближается к цене виски 25-летней выдержки.
А от того, что я кремами не пользуюсь, выглядеть я стала только лучше, по-моему.
Так что говно это всё.
А тут сейчас в Аргентине на рекламе косметики стали писать: "Изображение человека в этой рекламе было отретушировано и/или модифицировано цифровым способом". И модель такая, вся пластмассовая, рекламирует крем от морщин. Феерическая наебка, которая сама же в этом мелкими буквами признаётся.. :) Только в больном на всю голову обществе косметическая индустрия могла раздуться до таких потрясающих масштабов.
***
Ты смотришь на это всё – на маркетинг, на упаковку, на культуру, где важна не суть, а подача – и если у тебя ещё остались работающие нейроны, ты начинаешь подозревать неладное. Потому что это не просто про вкусы – и не про поколение. И не про то, что «мир изменился». Это – нарциссизм. По всем признакам, по чистой диагностике. Только не индивидуальной – системной.
Здесь всё заточено под то, чтобы быть увиденным, а не быть. Под то, чтобы нравиться, а не существовать, чтобы удерживать внимание, но не иметь смысла.
Тебя учат не чувствовать, а демонстрировать, производить, красиво формулировать позицию. Это не случайно. Это не эволюция культуры, это отбор – системный, планомерный, беспощадный. Отбор в пользу нарциссического паттерна – не у людей, а будто бы у самой реальности.
И если ты всю жизнь чувствовал, что что-то не так – что всё будто разыгрывается по какому-то чужому, бездушному сценарию, где правды нет, где глубина – недостаток, где честность воспринимается как слабость, а эмпатия – как дисфункция, то ты ничего не выдумал. Этот сценарий действительно существует. Его действительно кто-то написал. И написал его не мудрый правитель, не философ, не совет старейшин.
Его написал нарцисс.
Системный, хладнокровный, расчётливый нарцисс, одержимый властью, статусом и иерархией. И звали этого мудака – Хаммурапи.
Великая тайна цивилизации: нарциссический бред, высеченный в камне.
Почему одни люди веками ищут "просветление", другие создают витиеватые философские теории, а большинство просто живёт по правилам, которые противоречат здравому смыслу?
Что если я скажу, что разгадка этой тайны куда проще и нелепее, чем может показаться?
Пиздец, который правит миром
Вся наша "великая цивилизация", все философские учения, религиозные доктрины, юридические системы, моральные кодексы – все эти сложные конструкции, возможно, созданы для объяснения и оправдания… нарциссического бреда одного древнего вавилонского царя.
И нет, это не шутка.
Исследователи тысячелетиями пытаются понять, как возникли первые государства, почему люди подчиняются закону, откуда взялись моральные нормы. Они создали сотни теорий, написали тысячи книг. А ответ лежал буквально на поверхности – на поверхности древнего базальтового столба, где Хаммурапи высек свой бред о собственном величии.
В 1754 году до нашей эры вавилонский царь Хаммурапи создал один из первых известных всеобъемлющих сводов законов. И вот что интересно: треть текста этого кодекса – это не законы. Это преамбула, где Хаммурапи рассказывает, какой он охуенный.
Начинается она так:
«Когда величественный Ану, царь ануннаков, и Энлиль, владыка небес и земли, определяющий судьбы земли, вручили Мардуку, первородному сыну Эа, господство над всеми людьми… тогда Ану и Энлиль призвали меня, Хаммурапи, славного, богобоязненного князя, для водворения в стране справедливости…»
И дальше этот древний псих на нескольких страницах перечисляет около пятидесяти титулов и эпитетов, которыми сам себя награждает. «Я – пастырь», «я – могучий царь», «я – божественный царь царей», «я – мудрый», «я – совершенный»…
Это не просто закон. Это камень, в который Хаммурапи высек своё эго на тысячелетия вперёд.
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе