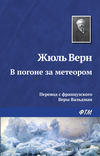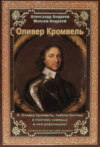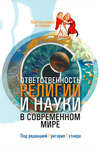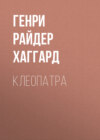Читать книгу: «Воспоминания о заселении Амура в 1857-1858 годах», страница 6
На Улус-Модоне, то есть в знаменитой кривуле, имеющей фигуру цифры 8 или французского «S», та же история. Опять домов гораздо меньше, чем семей, опять толки о Бурее; но тут для разнообразия деревня разделена на два поселка, домика в 3–4 каждый, причем одни построены на южной стороне русского полуострова, а другие на северной, верстах в трех от первых. Строевого леса тут изобилие; солдаты, помогавшие казакам в постройке зданий, гнали из хвойных деревьев смолу. Спрашиваю казаков, довольны ли местом? Отвечают: «Ничего, место просторное45, только лугов вовсе нет и пасти скота негде, а в лесу много зверья; чуть выпустишь овцу или теленка, ан глядишь – тут и волк. Сено-то на зиму косили вниз по реке верст за пять; ну, а гонять туда скот неспособно через горы и лес».
Хотя был вечер, мы не остались на Улус-Модоне ночевать, а, за окончанием съемки полуострова46, поднялись еще версты на четыре по Амуру. Ночь была очень свежа, и как только мы пересекли под Улус-Модоном тот кряж, который на картах известен под именем Ильхури-Алиня и который несколько защищает приайгунские местности от северо-западных ветров, то эти ветры отныне начали давать нам себя чувствовать. Это большое неудобство для амурского парусного, да и всякого другого, судоходства, что осенью, то есть когда суда идут обыкновенно вверх по реке, они встречают противный им, верховой, северо-западный ветер. Нигде нельзя поставить парус, чтобы облегчить работу людей, тянущих лодку, или даже совсем усадить их в последнюю. В довершение всего, река тут становится быстрее от более крутого падения ложа. Лодка постоянно «поет», бечева натянута как струна, и рулевому нельзя зевать, потому что иначе нос отвернет течением в сторону и лодку отбросит, а то, пожалуй, и опрокинет. Между Улус-Модоном и Кумарою особенно замечательно в этом отношении одно место, где с правого берега выдалась в реку скала, из-за которой вода стремится с большою силой. Нередко у лодок бечева тут обрывается, и их самих несет потом с полверсты по течению, несмотря ни на какие усилия гребцов. Этот «бык» (скала) и водовороты, которые образуются ниже его и живописного утеса Цагаяна, составляют, по моему мнению, самые трудные места на Амуре для плавающих, впрочем только для низовых, потому что те, которые плывут сверху, напротив, только выигрывают от быстроты течения реки, не подвергаясь ни малейшей опасности.
На Кумаре, то есть точнее – в небольшой, узкой долине левого берега Амура, против устья Кумары, где строилась станица Кумарская, я нашел командовавшего 13-м батальоном капитана Дьяченко. Это был один из наиболее полезных деятелей по заселению Амура. Спокойный, ровный характер, распорядительность, умение обходиться с солдатами и казаками, с начальствами, доставили ему общее уважение амурцев. И у него в станице постройки шли живо, а число домов было значительнее, чем где-нибудь. Он показал мне собственноручный приказ Н. Н. Муравьева о времени и порядке возвращения 13-го батальона в Шилкинский завод. Приказ этот был написан на полулисте бумаги, и на нем сверх месяца и числа стояло: «Пароход „Лена“ на мели» – вместо Иркутска или такой-то станицы, то есть вообще взамен обозначения местности, где состоялся приказ.
– Видите, как у генерал-губернатора накипело сердце против моряков: он не утерпел, чтобы не прибавить слов «на мели», – заметил, улыбаясь, Дьяченко. – И я думаю, – продолжал он, – что если бы это не была официальная бумага, то Николай Николаевич написал бы: «разумеется, на мели».
Я готов был разделить это мнение, и вот почему. Приказ был отдан как раз на том месте, где генерал-губернатору пришлось променять пароход на лодку с лубочным навесом, о которой я уже упомянул выше. Кроме того, у него были в свежей памяти: первое плавание той же «Лены», под командой Сухомлина, и полученная на Усть-Зее статья моряка Римского-Корсакова, в которой упоминалось о «счастье вырваться из амурской грязи». Быть может, припоминал он и Невельского, добивавшегося для флота первенствующего значения в Амурском крае, и адмирала Путятина, пустившего на Сахалин японцев и дискредитировавшего Амур в Петербурге, и капитана Бурачека, затруднившего сплав 1857 года неудачной постройкой барок. Причин сердиться на моряков было, следовательно, немало; а затем прибавка к приказу слов «на мели» и даже с «разумеется» очень естественна, хотя и забавна слегка.
Плавание от Кумары до Албазина, где Амур часто разбивается на протоки, иногда очень мелкие, а иногда, в маловодье, и совсем глухие с верхних концов, было очень неприятно, тем более что дни становились все короче, и вечером трудно было идти позднее 8 часов из опасения не различить главного русла от какого-нибудь рукава и попасть в такой, из которого был один выход – назад. Холода по ночам тоже донимали, так что единственным утешением было отсутствие комаров и слепней, которые быстро исчезли при начале свежей погоды. Гребцов мне приходилось менять на постах и селениях, и это было также немалое неудобство. Пока их разыщут, пока они соберутся, а время уходит. На одном посту начальник, какой-то урядник, и вовсе было отказал в гребцах, так что я должен был постращать его арестом. И мне говорили потом многие из посещавших в то время Амур, что с ними случалось то же, так что езда, даже курьерская, не отличалась скоростью. Почему с первого же года водворения русских селений на Амуре не были там устроены хоть небольшие почтовые станции, этого я не понимал тогда, да не вполне понимаю и теперь. Возка почты и курьеров была возложена на жителей, которых это отрывало от работ по устройству домов и хозяйства и, следовательно, разоряло, а я не думаю, чтобы основывать колонии с первого дня разоренные могло быть целью забот государства. Поправлять их, и поправлять сугубыми жертвами, пришлось потом тому же государству. Так не лучше ли было с самого начала устранить причину разорения? Будь на каждом посту хоть по три лошади, по три человека и по одной лодке, это дало бы возможность возить почту (хоть по разу в месяц) и курьеров, если не верхом, то бечевою на лодке, гораздо скорее, чем на людях бечевою же. Да и немедленно были бы набиты вдоль берегов кратчайшие тропинки от одного селения к другому, а у самой реки хоть какие-нибудь бечевники. Там, где бечевника на нашем берегу без работ было сделать нельзя, лошади могли бы объезжать скалы по самым увалам, число которых именно на левой стороне Амура очень незначительно, по крайней мере до входа реки в Хинганские горы. Словом, стоило захотеть, так дело и было бы сделано, как делали его прежде между Красноярском и Туруханском, между Аяном и Якутском, а после – в степях Средней Азии, где даже совершенно ненужный России Зайсанский пост удостоился особого почтового тракта тотчас по своем водворении. Из почтарей-лодочников быстро образовались бы и хорошие лоцманы для пароходов и других судов.
Впрочем, тайна этого неурядья довольно проста: не было денег. Ведь амурские расходы были в то время еще не государственными расходами, а собственно сибирскими или даже только восточносибирскими. Верховное правительство, с обычной ему недальновидностью, не умело ценить важности Амурского края. Слушая сплетни об Амуре графа Путятина и других недругов Муравьева, уверявших, что Амур – болото, в котором всего 3 фута воды и из которого никогда ничего порядочного не выйдет, оно склонно было видеть во всем амурском деле не великую государственную задачу, а «муравьевскую затею», которая, бог весть, удастся ли еще; а потому не давало денег. И это тем более, что после Крымской войны министр финансов, говоря словами Салтыкова, уже «громко вопиял на пустом сундуке», где едва нашел несколько миллионов на церемонии коронации, конечно, более нужные России, чем весь Амурский край. Генерал-губернатору же Восточной Сибири предоставлено было экономничать по разным штатным и вообще местным расходам47 и сделанные сбережения обращать в «амурский капитал», которым и покрывать все расходы по экспедициям на Амуре и заселению его. Но очевидно, что со страны, в которой было всего 1 000 000 населения, больших экономий сделать было нельзя, а отсюда естественно вытекала скупость в расходовании амурского капитала. Кажется, что весь он в 1857 году состоял из 400 000 рублей, и впереди предстояли большие экстренные расходы по колонизации следующего года. Вот главная причина, что почт, даже в самом зачаточном состоянии, учредить было не на что. Но, впрочем, и тут, по моему мнению, можно было развернуться хоть на один год, чтобы не разорить возникавших колоний. Следовало назначить высокую прогонную плату с версты и лошади или гребца и заставлять проезжих чиновников выплачивать эти прогоны, выдавая им таковые из казны… Впрочем, что толковать о вчерашнем дне? Прошлого не воротишь, и если я говорю здесь об этом предмете, то собственно для того, чтобы объяснить одну из причин, по которым амурская колонизация не вышла такою блестящею, как можно было ожидать по естественным богатствам страны.
На одном из промежуточных пунктов между Кумарою и Албазином мне пришлось воочию познакомиться и с другою из этих причин неуспеха великого амурского дела, быть может, еще более важною, чем недостаток денег. Разумею страшный произвол во всем казачьих начальников. Это давно известно каждому образованному человеку, что военная дисциплина хороша только во фронте и в отношениях чисто служебных, строевых; тут исполнение даже видимо нелепого распоряжения старшего есть безусловная необходимость. Но в сфере экономической, как и в умственной, деспотизм есть нелепость, ничем не извиняемая. Между тем, что же было на Амуре? Вот один сотник, получив в свое управление вновь возникающую станицу, селит ее не при Амуре, а далеко в стороне, под горою, так что занятие рыболовством, самое естественное для жителя берегов большой реки, становится делом трудным, сопряженным с потерею значительного времени. Мало того, поселок свой он строит на болотистой почве и у гнилого озерца, одной из «стариц» Амура, стало быть, в местности гигиенически невыгодной. Генерал-губернатор делает ему замечание, говорит ему даже, что он поступил как азиат-охотник, которому дороже всего быть поближе к лесу и к ловушкам на зверя. Но что будете делать? Деревня строится: она построена там, где пожелал сотник-зверолов. На вопрос мой казакам: довольны ли они своим местом? – я получаю в ответ: «Помилуйте, ваше благородие, разве можно быть довольным болотом?» Не знаю, какова была дальнейшая судьба этого поселка, но, вероятно, его перенесли, на что, конечно, требовались и время, и деньги, и труд, разумеется, самих казаков.
Да мало ли на чем не отзывался со страшною невыгодой военный деспотизм, введенный вместе с казачеством на Амуре. Казак хочет развести свой огород вот там-то – нельзя! Он думает уладить свой дом и двор вот так-то – нельзя! Он собирается на несколько дней на охоту в лес – нельзя! Служба требует пребывания дома. Он хочет съездить в соседнюю станицу, чтобы повыгоднее продать пушнину, за которую местный кулак, станичный начальник, дает очень мало; для отлучки нужно спроситься у того же станичного начальника, и тот, разумеется, говорит: нельзя!.. Словом, чтобы не быть слишком многоречивым на эту тему, расскажу один факт, сообщенный мне в 1868 году в Иркутске бывшим начальником штаба Восточно-Сибирского военного округа, Б. К. Кукелем, в присутствии по крайней мере двадцати человек. Военный губернатор Амурской области Педашенко однажды вздумал посетить староверческие, или раскольничьи, селения, возникшие на призейской равнине, верстах в 50-100 от Амура, и нашел их в цветущем виде уже на второй или на третий год существования.
– Славно вы живете, братцы, – говорил он крестьянам, – гораздо лучше, чем казаки, даром что у них Амур под боком. Отчего бы эта разница?
– А, батюшка, ваше превосходительство, оттого, что мы от начальства подальше, – отвечали крестьяне.
– Гм! – заметил губернатор, – однако же и без властей вам жить нельзя; надобно будет кого-нибудь над вами поставить.
– Отец родной! – закричали крестьяне, – мы люди смирные, между нами ничего худого не случится, а если бы что и вышло, то мы сами выдадим дурня твоему благородию; подати мы платим исправно, повинности отбываем так же; ну, а от начальства избавь!
И толпа бросилась генералу в ноги. Говорят, будто Педашенко упомянул об этой сцене в своем годовом отчете государю, присовокупив, с откровенностью, делающею ему честь, что староверы отнюдь не антихристы, а напротив – образцовые подданные. Недосказанным только остался вывод, что амурские начальства никуда не годятся, но он очевиден сам по себе…
Чем дальше я двигался вверх по Амуру, тем постройки в новых станицах были лучше, потому что везде был вокруг прекрасный строевой лес. Но другие хозяйственные условия представляли мало утешительного. Огородов было разработано мало, полей поднято еще менее. Впрочем, на Верхнем Амуре озимые поля едва ли и теперь в употреблении: там, как и в большей части Сибири, кажется, сеют только яровой хлеб. Скота у поселенцев немного, лошадей в особенности, хотя это были конные казаки. На последнее обстоятельство я невольно обратил внимание, и меня поразила при этом мысль: зачем это в гористой и лесистой Даурии48 мы водворили конницу? Употреблять ее здесь некуда, потому что край – тайга, без всяких дорог; отправлять на службу вниз по Амуру неудобно, а в некоторые времена года даже просто невозможно; движение к Цицикару или хоть к Мергеню49 от Усть-Стрелки, Албазина или Кумары50 немыслимо. Вот если бы конные казаки водворились на Среднем Амуре, от Хингана до Уссури, то они вместе с теми, которые поселились между Зеею и Хинганом, могли бы составить хорошую кавалерию, потому что превосходные луговые равнины в этих местах дают возможность держать многочисленные табуны лошадей. Но случилось на деле, как скажу ниже, совершенно противное: Средне-Амурская низменность занята казаками пешими, а горная страна вниз от Усть-Стрелки – конными.
В Албазине я нашел жилые дома уже оконченными и населенными, и то же было в поселках выше его по Амуру. Число домов, правда, было повсюду меньше числа семей; но важно было уже то, что все люди проводят ночи под кровлей, а не на воздухе или в шалашах, продуваемых ветром. Погода становилась все холоднее, а ночью начинались морозцы, от которых лист немногочисленных здесь нехвойных деревьев желтел и падал. Казаки ждали более глубокой осени и первого снега, чтобы разойтись по лесам на охоту, а тем временем делали загороды около домов, возводили кое-какие домашние постройки, ловили рыбу. Последний промысел велся совершенно на тех же основаниях, как в Забайкалье, то есть ставились снасти из простых жердей с привязанными к ним на веревочках железными крючками или удочками, которые, в числе 15–20, плавали вместе с жердью, в свою очередь привязанною толстой веревкой к тяжелому камню, опущенному на дно реки. На крючки не надевалось никакой наживы, и тем не менее рыба ловилась: так ее было много! Иногда перегораживали легкими сваями какую-нибудь небольшую реку, впадавшую в Амур, и тогда ниже изгороди, в небольшом, обыкновенно искусственном омуте, скоплялось множество мелкой рыбы, которую ели безотлагательно, тогда как крупные породы, пойманные в самом Амуре, частью солились, частью провяливались или коптились и шли впрок. Замечу, что, однако, ни в 1857, ни в 1858 году нельзя было купить на Верхнем Амуре порядочной соленой рыбы, тогда как на низовьях, около Мариинска, приготовлялись хорошие балыки, и еще кем – солдатами!
В Усть-Стрелке я расстался с Амуром, чтобы увидать его не раньше, как через восемь месяцев. Молодцы усть-стрелочные казаки повезли мою лодку по Шилке с быстротою, от которой я уже давно отвык на Амуре, где в последние дни едва успевал делать по 30 верст в сутки. Бросив последний взгляд на великую реку, я засел, согнувшись, под лубочный навес и стал писать отчет о виденном для представления его генерал-губернатору по приезде в Иркутск. Топограф Жилейщиков приводил тем временем в порядок наши общие съемки, и незаметно пролетели три дня, при конце которых лодка моя снова стояла перед домом Скобельцина в Горбице, как три месяца тому назад. Таким образом, поездка моя окончилась, и я пользуюсь этим окончанием, чтобы сказать, что именно было сделано летом 1857 года для заселения Амура.
Казачьи станицы возникли в следующих местах:
1) При устье реки Игнашиной в Амур, в 63 верстах от Усть-Стрелки, теперешняя станица Игнашина;
2) При устье реки Ольдоя, в 27 верстах ниже предыдущей, теперь называется Сгибневой, в память А. С. Сгибнева, командира «Аргуни» – первого парохода на Амуре;
3) Против устья Албазихи, на месте бывшего города Албазина, Албазинская станица, – ныне одно из значительнейших селений на Верхнем Амуре. От предыдущей 83 версты. Внутри ограды старого города были находимы в 1857 году зерна хлеба, брошенного тут русскими в 1687 году перед переселением в Пекин51; не знаю, пробовали ли новоселенцы сеять эти зерна и получали ли от них урожай, как это бывало в Египте с зернами пшеницы или риса, найденными в развалинах;
4) Против устья Панги, теперешняя Бейтоновская – в память известного героя XVII века Бейтона. От Албазина 39 верст;
5) На устье Буринды, теперешняя станица Толбузина; 78 верст;
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе