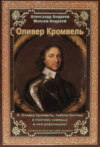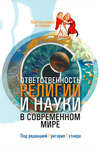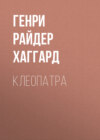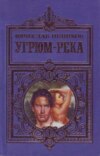Читать книгу: «Воспоминания о заселении Амура в 1857-1858 годах», страница 5
Наконец, в числе бумаг, привезенных Беклемишевым, были еще два письма из Кяхты. Один местный купеческий старшина и известный аферист, не раз благоразумно банкротившийся, Носков, просил об извещении, каковы вообще наши отношения к Китаю, не доходят ли до войны, так как от этих отношений будет зависеть цена (вымененного уже, то есть русского) чая на предстоявшей нижегородской ярмарке. Если, мол, китайцы дуются, а тем паче грозят, то можно будет на российских потребителей чая накинуть за это процентиков тридцать-сорок против обыкновенных цен. В другом письме местный кяхтинский «либерал из поднадзорных», а в сущности фразер и шляхетский пройдоха, Деспот-Зенович, на нескольких почтовых листах изображал печальное состояние тогдашнего Китая, которое он, по званию пограничного комиссара, наблюдал через маймаченскую заставу. «Перед нашими глазами, – писал он, – разыгрывается последний, замыкающий акт трагедии, где гибнет целый мир, и из-за видимых развалин последнего трудно рассмотреть будущее». Я тотчас узнал по этой фразе о близком знакомстве автора с «Письмами об изучении природы» Искандера42, и именно с четвертым, в котором речь идет о падении Рима, но промолчал… Носкову было отвечено, что отношения наши с Китаем самые дружественные; либеральный же пограничный комиссар, кажется, не получил никакого ответа на свои выспренние соображения и выкраденные фразы, и мы только про себя посмеялись над ним. Личное знакомство и наблюдение убедило меня потом, что физически из Кяхты можно видеть на юг не далее Гилян-Нора, то есть верст на восемь в пределы Монголии: способен ли был проникать умственным взором в большую даль поднадзорный либерал, – в этом я сомневаюсь. Человек фразы, ходульного величия, академических и губернаторских поз, он умел только рисоваться и заискивать перед начальством, да и то пока оно не разглядывало его, как Хрущев в Западной Сибири; вид же независимости и нравственной честности был напускной, потому что Деспот-Зенович был и есть интриган. А насчет его дальновидности достаточно привести его фразу о предстоящем в 1857 году разрушении Китая, который и доселе благополучно стоит.
За Беклемишевым вскоре прибыл третий курьер, сотник или есаул Кукель, бывший инженерный офицер, скромный как «красная девушка». Он привез, между другими предметами, план предположенной Усть-Зейской станицы, очень изящно начерченный. Тут было все: и церковь, и больница, и дома разных властей, и разные канцелярии (без этого уж нельзя); была даже, кажется, школа (за это, впрочем, не ручаюсь); но проект, совершенно годный для сооружения города на Семеновском плацу или вообще где угодно, не подходил именно к равнине, на которой предполагалось его осуществить. Реки Зея и Амур дали почве этой равнины совсем не то очертание, горизонтальное и вертикальное, какое требовалось по проекту. И вот чертежом полюбовались и свернули его, а первая и до времени единственная улица в новой колонии потянулась, даже не совсем прямолинейно, вдоль гребня небольшой высоты, которую можно было почти с уверенностью считать не заливаемою весенними половодьями, потому что на ней росли крупные березовые деревья. На высоте этой – еще до прибытия колонистов – основано было 18–20 домов по проекту капитана Дьяченко, который прежде служил в южнорусских военных поселениях и был знаком с возведением скороспелых зданий, воздвигавшихся для вида инспектирующему начальству и для первоначального размещения водворенных поселян. Мазанки эти, удобные в сухом климате южной России, оказались, однако же, слишком прохладными в суровой стране устьев Зеи, а их возникновение я извиняю только недостатком более прочного строевого материала и времени на заготовление и подвозку его. Мне потом пришлось видеть эти дома летом 1858 года, то есть после зимовки в них населения: наружный слой глины, которою был обмазан плетень, местами обвалился совсем, и это, к вящему неудобству жителей, случилось именно зимою. Смертность в мазанках была едва ли не сильнее, чем в солдатских бараках.
III
В половине июля, то есть через шесть недель после нашего водворения на устье Зеи, начали прибывать переселенцы. Впереди плыла буреинская сотня, которая должна была водвориться в трех пунктах: на устье Буреи, у входа Амура в Хинганские горы и в какой-нибудь промежуточной точке между этими двумя стратегически важными местностями. Так как не оставалось более сомнения, что и остальные переселенцы, – именно усть-зейская сотня, – должны скоро прибыть на место своего водворения, то генерал-губернатор решился немедленно возвратиться в Иркутск. Меня же он послал осмотреть поселения вниз от Буреи, которых сам посетить не имел уже времени; а на возвратном пути оттуда в Иркутск я должен был сделать подобный же осмотр и съемку местностей во всех остальных, возникших в 1857 году, станицах и поселках. Таким образом, мы расстались на время. Я с топографом и четырьмя солдатами, в виде гребцов, отправился на небольшой лодке и через два дня был на устье Буреи, около того места, где теперь стоит станица Скобельцина. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что чрезвычайно удобный для основания поселка, покрытый дубравою холм, на котором ныне расположено это селение, не имеет и признаков того, чтобы на нем или около него водворились русские!.. Встретившиеся манегры, однако, разъяснили, в чем дело: селение наше возникало не на устье Буреи, а в 26 верстах ниже оттуда. Туда я и отправился, держась неизменно левого берега Амура, чтобы не пропустить возникавшей колонии, так как, с одной стороны, манегры объяснили, что постройки производятся в лесу, несколько в стороне от берега, а с другой – карта показывала, что тут есть острова, за которыми легко было не заметить ни построек, ни стоявших у берега судов, если бы плыть по большому руслу.
К счастью, оказалось, что селение возникало в таком месте, где на Амуре – у левого его берега – нет островов. Река тут течет широким руслом и делает поворот, так что из построенной в вершине угла станицы открывается широкий вид на оба колена, верховое и низовое. С эстетической точки зрения место было выбрано удачно; но озерца, попадавшиеся в окрестном лесу и, очевидно, принадлежавшие к разряду стариц, то есть к составу прежнего русла Амура, заставляли опасаться, что место, выбранное под селение, низко, и если не будет совершенно затопляемо во время полноводий, то легко может обращаться в болотистый остров. Хилковский, которого я тут встретил, был уверен, однако же, в противном, и я не знаю теперь, что в действительности оправдалось: его ли оптимистические предвидения, или мои, – несколько скептические? На вопрос мой от имени генерал-губернатора: почему не возникло селения на устье Буреи? – Хилковский объяснил, что там мало места для ста дворов; оставлять же там 25 семей, для которых холм был достаточен, он не решился потому, что это значило бы вместо трех предположенных деревень расселить буреинскую сотню в четырех, на что у него не было инструкций.
Пробыв в Нижнебуреинской, или, как потом она была названа, Иннокентьевской станице (в честь первого амурского архиерея, потом московского митрополита Иннокентия) около суток, я отправился далее вниз по Амуру. Окружающая его равнина, начавшаяся от самого устья Зеи, была здесь еще роскошнее, чем в окрестностях Айгуня. Я совершенно понял, почему казаки-переселенцы, когда спрашивали их желания относительно места водворения, все желали на Бурею. Таких великолепных угодьев для хозяина-земледельца, как между Зеею и Хинганом, мало в целой России, а в Сибири и совсем нет. Когда я прибыл в станицу Хинганскую – теперь Пашкову – у входа Амура в «щеки», то есть в ущелье, то довольство судьбою у местных казаков-поселенцев бросилось в глаза. Они, только что прибывшие, не упустили случая посадить несколько овощей, которые надеялись собрать осенью, потому что климат тут теплый, особенно по сравнению с Даурским нагорьем. Дуб, вяз, красная береза служили строевым материалом для домов, живописно располагавшихся на возвышенном берегу реки, и работа по основанию колонии кипела.
Недурен был также небольшой поселок, возникавший в пространстве между Хинганом и Иннокентьевской станицей, у Халтана.
Возвратясь с Хингана на Бурею, то есть в Иннокентьевскую, я передал Хилковскому выражение неудовольствия генерал-губернатора на медленность сплава колонистов, сделавшую, очевидно, невозможным «удобное» водворение их на новых местах в текущем году, и приказание ему самому остаться на Амуре на зиму… Это, конечно, огорчило его; но, по-видимому, он был уже предупрежден о своей участи, а равно и извещен о том, что Н. Н. Муравьев, принимая на Усть-Зее тамошних колонистов, наконец прибывших туда после моего отъезда, произнес перед ними речь, не очень лестную для него, Хилковского. Как быть! Не все находили на Амуре обетованную землю, в которой осуществлялись надежды на быструю карьеру… Я забыл еще сказать, что даже Корсаков, забайкальский губернатор, родственник и любимец генерал-губернатора, получил от него, еще до отъезда моего с Зеи, бумагу такого содержания, что потом спрашивал меня: «А что, Николай Николаевич очень на меня сердится?» Бумага была на бланке за номером, а не простое письмо, так что, по справедливости, спуску никому не было.
При обратном плавании с Буреи я держался суши, так что, собственно, плыла одна моя лодка; я же с топографом и одним солдатом, у которого был в руках топор, шел берегом и даже большей частью вдали от реки, чтобы отыскать и наметить дорогу, которая была бы короче, чем вдоль по Амуру, который в этих местах делает многочисленные извилины. Путь в высокой траве, выше человеческого роста, и по лесной чаще утомлял до последней степени; жажда и голод мучили, и в довершение всего, приходя на ночлег к месту, где, по условию, дожидала меня лодка, я не находил спокойствия от комаров, которые не давали спать всю ночь. Четверо суток продолжалось подобное мученье.
На Усть-Зее, разумеется, все обстояло благополучно, как сочли нужным сообщить мне местные власти для доклада генерал-губернатору. И в самом деле, дом начальника отряда был готов и даже меблирован; около него воздвигались кухня и другие пристройки. Лагерь солдат был окончен вполне и если зеленел издали ветвями тальника, выросшего из стен бараков, то в этом беды не виделось, ибо батальонный лекарь рапорта о том не подавал. Только число казачьих домов росло медленно, или, точнее сказать, оставалось неизменным с половины июня, хотя на дворе был и август. Видно было, что с отъездом генерал-губернатора центр тяжести всего амурского дела перешел из жилищ колонистов, составлявших предмет особых забот Н. Н. Муравьева, в батальонные цейхгаузы. Меня это не удивило, но все-таки рассердило, и на прощанье с Усть-Зеей мне пришлось побраниться с бывшим там «за амбаня» майором Языковым из-за установленных им порядков.
Само собою разумеется, что у стесненных в помещении казаков-переселенцев в следующую зиму была сильная смертность, особенно между детьми. Тот рай, о котором они мечтали, собираясь на Амур, для многих из них через несколько месяцев по прибытии туда обратился в могилу.
На Усть-Зее я надеялся найти пароход, который бы мог доставить меня вверх по Амуру в гораздо кратчайшее время, чем лодка, поднимаемая бечевою. Но пароходов не оказалось. А нужно заметить, что их было в это время два – «Амур» и «Лена». Последняя еще в первой половине июня прибыла из Николаевска. Потом она была отправлена вверх по реке до Шилкинского завода, но ходила так медленно, что по возвращении на Усть-Зею вызвала целую бурю у генерал-губернатора против капитана. Последний, капитан-лейтенант Сухомлин, был, вероятно, хороший моряк, но при плавании по реке оказался более осторожным, чем позволяли обстоятельства. Он всякий вечер останавливался на якорь и стоял до рассвета; он плавал медленно, чтобы не въехать где-нибудь на мель с разлета. Результатом было запоздание на Зею и та буря, о которой я сейчас упомянул. Муравьев отрешил его от командования пароходом и дал такую грубую гонку, что у бедного Сухомлина сделалась истерика и пошла горлом кровь. Я застал его на Усть-Зее как бы в заточении, в ссылке, больным, желтым и не могшим говорить о генерал-губернаторе иначе как с чувством непримиримой ненависти. Очень многие ему сочувствовали, да и нельзя было не сочувствовать43.
Что касается парохода «Амур» и его капитана Болтина, то они были счастливее. По прибытии из Николаевска на Усть-Зею в конце июня они были отправлены на низовье реки, где и плавали как хотели, без понуждений и гонок, до самого конца навигации. Но осенью и с «Амуром» случился грех: он сел на мель в Уссурийской протоке и, за постепенной убылью вод, должен был остаться там и на зимовку. Командир принял меры, чтобы судно не затерло льдом при весеннем вскрытии реки, то есть вбил кругом парохода несколько свай. Но так как в Уссурийской протоке жить было скучновато, то Болтин бросил свое судно и отправился в Иркутск, чтобы… жениться! Дело устроилось как нельзя лучше. Через неделю по прибытии он сделал предложение лучшей иркутской красавице m-lle Геблер, а через две женился. Нужные на свадьбу и медовый месяц деньги дал богатый холостяк, иркутский золотопромышленник С. Ф. Соловьев, и молодая парочка блистала на иркутских балах. Это было совершенно по-амурски. В Иркутске ведь не раз женили амурцев – правда, матросов и кочегаров, – на совершенно незнакомых им женщинах в день или в два, даже великим постом, и обыкновенно откупщик давал при этом новобрачным по ведру водки, а голова – по красненькой ассигнации. Был даже случай, что офицер (Сгибнев) прямо из-под венца с молодой женой отправился на Кругобайкальскую дорогу, которая тогда была не экипажной, а верховой, и – делать нечего! – начало медового месяца провел на почтовых станциях.
Парохода «Лены», как я сказал, не было уже на Зее, когда я прибыл туда. Он, под командой штурманского подпоручика Моисеева (кажется, так), отправился снова вверх по Амуру и первоначально вез Н. Н. Муравьева с его маленькой свитой. Но где-то в окрестностях Албазина он стал на мель, и генерал-губернатор, не желая медлить, отправился далее на лодках, бечевою. На этот раз даже не было катера с построенным на нем домиком, а простая лодка, на которой примостили кое-как навес из досок или из лубка, под которым нельзя было стоять, а только сидеть и лежать… На Амуре вообще не знали той среднеазиатской пышности, которую завел в Ташкенте пожинатель дешевых лавров «ярым-падишах» Кауфман44; там уважались только дело и самоотверженная ему преданность, а мишура, фейерверки, колокольный звон в каждом амурце способны были вызвать лишь презрение и насмешки.
Так как на скорое возвращение «Лены» на Усть-Зею не могло быть ни малейшей надежды, «Амур» же еще в июне отправлен был назад, в Николаевск, то и мне предстояло сделать переезд, да еще в целую тысячу верст, бечевою. Дрянная лодчонка, которую мне дали на Усть-Зее, не вмещала под своим лубочным навесом двух; оттого я и топограф, меня сопровождавший, были до крайности стеснены. Еще хорошо было, если места ночлегов приходились около вновь возникавших селений; тогда один из нас уходил спать на берег, в какой-нибудь шалаш. Но это случалось очень редко. Обыкновенно для отдыха солдат-гребцов мы останавливались там, где заставала темная ночь, то есть час десятый вечера, и пристраивались на ночлег как кто знал. Наутро, часа в три, мы просыпались и шли дальше, причем на лодке, в особом котелке на глиняном очаге, варился чай, сначала для солдат – кирпичный, потом для меня с топографом – обыкновенный. Из другой провизии у нас было немного сушеного мяса и ячных круп, из которых мы варили обед, изо дня в день один и тот же и поедаемый с одними и теми же сухарями, которые не следовало рассматривать в микроскоп, особенно там, где они позеленели. Так как был август и ночи становились холодными, а ни у меня, ни у топографа меховой одежды не было, то мы часто дрогли; но молодость, чувство свободы, сознание величия дела заставляли все переносить не только безропотно, но даже без малейшей мысли о недовольстве… Я много работал потом, один и вместе с другими, на разных далеких окраинах России, в Небесных горах, на Кавказе, в Польше; но ничего подобного той общей преданности делу, как на Амуре, – говорю по совести, – не видал; и если эта преданность есть залог успеха дела, если вдохнуть ее в сотрудников есть высшее достоинство вождя, то заслуга Н. Н. Муравьева перед Россией неизмеримо велика. Многие ли бы в состоянии были сделать то, что совершил он, с личным составом помощников до смешного малым, но делавшим многое, во всю мощь нервов и мускулов?
Первый же переезд от Усть-Зеи до Нарасуна, или теперешней станции Бибиковой, около шестидесяти верст, мы совершили с небольшим в сутки, и по прибытии во вновь водворявшееся селение немедленно занялись съемкой окрестностей. Потом я осмотрел работы и расспросил у распоряжавшегося ими лица о плане дальнейшего их производства. Оказалось, что к зиме можно выстроить лишь такое число домов, которое втрое меньше числа семей. Плохо! но все же лучше, чем на Усть-Зее, где один дом приходился на 4–5 семейств; да и нарасунские здания были бревенчатые, а не мазанки. На расспросы мои о хозяйственных удобствах места водворения переселенцы отвечали, что они угодьями довольны, но что на Бурее было бы не в пример лучше. Кто им наговорил о Бурее, – не знаю, но замечу, что на всем Верхнем Амуре отзыв о ней был тот же. Такая, мол, сторонка, что там реки текут медовой сытою в кисельных берегах: бери ложку – и ешь! Я старался разуверить переселенцев, говоря, что, конечно, на Бурее места хорошие, много поемных лугов и пр.; но зато немало болот и нет такого отличного строевого леса, как у них. Они молчали, стало быть, вопреки пословице, не соглашались, а только покорялись, скрепя сердце, воле начальства.
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе