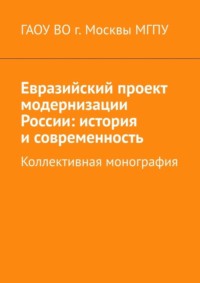Читать книгу: «Евразийский проект модернизации России: история и современность. Коллективная монография», страница 3
Литература
1. Народные русские сказки. Вып. 1—8. М., 1855—1863. Афанасьев А.
2. . Южнорусские былины //Сб. отделения русского языка и словесности императорской Академии наук. Т. 36. СПб., 1885. С. 173—254. Веселовский А. Н
3. Старообрядчество. Лица, события, предметы и символы. Опыт энциклопедического словаря. М.: Церковь, 1996. 316 с. Вургафт С. Г., Ушаков И. А.
4. Индоевропейская история Евразии. Происхождение славянского мира. М.: Рикел, Радио и связь, 1995. 312 с. Гудзь-Марков А. В.
5. Толковый словарь живого великорусского языка. Тт. 1—4. М.: Въ типографии А. Семена, 1863. Даль В. И.
6. . Раскол русской Церкви в середине XVII в. СПб.: Алетейя, 2011. 214 c. Крамер А. В
7. Летописи русской литературы и древности. Т. II. Кн. 4. СПб.: Типография Эдуарда Праца, 1859. 377 с.
8. . Очерки поповщины // Он же. Собр. соч. Т. VII. СПб.: Издание Т-ва А. Ф. Марксъ, 1909. С. 22—24. Мельников-Печерский П. И
9. Беловодье: Повесть // Летопись, журнал М. Горького. Пг.: Типография АО изд. дела «Копейка», 1917. №№7—8; 9—12. Новоселов А.
10. Этимологический словарь русского языка. Вып. 1—14. М.: Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1910—1918. Преображенский А.
11. . Святые древней Руси / Предисл. Д. С. Лихачева и А. Меня. М.: Московский рабочий, 1990. 220 с. Федотов Г. П
12. Стихи духовные: (Русская народная вера по духовным стихам). М.: Прогресс—Гнозис, 1991. 127 с. Федотов Г.
13. . Русские народные социально-утопические легенды ХVII— ХIХ вв. М.: Наука, 1967. 342 с. Чистов К. В
14. . Раскольничьи общины на границе Китая // Сибирский сборник. Кн. 1. СПб., 1886. С. 79—87. Ядринцев Н. М
15. A History of Russian Literature: From Its Beginnings to 1900 in two volumes. London, 1926; 1927. Mirsky D.S.
1.4. Стихотворение Александра Блока «Скифы» в дискурсе философии Евразийства (Иванюшкин А. Я.)
Альберт Швейцер, объясняя природу искусства, писал: «Мы делим искусства по материалу, которым они пользуются при художественном отображении мира… Но это чисто внешнее отличие. В действительности материал, которым пользуется художник, – нечто второстепенное. Он не только живописец или только поэт, или только музыкант, но все они вместе взятые… в поэзии просвечивает живопись, в живописи – поэзия… До того момента, как художественная мысль реализовала себя в определенном языке, она остается комплексной… Искусство в себе – не живопись, не поэзия, не музыка, но творчество…» [5: с. 115]. С нашей точки зрения, такое же родство (как между различными видами искусства) можно усмотреть между поэзией и философией. И в области философии творчество метафорически может быть выражено поэтическими строчками Александра Блока из стихотворения «Когда вы стоите на моем пути»:
– Ведь я сочинитель,
Человек, называющий всё по имени,
Отнимающий аромат у живого цветка.
Знаменитое стихотворение Александра Блока «Скифы» было написано 30 января 1918 года. Предваряя рассказ о том, какая связь между чувствами, мыслями, мировоззрением поэта и философией евразийства, cделаем два вводных замечания.
Замечание первое. В этом же месяце Блок написал также поэму «Двенадцать» и статью «Интеллигенция и революция». А в 1921 г. (за полгода до своей кончины) им была написана статья «О назначении поэта». Все названные произведения в определенном смысле можно рассматривать как один текст, так как каждый большой писатель пишет всю жизнь одну и ту же книгу. Эта книга, по сути дела, о нем самом – творце, созидателе культуры, в которой отображена душа его народа. Эта книга о том, как эта душа может быть по-новому, ярко выражена – в родном слове, в музыке и т. д. Л.Н. Толстой кратко сказал о трех своих великих романах, что его волновали: в «Войне и мире» «, в Анне Карениной» – « в «Воскресении» – «В статье «О назначении поэта» Блок писал: «Поэт – сын гармонии; и ему дана какая-то роль в мировой культуре…» [3: с. 405]. идея народная» « идея семейная», идея религиозная».
Замечание второе. Как известно, первым декретом советского правительства, ратифицированным II-м Всероссийским съездом Советов (через 2 часа после ареста Временного правительства в ночь с 25 на 26 октября 1917 г.) был «Декрет о мире». А 3 декабря 1917 г. начались мирные переговоры между советской делегацией и делегациями центральноевропейских империй. Драматический процесс заключения мира длился три с половиной месяца, Брест-Литовский договор был подписан 3 марта 1918 г. (эта дата приводится уже по новому стилю). Таким образом, время написания поэтом «Скифов» – это время затянувшихся переговоров в ситуации перемирия, причем пройдет всего две недели после написания «Скифов», и против России будет развернуто наступление войск Германии, Австро-Венгрии и их союзников – широким фронтом от Прибалтики до Украины.
Эпиграфом к стихотворению «Скифы» Блок выбрал строчки Владимира Соловьева:
ти слова В. С. Соловьева созвучны философским теориям евразийства, а в качестве выбранного Блоком эпиграфа они играют смыслоформирующую роль во всем стихотворении. Э
Вот первые строки «Скифов»:
Поэтические метафоры трудно поддаются рационализации. И все-таки, когда поэт трижды повторяет, что «нас – тьмы», речь идет совсем не о демографии. Тогда о чем? Рискну дать ответ через философский сюжет, который Блок развивает в статье «О назначении поэта» (приуроченной к 84-й годовщине смерти А. С. Пушкина): «Что такое гармония? Гармония есть согласие мировых сил, порядок мировой жизни. Порядок – космос, в противоположность беспорядку – хаосу. Из хаоса рождается космос, мир, учили древние. Космос – родной хаосу, как упругие волны моря – родные грудам океанских валов. … Хаос есть первобытное, стихийное безначалие; космос – устроенная гармония, культура; из хаоса рождается космос; стихия таит в себе семена культуры; из безначалия создается гармония» [3: с. 404]. Первую строчку «Скифов» можно понять так: вы (Запад!) воспринимаете нас как варваров, но тогда объясните, почему русская культура XIX – начала XX веков есть одно из трех чудес всей истории человечества, истории европейской культуры, наряду с античной философией и искусством, эпохи итальянского Возрождения?!
Итак, повторим: 30 января 1918 года Блок обращается к Западу: «». В этих словах прежде всего звучало напоминание непреложного исторического факта: Попробуйте, сразитесь с нами!
Заметим, из каких исторических, культурных глубин поэт извлекает этот язык, эти слова («»). Мы не столько узнаем, сколько всей душой угадываем их вещий смысл! Здесь Блок напоминает Западу и о Ледовом побоище, и о замерзшей в русских снегах 600-тысячной наполеоновской армии, но главное – он как бы предчувствует 1945 год! копя и плавя наши перлы
Однако в приведенных словах поэта звучит и другое, а именно – не только справедливая, но и обоснованная угроза:
И это еще не все, что содержится в одной-единственной строчке «». В ней содержится призыв к благоразумию. К благоразумию, которое прошло вековую школу свободомыслия и критического мышления Эразма и Вольтера. Сегодня для всех нас очевидно, что смысл процитированной строчки «Скифов» не был исчерпан заключением Брестского мира 3 марта и его аннулированием советским государством 13 ноября 1918 г. Поэтому мы задаем еще один вопрос: почему обращение Блока к упомянутому благоразумию Запада остается актуальным все прошедшие сто лет? Попробуйте, сразитесь с нами!
Для объяснения трагических событий XX века существует множество концептуальных философских подходов. Как и автору «Скифов», наиболее «работающей» представляется евразийская парадигма. – Нам говорят: вы «застряли» в прошлом – слишком много говорите о Второй мировой войне. Подразумевается: вы, русские – какие-то не «современные люди» (если выразиться грубо – «варвары»). И следом подразумевается, что самые «современные люди» – это, например, британцы, которые недавно изобрели мем «Скрипали». А Блок 100 лет назад на это сказал: Мы другие, чем они!
апад не может понять, что мы воспринимаем как фундаментальное философское обобщение проникновенные поэтические слова Михаила Исаковского В свое время Евгений Евтушенко сказал, что если бы Исаковский написал только одно это стихотворение, то все равно бы стал классиком русской поэзии. В созвучии с этим стихотворением М. В. Исаковского звучат слова знаменитого стихотворения самого Е. А. Евтушенко: И разве не о том же говорят нам слова Блока: З «Враги сожгли родную хату. Убили всю его семью… А на груди его светилась медаль за город Будапешт». «Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины… Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат…».
Мы не случайно не даем ссылок на строчки стихов Исаковского и Евтушенко – ведь они положены на музыку и давно звучат в нашей душе сами по себе, без всяких ссылок. Как видим, и Блок, и Исаковский, и Евтушенко говорят об одном и том же, стараясь выразить сущность русского национального характера.
Продолжим однако приведенную ранее цитату Блока:
Остановимся на этом трижды ритмично повторяемом обращении Блока к Западу: «глядит, глядит, глядит в тебя». Речь у поэта идет о необыкновенной восприимчивости русских к западной культуре. В самом деле (вот слова Блока):
Остановимся на словах . Как неожиданно мощно зародилась у нас точная наука, речь здесь прежде всего о Ломоносове (который, кстати говоря, владел десятью языками). Как высоко ценил его научный гений Эйлер! «жар холодных числ»
У Блока есть еще одна строчка, где говорится, что западная цивилизация – это по преимуществу «техническая цивилизация»:
Интересно, что строчку не понял И. А. Бунин, который возмущенно говорил – что это за вычурность, что за нелепость – «дышит интеграл» [8]. Да, здесь русский поэт Бунин, видимо, не понял русского поэта Блока, который за 50 лет до создания персональных компьютеров, предчувствовал современное техногенное общество, на вершине которого – цифровая революция. И вот именно это высокотехничное, цифровое западное общество у нас на глазах принимает вызов Блока – . И вот мы имеем сегодня «гибридную войну» против нас, которая по преимуществу есть информационная война. «стальных машин, где дышит интеграл» «Попробуйте, сразитесь с нами!»
Попутно следует сказать два слова о кардинальном различии (различии на онтологическом уровне) между знанием и информацией. Используя философский словарь Гегеля, можно сказать: знание есть такое сущее, которое тождественно с истиной, а информация есть такое сущее, которое равнодушно к истине. Отсюда следует: информационная война есть философски нечестная подмена понятия «истина» понятием «информация» [7].
Итак, Блок ведет свой диалог с Западом:
Наш следующий вопрос: почему ? Кто-то здесь усмотрит предвидение 1968 года, когда в одной шеренге уличных бунтовщиков шли и Ж.-П. Сартр, и М. Фуко, а кто-то вообще вспомнит сегодняшнюю хронику уличных беспорядков в Париже, разразившихся пока президент Макрон был на саммите «Двадцатки» в Аргентине (ноябрь 2018 г.). Небезынтересный философский факт – тот самый Эммануэль Макрон, который в прошлом был референтом известного профессора философии Поля Рикёра. Наиболее верным будет, конечно, предположить, что поэтический образ – это про Великую французскую революцию, когда машина «гуманной казни», изобретенная врачом Гильотеном, в дни якобинского террора работала круглыми днями. Когда нож гильотины разрубил Кутона вдоль всего тела (он был парализован, и палач не мог уложить его голову на плаху). Когда следующий дорогой смерти к эшафоту Дантон крикнул Робеспьеру: «Ты последуешь за мной!». «парижских улиц ад» «парижских улиц ад»
Однако, строка «», если сделать ударение на слове «все», предполагает и другое. Великая французская революция увенчалась рождением Первой французской республики. Например, мы помним такие факты: когда накануне взятия Бастилии 14 июля 1789 г. на заседании Национального собрания 20 июня король Людовик XVI своей верховной властью приказал депутатам разойтись, но депутат от третьего сословия Байи заявил: «Собравшейся нации не приказывают!». мы помним все
Наконец, любой философски образованный человек знает первые строки трактата Руссо «Об общественном договоре»: «Человек рожден свободным, а между тем – он везде в оковах». Однако не все даже философски и научно образованные люди знают, как эта крылатая философская фраза, спустя 30 лет буквально воплотилась в реальность. В 1793—1795 гг. Филипп Пинель освободил от цепей душевнобольных в больницах «Бисетр» и «Сальпетриер». Благодаря французскому врачу Филиппу Пинелю гуманное обращение с душевнобольными стало обязательным условием их лечения.
И вот заключительные строки «Скифов», звучащие, может быть, даже злободневнее, чем сто лет назад:
У нас всех нет надежды, что нашу монографию прочтут те, к кому обращен вещий голос русского поэта. Но есть надежда, и, может быть – даже уверенность, что сила наша прежде всего в том, что у нас есть великая культура, что у нас есть и будет Александр Александрович Блок.
В свой последний приезд в Москву в мае 1921 года он был уже смертельно болен, но выступал много раз в различных аудиториях, читая доклад «О назначении поэта», а также свои стихи. Уместно привести воспоминание Б. К. Зайцева: «Мы позвали Блока, он вошел, все аплодировали. Но какой Блок!… Лицо землистое, … резко очерченные скулы, острый нос, тяжелая походка, и нескладная, угластая фигура. Он зашел в угол, и, полузакрыв усталые глаза, начал читать. Сбивался, путал иногда. » [4: с. 349, курсив наш – ]. Но „Скифов“ прочел хорошо, с мрачною силой А.И.
В заключение позволим себе повторить сказанное в нашей работе «Поэма Александра Блока „Двенадцать“ в свете дискурс-анализа» [6]. Александр Блок умер на 41-м году жизни 7 августа 1921 года от тяжелейшей болезни сердца «эндокардит», испытывая жесточайшие страдания. Лечение его болезни требовало антибиотиков, а они появились только во время войны, лишь двадцать с лишним лет спустя. Когда его хоронили на Смоленском кладбище и гроб опускали в могилу, рядом плакала Анна Ахматова. Вскоре, этой же осенью, она написала [1: с. 180]:
Принесли мы Смоленской Заступнице,
Принесли Пресвятой Богородице
На руках, во гробе серебряном
– Наше солнце, в муке погасшее,
Александра, лебедя чистого.
Панмонголизм! Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно.
—– Мильоны вас. Нас тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Вы сотни лет глядели на Восток,
Копя и плавя наши перлы
И вы, глумясь, считали только срок,
Когда наставить пушек жерла!
Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
В тяжелых, нежных наших лапах?
О, старый мир! Пока ты не погиб,
Пока томишься мукой сладкой,
Остановись, премудрый, как Эдип,
Пред Сфинксом с древнею загадкой!..
– Россия Сфинкс.
Мы как послушные холопы,
Держали щит меж двух враждебных рас
Монголов и Европы.
– Россия Сфинкс. Ликуя и скорбя,
И обливаясь черной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя,
И с ненавистью, и с любовью.
– Мы любим все и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
– Нам внятно все и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений…
Идите все, идите на Урал!
Мы очищаем место бою
Стальных машин, где дышит интеграл,
С монгольской дикою ордою!
– Мы помним все парижских улиц ад,
И венецьянские прохлады,
Лимонных рощ далекий аромат,
И Кёльна дымные громады…
– В последний раз опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!
Литература
1. Лирика / Сост. и подгот. Текста В. Черных; Худож. И. Махов. М.: Худож. Лит., 1989. 415 с. Ахматова А. А.
2. . Стихотворения. Л.: Сов. писатель, 1955. 823 с. Блок А. А
3. . О назначении поэта // Блок А. А. И невозможное возможно…: Стихотворения, поэмы, театр, проза / Сост. В. Енишерлов. М.: Мол. Гвардия, 1980. С. 403—410. Блок А. А
4. . Далекое // Сочинения: В 3 т. Т. 3 / Сост. и подгот. Текста Е. Воропаевой и А. Тархова; Коммент. Е. Воропаевой. М.: Худож. Лит., 1993. 573 с. Зайцев Б. К
5. . Альберт Швейцер: философ, музыкант и врач (три ипостаси гения) // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия «Философские науки». 2012. №2. С. 110—121. Иванюшкин А. Я
6. Поэма Александра Блока «Двенадцать» в свете дискурс-анализа // Великая Российская революция: общество, человек, культура, повседневность. Сборн. научн. статей по материалам Международной научной конференции (г. Москва, г. Ульяновск, 16—18 марта 2017 г.). Том 2. М.: Книгодел, 2017. С. 189—201. Иванюшкин А. Я.
7. Философско-методологический анализ феномена Интернета: автореферат диссертации на соискание степени кандидата философских наук: 09.00.08. Москва, 2017. Иванюшкин И. А.
8. Трава забвения // Собр. соч. В 10-ти томах. Т. 6. М.: Худож. лит., 1984. С. 245—446. Катаев В. П.
1.5. Методология подхода к русской истории: от славянофилов к евразийцам (Бессонов Б. Н., Лакаев П. В.)
Евразийство заявило о себе рядом ярких работ. В частности, выходом в свет книги князя Н. С. Трубецкого «Европа и человечество» [14] и «Исход к Востоку. Утверждение евразийцев» [7], «На путях» [11], книг П. Савицкого «Евразийство» [12], Г. В. Вернадского «Опыт истории Евразии с половины VI века до настоящего времени» [3], Н. Н. Алексеева «На путях к будущему России» [1] и др.
Как очевидно, идеи евразийцев во многом опирались и воспроизводили идеи многих русских мыслителей. Может быть, прежде всего славянофилов, Н. Я. Данилевского, К. Н. Леонтьева, Вл. С. Соловьева, Ф. М. Достоевского; они зачастую перекликались также с идеями русских философов, писателей и поэтов начала XX века.
Уже в 30-е годы XIX в. в России развернулась дискуссия о судьбе России, – о путях ее развития. Сформировались два течения: западники (Н. В. Станкевич, В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, И. С. Тургенев) и славянофилы (И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, К. С. Аксаков, Ю. Самарин).
Предшественником и тех и других был П. Я. Чаадаев. Он страстно обличал Россию и в то же время утверждал, что именно Россия ответит на вопросы, которые занимают человечество.
Славянофилы апеллировали к возрождению в России прежних патриархальных форм жизни и укреплению православия. В то же время славянофилы, признавая преимущества России перед Западом, отнюдь не отвергали его достижения. «Образованность наша должна вмещать в себя плоды также и Запада» [9: с. 109].
Западники осознавали, что продвижение России вперед невозможно без усвоения достижений европейского образования. В то же время они, в первую очередь, Герцен, остро критиковали растущие на Западе мещанство, социальное равнодушие, эгоизм, коллективную посредственность и т. д. и т. п.
Яростным антизападником был Н. Я. Данилевский, призывавший к объединению славян во главе с Россией в одно государство для непримиримой борьбы с Западной Европой. Вл. С. Соловьев отвергал панславистские идеи Н. Я. Данилевского, видя в них проявления опасной тенденции к национализму и шовинизму.
В то же время Вл. С. Соловьев считал, что «именно Россия, русские в силу своей способности отречения от богатства, от чрезмерного рационализма и педантизма, от всего внешнего и наносного, прежде других народов могут освободиться от всякой исключительности, раскрыть и приложить к делу лучшие свойства российской народности: братолюбие, широту души и взглядов, веротерпимость, истинную религиозность» [13: с. 171]. Именно поэтому Россия, утверждал мыслитель, может (и должна) выполнить святое дело: духовно примирить Восток и Запад в богочеловеческом единстве вселенской церкви. Вместе с тем, Вл. Соловьев высказал весьма сомнительную идею о панмонголизме, о том, что народы восточной Азии могут начать войну против России и Европы.
Ярким предшественником евразийцев был К. Н. Леонтьев. Восставая против «западного прогресса», философ призывает ориентироваться на принципы самодержавия и православия. Византия (Восток в более широком смысле) – спасительный пример для России. На востоке самобытные, яркие, живописные, национальные стихии [10: с. 94—95]. По утверждению К. Леонтьева, спасти Россию может византизм, что означает укрепление самодержавия и православия, а также отрицание всеравенства и всеобщего благоденствия. Российское государство всегда цементировало православие. Во главе его должен стоять самодержавный наместник Христа на земле. Такой исход, такая перспектива, по Леонтьеву, будет спасительной для России. К. Н. Леонтьев отвергал панславистские идеи Н. Я. Данилевского.
В дальнейшем евразийцы подвергли критике эти идеи Леонтьева. Они указывали, что его историко-философская концепция имеет биологический характер, что у него эстетический элемент преобладает над этическим.
Важные идеи относительного взаимодействия России с Европой и Азией высказал Ф. М. Достоевский. Он утверждал: «У нас – русских – две родины: наша Русь и Европа, даже если и в том случае, если мы называем себя славянофилами. Нам от Европы никак нельзя отказываться. Европа нам второе отечество, – я первый страстно исповедую это. Европа нам так же дорога, как и Россия» [5: c. 514].
В то же время он опасался, что старую Европу ждет стихийная и страшная социальная революция (похожая на конец XVIII столетия) – писал Достоевский в «Дневнике писателя». В ноябре 1887 года он снова с тревогой пишет о Европе: «Европу ждут огромные перевороты… Социальная революция и новый социальный период в Европе несомненны» [5: c. 514]. В XX в. пророческие слова Достоевского сбылись.
Достоевский отнюдь не преувеличивал связь России с Европой. «Россия ни в одной только Европе, но и в Азии: русский не только европеец, но и азиат. Мало того, в Азии, может быть, еще больше наших надежд, чем в Европе. В грядущих судьбах наших, может быть, Азия – и есть наш главный исход! В Азии мы евразийцы. Миссия, миссия наша цивилизаторская… Создалась бы Россия новая, которая и старую бы возродила и воскресила со временем…» [5: с. 515]. Сказано очень сильно и как бы вполне отвечает нашим сегодняшним устремлениям.
Но не надо преувеличивать ни европейский, ни азиатский фактор в истории России и в ее современной жизни: ничего хорошего из этого не выйдет! А вот мысли Ф. М. Достоевского о национальности, о русском национальном характере очень глубоки, хотя и здесь также сказывается его увлеченность «русскостью».
Писатель утверждал, что в основе национальности лежит идея нравственности: «При начале всякого народа, всякой национальности идея нравственная всегда предшествовала зарождению национальности, ибо она же и создавала ее» [6: с. 21].
Вместе с тем, считал мыслитель, нравственная идея – прежде всего идея религиозная. Он решительно отвергает «муравейник» государства, созданный против общины-церкви. Большинство евразийцев эту идею Достоевского, конечно же, разделяют. Что касается русского национального характера, то, по мнению Достоевского, в России сформирован высший культурный тип, которого нет нигде в мире.
Вот такое мощное философское наследие предшествовало возникновению оригинального взгляда русских мыслителей, оказавшихся в эмиграции, на историю России и ее судьбу в ХХ веке, назвавшими себя евразийцами. История России-Евразии, по мнению историка Г. В. Вернадского, выступает как история борьбы между «лесом» и «степью», т.е. между оседлыми славянами лесной зоны и урало-алтайскими степными кочевниками, в более широком плане – туранскими народами, к которым евразийцы относили угрофиннов, тюрков, монголов, манчжуртов и т. д. [2].
Евразийцы считали, что всем народам Евразии присущ единый психологический тип. В конечном счете, подчеркивали Вернадский, Трубецкой, московское государство в значительной степени образовалось на развалинах Золотой Орды, т.е. является наследием Чингисхана. Русское благочестие, русская духовность возникли во времена татарщины. Без татарщины не было бы России. П. Савицкий утверждал, что именно благодаря так называемому «татаро-монгольскому игу» «Россия обрела свою геополитическую самостоятельность и сохранила свою духовную независимость от агрессивного романо-германского мира» [11: с. 342].
В наше время подобные идеи обосновывал известный отечественный историк Л. Н. Гумилев, дополнив их концепцией этнической пассионарности. По мнению Л. Н. Гумилева, на популяционном уровне жизнь этноса регулируется биосферными импульсами пассионарности. Пассионарный толчок в развитии российского суперэтноса произошел на рубеже XIII в. [4]. К сожалению, наша жизнь в XX в. характеризуется упадком пассионарности.
Многие сторонники евразийства защищали так называемое «органическое мировоззрение», противостоящее демократическому. Например, Л. П. Карсавин, будучи после 1924 года главным редактором газеты «Евразия», резко нападал на демократию, характеризовал демократическое умонастроение как «некрофилию» (труполюбие). Опираясь на гегелевское учение, выдвинул идею метафизики всеединства, единства в мире всех и вся. Каждый момент личность в своей качественной единственности есть вместе с тем символ всех других его состояний. Подлинная личность – симфоническая личность – гармонически связана со своим космическим бытием, и именно симфоническая личность является подлинной сакральной личностью.
По мнению Н. С. Трубецкого, существует лишь одно истинное противопоставление: романо-германский народ и все остальные народы мира, т. е. Европа и человечество. Никакой общечеловеческой цивилизации нет. Под видом общечеловеческой цивилизации навязывается культура романских и германских народов. Россия, занимая срединное положение между Европой и Азией, представляя собой континент – Евразию, должна осознать свою особую миссию: служить всему человечеству, всему миру. Только тогда она победит [14].
Призывая развивать и утверждать национальную культуру, Н. С. Трубецкой подчеркивал, что именно в своей национальной культуре народ выявляет свою индивидуальность. «Момент оценки должен быть раз и навсегда изгнан из этнологии и истории культуры, как и вообще из всех эволюционных наук, ибо оценка всегда основана на эгоцентризме. Нет высших и низших. Есть только похожие и непохожие» [14: с. 62]. Вместе с тем он решительно выступал против национализма. Единственно истинным, логически оправданным может быть признан только такой национализм, который исходит из самобытной национальной культуры. «Но нам приходится иметь дело с такими националистами, для которых самобытная национальная культура их народа не имеет значения. Они стремятся только к тому, чтобы их народ приобрел государственную самостоятельность, чтобы он был признан другими народами, прежде всего, большими, великими», писал он в 1921 г. [7: с. 63].
Евразийцы выступали за особый тип государственной власти – идеократический. Решающим фактором власти должна быть идеология. Вместе с тем, считал в частности Л. Карсавин, идеократическая власть должна учитывать стихийные народные настроения. Такой строй, опирающийся на идеократические принципы и одновременно признающий народные интересы, евразийцы называли демотическим.
Конечно, они были государственниками (этатистами). Ослабление государства – синоним упадка личности и народа [8: с. 189]. Тем не менее, выступали за сочетание государственных и личностных начал. Но социальная жизнь должна, по их мнению, развиваться под знаком религиозности. Человек – образ и подобие Божие, вносящий божественную гармонию в окружающий хаос.
Апелляция к религии, пожалуй, – наиболее спорный момент в концепции евразийцев. На евразийском пространстве сосуществуют три мощных религиозных конфессии: православие, ислам и буддизм, а также ряд других менее влиятельных. Ни одна из них не может претендовать на определяющую интегрирующую роль в одном государстве Россия—Евразия. Все конфессии должно уважать, поддерживать, помогать друг другу, толерантно взаимодействовать.
В любом случае, в современном государстве не может быть государственной религии. Утверждение: быть русским – значит быть православным (Н. С. Трубецкой) – неприемлемо, на наш взгляд. Оно может привести к религиозной (и социальной) вражде.
По многим вопросам у евразийцев не было единства. Н. О. Лосский критиковал Л. Карсавина за антиперсонализм, за отрицание истинно вечной индивидуальной уникальности как абсолютной ценности, за то, что он рассматривал личность как бессознательное орудие «хитрого» Духа. Г. В. Флоровский находил в учении Карсавина философскую основу утопизма. Проблема, по Флоровскому, состоит в том, что так называемое «органическое мировоззрение» рассматривает дух не как сверхприродный Абсолют, а как развивающийся по собственным «природным» законам.
Не борьба Бога и дьявола в сердцах людей, а борьба «нового» со «старым» станет определять ход истории. И как следствие, проблемы истины, добра, красоты отступят перед проблемами политическими. Главное же, по Флоровскому, не политика, а культура. Поэтому «От грохота вселенской бури не подобает преждевременно и малодушно впадать в апокалипсический транс. Это еще не последние времена. Метафизическая буря бушует издревле, а чуткий слух во все времена первым слышит ее и сквозь пелену благополучия. Хронологический предел не любопытен для углубленного духа», – заявлял Г. В. Флоровский [15]. Кроме того, Флоровский считал, что П. Савицкий и другие растворяют историю в «территории», в «месторазвитии» и недооценивают народ в качестве подлинного исторического субъекта. Позднее Л. П. Карсавин и Г. В. Флоровский порвали с евразийством, их оттолкнула растущая политизированность этого движения.
В конечном счете, несмотря на разногласия, споры и дискуссии, евразийское движение отражало мироощущение влиятельной группы русских интеллигентов, прежде всего тех, кто оказался за рубежом. Вера в Россию, в то, что она может раскрыть подлинную общечеловеческую правду, рождала в их душах надежду и веру, придавала высокий духовный смысл их жизни и деятельности.
Именно поэтому Россия призвана изречь окончательное слово общей гармонии, братского согласия всех племен по Христову евангельскому закону! Эти идеи великого писателя Ф. М. Достоевского никто из русских: ни евразийцы, ни приверженцы других концепций и движений, конечно же, не будут отвергать. Другое дело: готовы ли мы сегодня к всечеловеческому единству и братству?
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+4
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе