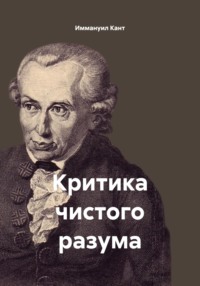Читать книгу: «Критика чистого разума»
Предисловие ко второму изданию.
(адаптированный перевод с комментариями для учебных целей)
Введение в проблему
То, следует ли изучение познания, относящегося к сфере разума, надежным путём науки или нет, можно быстро оценить по результату. Если после множества подготовительных шагов исследование заходит в тупик или вынуждено постоянно возвращаться назад и искать новые пути, если невозможно достичь согласия среди исследователей относительно метода достижения общей цели – то можно быть уверенным, что такое изучение ещё далеко от научной строгости и представляет собой лишь беспорядочные поиски. Уже заслуга перед разумом – по возможности прояснить этот путь, даже если придётся отказаться от многого, что изначально казалось важным.
Логика как образец научности
Логика с древнейших времён шла по верному пути, что видно из того, что со времён Аристотеля она не сделала ни шага назад (если не считать избавления от излишних тонкостей или уточнений формулировок, что относится скорее к изяществу, чем к надёжности науки). Примечательно, что она также не продвинулась вперёд и кажется завершённой. Попытки некоторых современных авторов расширить её за счёт психологических глав о способностях познания (воображение, остроумие), метафизических рассуждений о происхождении знания или различных видах достоверности (идеализм, скептицизм) или антропологических рассуждений о предрассудках лишь искажают её природу. Логика строго ограничена формальными правилами мышления (независимо от его происхождения или объекта), и смешение её границ с другими науками ведёт не к её обогащению, а к утрате чёткости.
Трудности метафизики.
Метафизика, в отличие от логики, до сих пор не обрела надёжного пути науки. Она старше всех других наук, но её история – это история непрерывных заблуждений и споров. Здесь разум постоянно попадает в тупики, даже пытаясь обосновать законы, подтверждаемые обычным опытом. Метафизика напоминает поле битвы, где ни один философ не смог закрепить своих позиций.
Возможна ли научная метафизика?
Почему же метафизика до сих пор не стала наукой? Возможно ли это вообще? Природа наделила разум стремлением к познанию, но почему он так часто нас обманывает? Или, может быть, правильный путь просто ещё не найден?
Пример математики и естествознания.
Математика и естествознание достигли научной строгости благодаря революциям в способе мышления.
Математика обрела свой путь, когда греки (например, Фалес) осознали, что её истины не выводятся из наблюдения за фигурами, а конструируются разумом a priori.
– Естествознание стало наукой лишь полтора века назад, когда Галилей, Торричелли и другие поняли, что разум должен «допрашивать природу», навязывая ей свои принципы, а не просто пассивно наблюдать.
Коперниканский переворот в метафизике.
До сих пор предполагалось, что наше познание должно соответствовать объектам. Но все попытки a priori расширить знание о них терпели неудачу. Попробуем иначе: допустим, что объекты должны соответствовать нашему познанию. Это подобно идее Коперника, который, не сумев объяснить движение небес, предположил, что наблюдатель движется, а звёзды покоятся.
В метафизике это означает:
1. Если бы созерцание зависело от объектов, мы не могли бы знать о нём a priori.
2. Но если объекты (как явления) зависят от нашей способности созерцания, такая возможность становится понятной.
Критика как метод.
Критика чистого разума – это не система самой науки, а трактат о методе. Она определяет границы и внутреннюю структуру метафизики, показывая, что разум может познать только то, что сам создаёт.
Практическое значение критики.
Критика ограничивает спекулятивный разум, но открывает простор для практического разума (морали). Мы не можем познать Бога, свободу или бессмертие теоретически, но должны постулировать их для нравственной жизни.
Заключение.
Это издание исправлено для большей ясности, но основные положения остались неизменными. Критика – лишь подготовка к истинной науке метафизики, которая должна быть систематической и строгой, как у Вольфа, но предваряться критикой самого разума.
Комментарии кантоведов.
1. О «коперниканском перевороте»
– Н. Лосский: «Кант радикально меняет отношение субъекта и объекта, делая разум активным творцом познания» («История философии», 1911).
– П. Гайденко: «Аналогия с Коперником подчёркивает, что Кант не отрицает реальность вещей, но меняет метод их познания» («Философия Канта и современность», 1974).
2. О свободе и детерминизме
– Э. Кассирер: «Кант разрешает антиномию, разделяя мир явлений (где царствует причинность) и мир вещей в себе (где возможна свобода)» («Kant’s Life and Thought», 1918).
3. О практическом разуме
– С. Франк: «Кант спасает веру, ограничивая знание, но это не агностицизм, а признание иных оснований морали» («Русское мировоззрение», 1925).
Проверочные вопросы
1. Почему Кант сравнивает свою методологию с переворотом Коперника?
2. Как критика разума связана с возможностью научной метафизики?
3. В чём состоит различие между явлениями и вещами в себе?
4. Как Кант разрешает противоречие между свободой и природной необходимостью?
Рекомендуемая литература:
– Асмус В.Ф. «Иммануил Кант» (1973).
– Гулыга А.В. «Кант» (1977).
– Guyer P. «The Cambridge Companion to Kant» (1992).
Введение
Основная цель: Обосновать необходимость критики разума, определить ключевые понятия (априорное/апостериорное, аналитическое/синтетическое знание) и сформулировать главный вопрос философии.
I. О различии чистого и эмпирического познания.
Нет никакого сомнения в том, что всё наше познание начинается с опыта. Ведь каким иным образом познавательная способность могла бы быть приведена в действие, если не через предметы, которые воздействуют на наши чувства и отчасти сами вызывают представления, а отчасти побуждают деятельность рассудка сравнивать их, связывать или разделять, перерабатывая таким образом грубый материал чувственных впечатлений в познание предметов, называемое опытом? Следовательно, во времени ни одно познание не предшествует опыту, и всякое познание начинается с него.
Однако, хотя всё наше познание и начинается с опыта, из этого вовсе не следует, что оно целиком происходит из опыта. Вполне возможно, что даже наше эмпирическое познание представляет собой соединение того, что мы получаем через впечатления, и того, что наша собственная познавательная способность (лишь побуждаемая чувственными впечатлениями) даёт из себя самой. Этот добавленный элемент мы не можем сразу отличить от исходного материала, пока длительная практика не сделает нас внимательными к нему и не научит выделять его.
Таким образом, возникает как минимум один вопрос, требующий более тщательного исследования и не допускающий поспешного ответа: существует ли такое познание, которое совершенно не зависит от опыта и даже от всех чувственных впечатлений? Такое познание называют априорным и отличают от эмпирического, имеющего свой источник апостериори, то есть в опыте.
Впрочем, это выражение ещё недостаточно точно, чтобы полностью передать смысл поставленного вопроса. Ведь обычно говорят о некоторых знаниях, заимствованных из опыта, что мы способны обладать ими или овладеваем ими априори, потому что получаем их не непосредственно из опыта, а из общего правила, которое само, однако, заимствовано из опыта. Например, говорят о человеке, подкопавшем фундамент своего дома: он мог априори знать, что дом рухнет, то есть ему не нужно было ждать опыта, когда это действительно произойдёт. Но всё же полностью априори он этого знать не мог, ведь то, что тела обладают тяжестью и потому падают, когда лишаются опоры, он должен был сначала узнать из опыта.
Поэтому в дальнейшем мы будем понимать под априорными знаниями не те, которые независимы от того или иного опыта, а те, которые абсолютно независимы от всякого опыта. Им противопоставляются эмпирические знания, то есть возможные только апостериори, благодаря опыту. Среди априорных знаний, в свою очередь, чистыми называются те, к которым ничто эмпирическое не примешано. Например, суждение «всякое изменение имеет свою причину» – априорное, но не чистое, поскольку понятие изменения может быть получено только из опыта.
Комментарии кантоведов к разделу «О различии чистого и эмпирического познания».
1. Отечественные исследователи
а) А. Н. Круглов
В своей работе «Кант. Основы критической философии» (М.: Академический проект, 2021) Круглов подчёркивает, что Кант не отрицает эмпирический источник познания, но радикально переосмысляет его структуру. Кант показывает, что даже в самом простом опыте уже присутствуют априорные формы (пространство, время, категории).
Вопрос для проверки: Почему, согласно Канту, нельзя сказать, что априорное познание полностью независимо от опыта?
б) В. А. Жучков
В «Немецкой классической философии» (М.: ИФ РАН, 2018) Жучков обращает внимание на различие между «априорным» и «чистым» у Канта. Чистое познание – это априорное, полностью свободное от эмпирических элементов (например, математические суждения).
Вопрос для проверки: Какие примеры чистого априорного знания приводит Кант?
2. Зарубежные исследователи
а) Пол Гайер (Paul Guyer)
В «Kant» (Routledge, 2014) Гайер анализирует кантовский пример с падающим домом, подчёркивая, что Кант здесь демонстрирует разницу между эмпирической индукцией и строгим априорным знанием.
Вопрос для проверки: Почему знание о падении дома нельзя считать полностью априорным?
б) Генри Эллисон (Henry E. Allison)
В «Kant’s Transcendental Idealism» (Yale University Press, 2004) Эллисон акцентирует внимание на том, что Кант не просто противопоставляет априорное и эмпирическое, а показывает их взаимодействие: априорные структуры делают возможным сам опыт.
Вопрос для проверки: Как, по Канту, априорные формы познания «работают» в эмпирическом опыте?
Рекомендуемая литература
1. Круглов А. Н. «Кант. Основы критической философии» (2021).
2. Жучков В. А. «Немецкая классическая философия» (2018).
3. Guyer P. «Kant» (2014).
4. Allison H. E. «Kant’s Transcendental Idealism» (2004).
Проверочные вопросы для самоконтроля
1. В чём разница между априорным и чистым знанием у Канта?
2. Почему Кант считает, что познание начинается с опыта, но не сводится к нему?
3. Как пример с падающим домом иллюстрирует различие между априорным и эмпирическим знанием?
4. Какие априорные элементы, по Канту, присутствуют в любом опыте?
II. Мы обладаем некоторыми априорными знаниями, и даже обыденный рассудок никогда не обходится без них.
Здесь важно указать признак, который позволит нам достоверно отличить чистое знание от эмпирического. Опыт действительно учит нас, что нечто имеет те или иные свойства, но не говорит, что оно не может быть иным. Если мы находим положение, которое мыслится вместе со своей необходимостью, то это априорное суждение; если, кроме того, оно не выведено из другого, которое само имеет силу лишь как необходимое, то оно безусловно априорно.
Во-вторых: опыт никогда не придает своим суждениям истинной или строгой всеобщности, а лишь предполагаемую и сравнительную (через индукцию), так что правильнее было бы сказать: «насколько мы до сих пор наблюдали, исключений из того или иного правила не встречается». Следовательно, если суждение мыслится с строгой всеобщностью, то есть так, что не допускается никакое возможное исключение, оно не выведено из опыта, а имеет безусловную априорную значимость.
Эмпирическая всеобщность есть лишь произвольное расширение значимости – от той, которая присуща большинству случаев, до той, что относится ко всем (например, в положении «все тела имеют тяжесть»). Напротив, там, где строгая всеобщность по существу принадлежит суждению, она указывает на особый источник познания, а именно на способность априорного знания.
Таким образом, необходимость и строгая всеобщность суть верные признаки априорного знания и неразрывно связаны друг с другом. Однако в их применении иногда легче показать эмпирическую ограниченность суждений, чем их случайность, или же бывает нагляднее продемонстрировать безусловную всеобщность, которую мы приписываем суждению, чем его необходимость. Поэтому целесообразно пользоваться этими двумя критериями порознь, хотя каждый из них сам по себе безошибочен.
То, что в человеческом познании действительно существуют такие необходимые и в строжайшем смысле всеобщие, а значит, чистые априорные суждения, легко показать. Если нужно пример из наук – достаточно взглянуть на все положения математики; если же пример из обыденного употребления рассудка – можно привести положение, что «всякое изменение должно иметь причину». Более того, в последнем случае само понятие причины содержит столь явно идею необходимости связи с действием и строгой всеобщности правила, что оно совершенно исчезло бы, если бы мы попытались (как это делал Юм) вывести его из частого сопутствования происходящего предшествующему и возникающей отсюда привычки (а стало быть, лишь из субъективной необходимости) связывать представления.
Даже без подобных примеров, доказывающих действительность чистых априорных принципов в нашем познании, можно a priori показать их необходимость для самой возможности опыта. Ибо откуда бы опыт вообще черпал свою достоверность, если бы все правила, по которым он протекает, сами были эмпирическими, а значит, случайными? Поэтому их едва ли можно признать первыми принципами.
Впрочем, здесь нам достаточно было показать факт чистого применения нашей познавательной способности вместе с его признаками. Однако априорное происхождение обнаруживается не только в суждениях, но даже в некоторых понятиях. Если от эмпирического понятия тела мы постепенно отнимем все, что в нем есть эмпирического – цвет, твердость или мягкость, тяжесть, даже непроницаемость, – то останется пространство, которое оно (теперь уже полностью исчезнувшее) занимало, и это пространство нельзя устранить.
Точно так же, если от эмпирического понятия любого объекта, телесного или бестелесного, отнять все свойства, известные нам из опыта, все же нельзя отнять то, благодаря чему мы мыслим его как субстанцию или нечто, присущее субстанции (хотя это понятие содержит больше определений, чем просто понятие объекта вообще). Таким образом, вынужденные необходимостью, с которой это понятие навязывается нам, мы должны признать, что оно a priori пребывает в нашей познавательной способности.
Комментарий с привлечением кантоведов.
1. Априорное знание и его признаки.
Кант утверждает, что априорное знание отличается от эмпирического двумя ключевыми признаками:
– необходимостью (мыслится как не могущее быть иным),
– строгой всеобщностью (не допускает исключений).
Эмпирические суждения (например, «все лебеди белые») обладают лишь предполагаемой всеобщностью, поскольку основаны на индукции. Напротив, математические суждения («7 + 5 = 12») или принцип причинности («всякое изменение имеет причину») имеют априорный статус, так как их истинность не зависит от опыта.
Комментарий кантоведов:
– П. Гайденко («Кант и проблема метафизики») подчеркивает, что Кант радикально переосмысливает априорное: это не врожденные идеи, а условия возможности опыта.
– Л.А. Калинников («Кант в русской философской культуре») отмечает, что строгая всеобщность у Канта – это не логическая, а трансцендентальная характеристика, связанная с формами познания.
– H.J. Paton («Kant’s Metaphysics of Experience») акцентирует, что априорные суждения у Канта – это не просто аналитические (как у Лейбница), но могут быть синтетическими (как в математике).
Рекомендуемая литература:
1. Калинников Л.А. Кант в русской философской культуре. – Калининград, 2005.
2. Гайденко П.П. Кант и проблема метафизики // Вопросы философии. – 2009. – № 3.
3. Paton H.J. Kant’s Metaphysics of Experience. – London, 1936.
Проверочные вопросы:
1. Чем априорная всеобщность отличается от эмпирической?
2. Почему принцип причинности, по Канту, не может быть выведен из опыта?
3. Как Кант опровергает юмовский скептицизм в вопросе о причинности?
2. Априорные понятия и их роль в познании.
Кант показывает, что даже в эмпирических понятиях (например, «тело») присутствуют априорные элементы – пространство и категория субстанции. Если последовательно устранять эмпирические свойства (цвет, тяжесть), останется форма чувственности (пространство) и рассудочная категория (субстанция).
Комментарий кантоведов:
– Э. Кассирер («Познание и действительность») указывает, что Кант впервые систематически исследует формальные условия познания.
– В.А. Жучков («Немецкая классическая философия») подчеркивает, что априорные структуры у Канта – это не психологические, а трансцендентальные условия.
– Henry Allison (Kant’s Transcendental Idealism) трактует кантовский априоризм как методологический, а не онтологический.
Рекомендуемая литература:
1. Кассирер Э. Познание и действительность. – СПб., 1912.
2. Allison H. Kant’s Transcendental Idealism. – Yale, 2004.
3. Жучков В.А. Немецкая классическая философия. – М., 2003.
Проверочные вопросы:
1. Какие априорные элементы остаются после устранения эмпирических свойств тела?
2. Почему пространство, по Канту, не может быть эмпирическим понятием?
3. Как связаны априорные понятия и возможность опыта?
Дополнительная литература:
– Hanna R. Kant and the Foundations of Analytic Philosophy. – Oxford, 2001.
– Гулыга А.В. Кант. – М., 1977.
Итоговый вопрос:
Как критика Юма повлияла на кантовское понимание априорного знания?
III. Философия нуждается в науке, определяющей возможность, принципы и границы всех априорных знаний.
Есть нечто гораздо более важное, чем всё предыдущее: существуют знания, которые выходят за пределы всей возможной области опыта и с помощью понятий, которым ничто в опыте не может соответствовать, создают видимость расширения наших суждений за все мыслимые границы.
Именно в этих знаниях, выходящих за пределы чувственного мира, где опыт не может служить ни руководством, ни проверкой, заключаются изыскания нашего разума. Мы считаем их по важности гораздо более значительными, а их конечную цель – гораздо более возвышенной, чем всё, что рассудок может познать в мире явлений. Поэтому мы, даже рискуя впасть в заблуждение, готовы пойти на всё, лишь бы не отказаться от столь важных исследований из-за каких-либо сомнений, пренебрежения или равнодушия. Эти неизбежные задачи чистого разума – Бог, свобода и бессмертие. Наука же, конечная цель которой (включая все её подготовительные изыскания) состоит именно в решении этих вопросов, называется метафизикой. Её метод изначально догматичен, то есть она уверенно приступает к выполнению своей задачи, не проверив предварительно, способен ли разум вообще на такое великое начинание.
Казалось бы, естественно, что, покинув почву опыта, мы не станем сразу возводить здание из знаний, происхождение которых нам неизвестно, опираясь на принципы, источник которых мы не понимаем, – не удостоверившись предварительно в надёжности основания с помощью тщательных исследований. Напротив, следовало бы заранее поставить вопрос: как вообще рассудок приходит ко всем этим априорным знаниям? Какова их сфера, значимость и ценность? Действительно, нет ничего естественнее этого, если под «естественным» понимать то, что разумно и справедливо должно было бы произойти. Но если понимать под этим то, что обычно происходит, то, напротив, нет ничего естественнее и понятнее, чем то, что это исследование долгое время оставалось невыполненным.
Дело в том, что часть этих знаний (например, математические) уже давно заслужила доверие, что порождает благоприятные ожидания и в отношении других, даже если их природа совершенно иная. Кроме того, выйдя за пределы опыта, мы застрахованы от опровержения со стороны опыта. Стремление расширить свои познания настолько сильно, что остановить его может лишь явное противоречие. Но и его можно избежать, если строить свои умозрения достаточно осторожно – хотя от этого они не перестанут быть умозрениями.
Математика даёт нам блестящий пример того, как далеко можно продвинуться в априорном познании, независимо от опыта. Правда, она занимается предметами и знаниями лишь в той мере, в какой они могут быть представлены в созерцании. Но этот момент легко упустить, поскольку само это созерцание может быть дано априори и потому почти не отличается от чистого понятия.
Увлечённые таким доказательством мощи разума, мы не видим границ в его расширении. Лёгкий голубь, рассекающий воздух в свободном полёте и чувствующий его сопротивление, мог бы вообразить, что в безвоздушном пространстве ему леталось бы ещё лучше. Точно так же Платон, считая, что чувственный мир слишком ограничивает рассудок, покинул его и устремился в пустое пространство чистого разума на крыльях идей. Он не заметил, что его усилия ни к чему не ведут, ибо у него не было опоры, точки приложения сил, чтобы сдвинуть рассудок с места.
Но это обычная участь человеческого разума в спекулятивных построениях: сначала завершить здание как можно скорее, и лишь потом проверять, прочен ли его фундамент. Затем мы начинаем искать оправдания, чтобы утешить себя в его надёжности, или вовсе отказываемся от этой запоздалой и опасной проверки.
Однако вот что избавляет нас от тревог и подозрений во время строительства и льстит нам видимой основательностью: значительная часть (а может, и большая) работы разума состоит в анализе понятий, которые у нас уже есть о предметах. Это даёт множество знаний, которые, хотя и являются лишь пояснениями или разъяснениями того, что уже (пусть и смутно) содержалось в наших понятиях, всё же по форме считаются новыми открытиями. По содержанию же они не расширяют наши понятия, а лишь раскладывают их по полочкам.
Поскольку такой метод действительно даёт априорное знание, обладающее надёжной и полезной последовательностью, разум незаметно для себя подменяет его утверждениями совершенно иного рода. К данным понятиям он добавляет чуждые им, причём тоже априорные, – не зная, как он к ним пришёл, и даже не задаваясь таким вопросом.
Поэтому я сразу начну с различия между этими двумя видами познания.
Комментарии с привлечением кантоведов.
1. Ключевые тезисы отрывка
В данном фрагменте из «Критики чистого разума» Кант обсуждает:
– Необходимость науки об априорном знании – метафизики, которая должна определить границы и принципы познания за пределами опыта.
– Проблему иллюзорного расширения разума – стремление выйти за пределы возможного опыта (Бог, свобода, бессмертие) без критической проверки.
– Ошибку догматической метафизики – построение умозрительных систем без предварительного анализа возможностей разума.
– Пример математики – её успехи создают ложное впечатление, что чистый разум может так же успешно действовать в метафизике.
– Критику Платона – за попытку познавать вещи сами по себе без опоры на чувственность.
– Аналитический и синтетический методы – различие между разложением уже данных понятий и расширением знания.
2. Комментарии отечественных и зарубежных кантоведов
а) Зарубежные исследователи:
1. Генрих Генрихович Шпет (влиятельный интерпретатор Канта в России, хотя и не строго кантовед)
– Подчёркивает, что Кант радикально переосмысливает метафизику, превращая её в критику познания, а не в догматическое учение.
– Источник: Шпет Г. Г. «Очерк развития русской философии» (1922).
2. Пол Гайер (Paul Guyer)
– Указывает, что Кант не отвергает метафизику, но требует её трансцендентального обоснования.
– Источник: Guyer P. «Kant and the Claims of Knowledge» (1987).
3. Дитер Хенрих (Dieter Henrich)
– Анализирует кантовскую критику Платона: разум без чувственности теряет связь с реальностью.
– Источник: Henrich D. «The Unity of Reason: Essays on Kant’s Philosophy» (1994).
4. Питер Стросон (P. F. Strawson)
– Считает, что Кант показывает: метафизика возможна только как анализ условий познания, а не как учение о «вещах в себе».
– Источник: Strawson P. F. «The Bounds of Sense» (1966).
б) Отечественные исследователи:
1. Василий Фёдорович Асмус
– Подчёркивает, что Кант впервые ставит вопрос о границах научного познания, что делает его философию актуальной для современной эпистемологии.
– Источник: Асмус В. Ф. «Иммануил Кант» (1973).
2. Теодор Ойзерман
– Анализирует кантовскую критику догматизма: метафизика должна начинаться с критики познавательных способностей, а не с утверждений о бытии.
– Источник: Ойзерман Т. И. «Философия Канта как рациональная теология» (в сб. «Кант и философия в России», 1994).
3. Николай Лосский
– Сравнивает Канта с Платоном: если Платон ищет знание в идеях, то Кант – в условиях их данности.
– Источник: Лосский Н. О. «История русской философии» (1951).
4. Алексей Круглов
– Разбирает кантовское понятие априорного синтеза: математика возможна потому, что опирается на чистые созерцания (пространство и время).
– Источник: Круглов А. Н. «Трансцендентализм в философии Канта» (2018).
3. Рекомендации для изучения
– Основной текст: Кант И. «Критика чистого разума» (Предисловие ко второму изданию, Введение).
– Дополнительно:
– Гулыга А. В. «Кант» (1977) – хорошее введение в философию Канта.
– Cassirer E. «Kant’s Life and Thought» (1981) – классическая биография и анализ.
– Allison H. «Kant’s Transcendental Idealism» (2004) – о различии явлений и вещей в себе.
4. Проверочные вопросы
1. Почему Кант считает, что метафизика должна начинаться с критики разума?
2. В чём ошибка Платона, по мнению Канта?
3. Как математика связана с априорным знанием?
4. Чем аналитическое суждение отличается от синтетического?
5. Почему Кант сравнивает разум с «лёгким голубем»?
IV. О различии аналитических и синтетических суждений.
Во всех суждениях, где рассматривается отношение подлежащего (субъекта) к сказуемому (предикату) (если ограничиться только утвердительными суждениями, так как применение к отрицательным впоследствии не составит труда), это отношение возможно в двух случаях.
1. Предикат B принадлежит подлежащему A как нечто, уже (скрытым образом) содержащееся в этом понятии A.
2. Предикат B полностью лежит вне понятия A, хотя и связан с ним.
В первом случае я называю суждение аналитическим, во втором – синтетическим.
Таким образом, аналитические суждения (утвердительные) – это те, в которых связь предиката с подлежащим мыслится через тождество, тогда как те суждения, в которых эта связь устанавливается без тождества, следует называть синтетическими.
Первые можно также назвать поясняющими, а вторые – расширяющими, потому что в аналитических суждениях предикат ничего не добавляет к понятию подлежащего, а лишь расчленяет его на составные части, которые уже (хотя и смутно) мыслились в нём. Напротив, синтетические суждения прибавляют к понятию подлежащего предикат, который вовсе не содержался в нём и не мог бы быть извлечён никаким анализом.
Пример аналитического суждения:
«Все тела протяжённы».
Это суждение аналитическое, потому что мне не нужно выходить за пределы понятия «тело», чтобы найти связанную с ним «протяжённость». Мне достаточно разложить это понятие, то есть осознать многообразные признаки, которые я всегда в нём мыслил, чтобы обнаружить в нём данный предикат.
Пример синтетического суждения:
«Все тела имеют тяжесть».
Здесь предикат («тяжесть») – нечто совершенно иное, чем то, что я мыслил в простом понятии «тело». Добавление такого предиката даёт синтетическое суждение.
Опытные суждения всегда синтетические.
Все опытные суждения как таковые синтетичны. Ибо было бы нелепо основывать аналитическое суждение на опыте, так как для его составления мне не нужно выходить за пределы своего понятия, а значит, свидетельство опыта здесь излишне.
Например, суждение «Тело протяжённо» установлено априори и не является опытным. Прежде чем обратиться к опыту, я уже имею в понятии «тело» все условия для этого суждения и могу извлечь предикат «протяжённость» по закону противоречия, одновременно осознавая необходимость этого суждения – чего опыт мне никогда не дал бы.
Напротив, хотя в понятии «тело» вообще не содержится предикат «тяжесть», это понятие обозначает предмет опыта через одну из его характеристик, к которой я могу добавить и другие, принадлежащие тому же опыту.
Сначала я могу аналитически познать понятие «тело» через признаки «протяжённости», «непроницаемости», «формы» и т. д., которые все в нём содержатся. Но затем я расширяю своё знание: обращаясь к опыту, из которого я извлёк это понятие, я обнаруживаю, что «тяжесть» всегда связана с указанными признаками, и потому синтетически добавляю её как предикат к понятию «тело».
Таким образом, возможность синтеза предиката «тяжесть» с понятием «тело» основывается на опыте, потому что оба понятия, хотя одно не содержится в другом, всё же принадлежат друг другу как части целого – а именно, опыта, который сам есть синтетическая связь созерцаний (хотя и случайная).
Синтетические априорные суждения.
Но в синтетических априорных суждениях этот вспомогательный источник (опыт) отсутствует. Если я должен выйти за пределы понятия A, чтобы познать другой признак B как связанный с ним, то на что же я опираюсь и что делает этот синтез возможным? Ведь здесь у меня нет преимущества – искать подсказку в области опыта.
Возьмём суждение:
«Всё, что происходит, имеет свою причину».
В понятии «нечто, что происходит» я действительно мыслил существование, которому предшествует время и т. д., и из этого можно извлечь аналитические суждения. Но понятие причины лежит вовне этого понятия и означает нечто отличное от «происходящего», а потому не содержится в последнем представлении.
Как же я прихожу к тому, чтобы утверждать о «происходящем» нечто совершенно иное и – хотя понятие «причины» не содержится в нём – всё же познавать его как необходимо связанное с ним?
Что это за неизвестное = X, на которое опирается рассудок, когда, выходя за пределы понятия A, он полагает, что нашёл чуждое ему предикат B, который, однако, считает с ним связанным?
Опыт не может быть этим X, потому что приведённый принцип («всё, что происходит, имеет причину») не только обладает большей всеобщностью, но и выражает необходимость, а значит, полностью априорен и добавляет второе представление («причина») к первому («происходящее») из одних лишь понятий.
Значение синтетических априорных суждений
На таких синтетических (то есть расширяющих) принципах основывается вся конечная цель нашего спекулятивного априорного знания.
Аналитические суждения, конечно, чрезвычайно важны и необходимы, но лишь для достижения ясности понятий, которая требуется для уверенного и широкого синтеза – то есть для действительного приобретения нового знания.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе