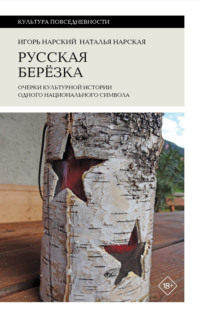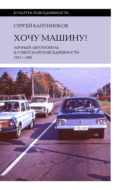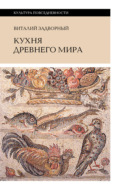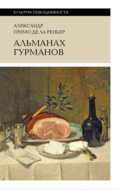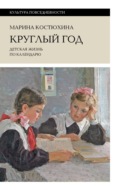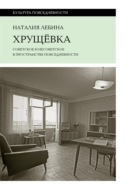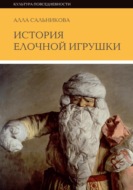Читать книгу: «Русская березка. Очерки культурной истории одного национального символа»
Редактор серии Л. Оборин
На обложке: берестяной настольный светильник, Австрия, 2017 (фото Н. Нарской).
© И. Нарский, Н. Нарская, 2025
© С. Тихонов, дизайн обложки, 2025
© OOO «Новое литературное обозрение», 2025
⁂
Памяти наших матерей
Очерк 1
«Только березку не трогай!»
Предисловие о перипетиях этого исследования (Игорь Нарский)
Наталья: С чего началась вся эта история?
Игорь: С легкого беспокойства.

Общий принцип теории действия в том и состоит, что исполненное действие отличается от задуманного.
А. Щюц, 19711
Эта история началась давно, в разгар перестройки. Мы, 25-летние недавние выпускники истфака юного провинциального университета, частенько собирались в гостеприимной квартире одного из нас, Бориса, и его милой жены Оксаны. То было время больших надежд и открытий. Мы жадно читали и живо обсуждали публикации в центральных газетах и толстых журналах, открывали новые имена и старательно наверстывали знакомство с авторами и текстами, ранее запрещенными. Борис, образованный, пожалуй, лучше всех нас, был душой компании, главным спикером и модератором наших дискуссий. Он додумывал мысли до конца и высказывался однозначно и решительно. В то время как начинающий директор школы Юрий сомневался, можно ли рассказывать школьникам о неожиданных разоблачениях в СМИ непредсказуемого советского прошлого, Борис настаивал на том, что о необратимых переменах в советской политике можно будет говорить только тогда, когда наши войска будут выведены из Афганистана. К его мнению мы прислушивались.

Декоративное панно «Березка». Конец 1970-х – 1980-е
Иногда застольные разговоры и танцы до упаду прерывались ради нового фильма. Не помню, смотрели ли мы вместе литовский фильм «Воскресный день в аду», снятый в 1987 году Витаутасом Жалакявичюсом по собственному сценарию совместно с Альмантасом Грикявичусом и Автандилом Квирикашвили. Фильм повествует о двух беглецах из нацистского лагеря для советских военнопленных, которые вынуждены один день летом 1944 года провести на балтийском взморье, на пляже для отдыхающих офицеров вермахта и СС. В картине есть сцена, где не владеющий немецким Денис (Владимир Богин) вынужден танцевать среди берез с пьяной дочерью епископа Ингеборгой (Ингеборга Дапкунайте), которая едва ворочающимся языком рассказывает не понимающему ее советскому моряку: «Нравятся тебе березы?2 Мой жених писал из России, что там березы, как у нас. Представляешь? Немецкие березы в русской пустыне…»3
Не помню я и того, обсуждали ли мы картину в гостях у Бориса и Оксаны. Но несколько дней спустя после трансляции фильма Борис рассказал мне (мы тогда работали вместе, вернувшись после защиты кандидатских в alma mater) о разговоре с женой. В своих рассуждениях о незавидной судьбе советского патриотизма он упомянул и сцену из фильма, в которой образ «русской березки» оказался не столь уж непоколебимым. Спокойно относившаяся к прочим критическим высказываниям мужа Оксана неожиданно вспылила: «Только березку не трогай!» В тот раз мы беззлобно рассмеялись, да и только. А само выражение стало для нас метафорическим маркером для определения границы, заступать за которую в дискуссии нельзя.
Разговор в конце 1980-х я считаю первым импульсом к проекту, которому посвящена эта книга. Именно тогда, вероятно, я обратил внимание и на собственное внутреннее беспокойство, вызванное покушением на «русскость» березы, и на сильную эмоциональную реакцию участницы диалога, резко оборвавшей его.
Вскоре мне вспомнился эпизод из фильма Жалакявичюса и рассказ Бориса о разговоре с Оксаной. В вагоне московского метро я, как многие в те годы, коротал время за книгой. В тот раз это была повесть Сергея Довлатова «Заповедник». На первых страницах я наткнулся на резкое высказывание писателя о любви к березке: «Я думаю, любовь к березе торжествует за счет любви к человеку. И развивается как суррогат патриотизма…»4 Кажется, тогда я впервые подумал, что любовь к березке в нашей стране достойна специального исследования.
Но сам я исследовать корни привязанности соотечественников к этому дереву не собирался. Лет через двадцать после знакомства с фильмом Жалакявичюса и повестью Довлатова у меня состоялся стихийный разговор во время случайной встречи в салоне самолета. Осенью 2009 года, во время полета в Москву, я расспрашивал о планах на будущее занявшего соседнее кресло моего бывшего студента и аспиранта Александра Фокина. Вот тогда-то я не вполне серьезно посоветовал ему когда-нибудь заняться историей превращения березы в «русское дерево». Через несколько месяцев на небольшой конференции, в которой мы оба принимали участие, я с радостным удивлением услышал выступление Александра о березе как неофициальном символе России. К его вскоре опубликованному тексту мы еще вернемся5. Но мне помнится ощущение некоторого разочарования по поводу незначительности и предсказуемости результатов первого подхода моего ученика к предложенной теме.
В следующий раз к вопросу о березе как возможному исследовательскому объекту я вернулся еще через несколько лет. Во время работы в Мюнхене над книгой о советской хореографической самодеятельности6 у меня произошел разговор с профессором восточноевропейской истории Мартином Шульце Весселем о планах на будущее. На дворе стоял 2014 год, и я подумывал о длительном отъезде из страны. Мартину я назвал тогда несколько тем, которые привлекли бы меня в качестве больших исследовательских проектов. В числе первых в моем списке было две: культурная история березы и история обонятельной культуры в России. Вторая показалась моему собеседнику намного интересней первой, и это решило дело. Я безо всякого сожаления отложил исследование «русского дерева» в пользу ольфакторной истории СССР. Историей запахов я занимался несколько лет, но после отклонения двух заявок в 2015 и 2016 годах от дальнейшей работы над этой действительно богатейшей жилой отказался, ограничившись несколькими выступлениями и программной главой в монографии7.
Примерно с осени 2017 года мой интерес к «березовому проекту» стал приобретать более систематический характер. Я замещал в то время в Мюнхенском университете им. Людвига и Максимилиана профессора Шульце Весселя и для каждого семестра должен был предлагать новые учебные курсы. На летний семестр 2018 года я запланировал семинарский курс «Береза в русской культуре XIX–XX веков, или История символов русского патриотизма». Центральной задачей курса было обсуждение вопроса о том, каким образом береза превратилась в России и в русскоязычных сообществах за рубежом в объект эстетического любования, в инструмент национального воспитания, патриотической мобилизации и ностальгии, с одной стороны, и в аргумент критики квасного патриотизма и китча, с другой. На примере этого конкретно-исторического кейса хотелось больше узнать о возникновении, развитии и функционировании русского национализма, его языка и связанных с ним образов. С того момента я начал собирать все, что могло пригодиться для обсуждения со студентами. Меня интересовали научные, научно-популярные, художественные, поэтические и фольклорные тексты о березе; аудиовизуальные репрезентации березы в качестве дерева, лейбла и символа на картинах, плакатах, в художественных фильмах, музыке; дидактические материалы для внеклассных патриотических занятий в современной российской школе; ностальгические или ироничные высказывания эмигрантов о березе в социальных сетях, недоуменные реакции туристов из России на то, что береза произрастает и любима не только в России. Моя жена Наталья, оставшись в России, с энтузиазмом включилась в поиски материалов и очень помогла мне в подготовке курса.
Хронологически центр тяжести впервые проводившегося в 2018 году курса лежал в XIX столетии. Я был твердо уверен, что в советское время культ березы не нужно было изобретать, поскольку он, как я полагал, вполне оформился до 1917 года и был в готовом виде позаимствован советскими властями. Однако во время работы со студентами я еще раз удостоверился, что преподавание помогает исследователю не только для презентации промежуточных и окончательных результатов научных проектов, но и в самом начале исследования, когда только-только формулируется постановка вопросов и комплектуется источниковая база. Стремительные перемены в моей исходной концепции отразились в прощальном выступлении перед коллегами в Мюнхене весной 2019 года, когда я покидал университет. Для итогового публичного доклада я выбрал «березовую» тему, решив в обозримой перспективе заняться ее исследовательской разработкой. Стержневая идея доклада заключалась в том, что превращение березы в «русское дерево» произошло не в царской России, а в СССР, и особыми импульсами для этого стали Великая Отечественная война и поздний сталинизм. При этом превращение березы в символ России виделось мне как своего рода государственное мероприятие. Я надеялся в этой связи, например, найти партийные, правительственные и министерские решения по поводу присвоения названия «Березка» женскому танцевальному ансамблю (1948) и сети валютных магазинов (1961).
Мой путь из Мюнхена лежал в Ольденбург, где планировалось двухлетнее преподавание в университете под началом профессора Мальте Рольфа. Одновременно я должен был совместно с моим шефом составить заявку на трехлетнее финансирование исследования со стороны главного немецкого научного фонда – Германского исследовательского сообщества. В основу проекта были положены идеи, выработанные в Мюнхене и обогащенные чтением литературы об истории лесов, семинарскими занятиями с ольденбургскими студентами и докладами на коллоквиумах в разных странах.
Два обстоятельства вмешались в исследовательские планы. Во-первых, в результате пандемии коронавируса я с весеннего семестра 2020 года вынужден был преподавать в Ольденбурге дистанционно, вернувшись в Россию. Во-вторых, в конце 2020 года от предполагаемого грантодателя пришел мотивированный отказ. В результате я не только остался дома, но и в обстановке вынужденной самоизоляции приступил в соавторстве с женой к написанию книги о мюнхенском блошином рынке, любительское исследование которого начал во время работы в Мюнхене в 2017–2919 годах. Этой работе было отдано два с лишним года8. В итоге проект о культурной истории березы в очередной раз был отложен.
Итак, у этой книги есть предыстория длиною в четверть века. Предыстория, полная перипетий, крутых поворотов, отступлений, открытий, надежд и разочарований. Конечный пункт этой исследовательской Одиссеи невозможно было предугадать. То, что в конце концов получилось, серьезно отличается от намерений и планов, которые вынашивались в разные годы, от гипотез и образов, грезившихся в разных «гаванях» и манивших в неведомые дали. Пора перейти к тому, что случилось после решения наконец-то приступить к созданию большого исследовательского текста.
Очерк 2
«С чего начинается Родина?»
Вводные ориентиры
Игорь: Я настаиваю, что превращение березы в национальный символ россиян произошло лишь во второй половине ХX века, в годы позднего сталинизма и особенно в период оттепели и «долгих» 1970-х.
Наталья: Да нет же, ее история гораздо старше и богаче.

Русский – тот, кто любит березы.
О. Грязнова, 20129
– Ты откуда?
– Из Германии.
– Правда?
– Да.
Он сел рядом.
– Кто научил тебя арабскому? Муж? – спросил он.
– Да.
– Ты замужем?
Я кивнула.
Исмаил вздохнул:
– Я тоже женат. Тяжело. А ты совсем не похожа на немку.
– А как выглядят немцы?
– Понятия не имею.
– А русские, как выглядят они? – спросила я его.
Он пожал плечами:
– Как люди, которые любят березы.
– А американцы?
– Оглянись, их полно в Палестине.
– А палестинцы?
– Как люди, которые привыкли долго терпеть10.
Этот диалог 27-летняя немецкая писательница Ольга Грязнова вложила в уста главной героини своего дебютного романа Маши Коган и ее нового случайного знакомого – палестинца, бывшего хамасовца Исмаила, которого Маша только что встретила в Рамалле, арабском городе в дюжине километров от Иерусалима. Азербайджанская еврейка Маша Коган, подростком бежавшая в Германию из Нагорного Карабаха, от армянско-азербайджанской войны, принадлежит к поколению молодых мигрантов, которые постоянно пересекают границы, не страдают от ностальгии, но и нигде не чувствуют себя дома. Как выразилась журналистка накануне выхода романа Ольги Грязновой,
они нигде не чужие и нигде не укоренились, они передвигаются так, будто Париж, Франкфурт, Бейрут, Тель-Авив и Нью-Йорк соединены вращающимися дверями, и иногда разговаривают друг с другом так, будто листают свои паспорта11.
Название романа Грязновой, «Русский – тот, кто любит березы», на первый взгляд, абсолютно не отражает его содержания: в нем нет ни одного русского персонажа, действие романа происходит в Германии и Израиле. Тема березы встречается в романе дважды – в эпиграфе, в качестве которого начинающая писательница взяла реплику Александра Вершинина из пьесы Чехова «Три сестры» о том, что «милые, скромные березы» он любит «больше всех деревьев»12, и в приведенном выше диалоге в конце книги.
Роман был сразу замечен. Его встретили многочисленными рецензиями и наградили премиями. Новую волну популярности роман Грязновой приобрел благодаря его экранизации под прежним названием в 2022 году. Относительно «березовой темы» в фильме есть две новации. Фразу Исмаила сценарист Буркхардт Вундерлих и режиссер Пола Бек вложили в уста главной героини, и кроме того, в Израиле ей встречается береза, в которую она вкладывает записку, используя дерево как Стену плача.

Декоративное панно «Пейзаж». 1980-е
Интересно, однако, что ни в романе, ни в фильме, ни в многочисленных рецензиях и интервью с автором причина столь странного выбора названия для книги не объясняется13,14. За неимением прямых объяснений ограничимся предположениями. Для немецкой публики автор романа – русская, хотя родители Грязновой из Баку въехали в ФРГ в качестве контингентных еврейских беженцев. Поэтому название книги немецкие читатели и критики, возможно, восприняли как элемент экзотического внутрироссийского дискурса, не нуждающийся в рациональном объяснении. Часть русскоязычной публики разочаровало содержание фильма, но само название было признано «оригинальным и интригующим» и не вызвало вопросов15.
Эмигрантская ностальгия по «русским березкам», как и другие стереотипные представления о «русскости», наверняка не составляла тайны для Грязновой. Однако очевидно, что пресловутую слабость русских к березкам романистка не разделяет. В одном из интервью она даже прибегает к образу березы как символу утраты корней16. Эфемерность любви к березам в качестве маркера национальной идентичности очевидна и из диалога Маши с Исмаилом. Действительно, палестинец не может по внешнему виду определить немца. Как узнать американцев, которых вокруг полно? Или привыкших терпеть палестинцев? Или, наконец, русских, если они в данный момент не обнимаются с березками, как Егор Прокудин в «Калине красной» Василия Шукшина, и не танцуют в русских сарафанах с березовыми ветками в руках, как плясуньи из ансамбля «Березка»?
И все же. То, что Ольга Грязнова выбрала в качестве названия романа иррациональный стереотип, неубедительный для нее, но настолько привычный и массово распространенный, что он не нуждается в объяснении, правомерно использовать в качестве отправного пункта для расследования происхождения и бытования расхожего клише.
Листопадное дерево береза широко распространено в Северном полушарии и символизирует север так же, как пальма является символом Южного полушария. В мире известно более ста видов березы, половина из которых встречается в России. Поэтому береза как растение и символ входит в культуру повседневности, в мифологию и систему ритуалов различных народов. Почтенный срок знакомства человечества с березой отразился в древней ботанической лексике. Название березы сходно не только в славянских языках (бел. «бяроза», укр. «береза», болг., макед. и србх. «бреза», словен. bréza, чеш. bříza, словац. breza и др. от праславянского *berza), но и у других обитателей Северного полушария (англ. birch, латыш. bērzs, лит. beržas, нем. Birke, норв. bjørk, швед. Björk и др.). Все они имеют общую (в том числе для праславян) индоевропейскую основу *bherәĝos, указывающую на сияние и белый цвет17.
Итак, береза в течение веков была хорошо знакома жителям всего Северного полушария. Как же получилось, что в России она почитается как русское дерево, которое не растет за пределами страны? Почему стереотип о березе как излюбленном дереве для русских, подобно дубу для немцев, клену для канадцев и лавру для греков, в середине ХX века, как мы еще узнаем, разделяли жители чуть ли не всей планеты? Почему образ «русской березы» представляется настолько естественным, архетипическим, что не нуждается в объяснении ни в массовой культуре, ни в науке? Этим вопросам посвящена наша книга.
⁂
Представление о том, что береза символизирует «русскость», является не только бытовым стереотипом, по-разному оцениваемым, но распространенным в эмигрантской среде, внутрироссийском патриотическом и критическом дискурсах. Тезис о «русской березе» и ее вневременной, «архетипической» связи с «национальным характером» и даже «русской душой» встречается, например, в немецких научно-популярных и (около)антропософских публикациях о культурной истории деревьев18. Эти работы не входят в историографическую базу нашего исследования, но представляют собой любопытный факт успеха мифа о березе как о «русском дереве» за пределами России.
Между тем и в солидной научной литературе встречаются отсылки к этому стереотипу, не нуждающемуся, видимо, ни в каких комментариях. Характерно, например, что береза как символ русского, пусть и с долей иронии, встречается в названиях серьезных исследований о сексуальной и массовой культуре в России, авторы которых в самих текстах не обращаются к этому образу19.
Вероятно, распространенность представления о березе как об одном из чуть ли не естественных и вневременных символов России объясняет, почему исследований, историзирующих этот феномен, очень мало. Монографий на эту тему до сих пор вообще нет20,21. Исторический анализ «изобретения» и «успеха» березы как русского национального символа и ее значения для трансформации представлений о коллективной идентичности еще не проводился.
Тем не менее предлагаемая читательскому вниманию книга могла опереться на исследования по ряду тем, имеющих прямое или косвенное отношение к истории русской идентичности. Несколько научных текстов о березе и ее роли в крестьянском быту и российской культуре, написанных историками, лингвистами и этнологами, все же имеется22. К сожалению, в одних текстах о березах интересующий нас вопрос об изобретении и рецепции образа «русского дерева» вообще не поднимается. В других он решается с привлечением известного клише о любви русских к березке. Третьи содержат антикварное собрание разрозненных фактов о популярности березы в России. Отдельные заслуживающие внимания идеи требуют проверки. Так, плодотворный тезис А. А. Фокина о превращении березы в символ благодаря ее репрезентации в различных пластах русской культуры остается гипотезой и нуждается в верификации23.
Кроме того, существуют исследования, посвященные использованию названия «Березка» для нескольких российских институций. Это прежде всего основанный в 1948 году ансамбль народного танца «Березка» и одноименная сеть магазинов для иностранцев, созданная в 1961 году24. Есть основания полагать, что советская культурная дипломатия также сыграла важную роль в распространении клише «русской березки» в Советском Союзе и за рубежом25.
Важный для данного исследования блок составляют труды о деревьях, лесе и пейзаже в рамках культурной истории26, истории лесного дела27, экологии28, «народной» культуры29, литературы30, живописи31. Эти работы позволяют отказаться от экзотизации «национальной карьеры», которую пережила береза в России, и вписать ее в историю изобретения национальных ландшафтов в XIX–XX веках. Исследования повседневной культуры и фольклора русских крестьян показывают центральную (но не исключительную) роль березы в деревенских обычаях и праздниках дореволюционной России. Кроме того, литература по истории лесного дела позволяет предположить, что история превращения березы в национальный символ в известной степени была связана с массовой хищнической вырубкой лесов в европейской части Российской империи и угрозой исчезновения лесов, в которых береза и осина быстро заполняли пустоши и изменяли типы древостоя.
Следующую группу трудов, необходимую для успешной реализации исследования, образует обширная литература по истории и семантике русского национализма и советского патриотизма. Этот тематический блок литературы дает представление о возникновении и распространении национальных образов и символов в царской империи и СССР. Исследования показали, что до Октябрьской революции русский национализм вряд ли смог приобрести широкое общественное влияние. Его роль в формировании коллективной русской национальной идентичности под эгидой СССР, напротив, не вызывает сомнений32.
Механизмы, с помощью которых создавался миф о «русской березе», невозможно исследовать без обращения к работам о культурной политике и массовой культуре в СССР33. Знакомство с ними позволяет выдвинуть гипотезу, что их институты были гораздо более успешны в популяризации символов, формирующих идентичность, в XX веке, чем в XIX столетии.
И все же, несмотря на обилие полезной для данной книги исследовательской литературы, систематический анализ метаморфоз березы в XX веке в качестве «русского дерева», выходящий за рамки отдельных тем, сюжетов и кейсов, остается нерешенной задачей34.
⁂
Предметом исследования в книге является становление и распространение «русской березки» как национального символа России. В центре внимания находится период с 1940-х годов до распада Советского Союза, поскольку, согласно главной гипотезе исследования, именно эти десятилетия оказались определяющими в наделении березы символическим национальным смыслом. Однако хронологические рамки событий и процессов, подлежащих рассмотрению, значительно шире. Следы бытового и символического контакта с березой уходят в городскую российскую культуру XIX века и в сельский быт и мифологию значительно более раннего времени. С другой стороны, пунктирно прослежены последствия досоветских и советских процессов национальной символизации вокруг образа березы в современной России.
Представляется, что изучение возникновения, распространения и циркуляции мифа о березе как национальном «русском дереве» открывает новые перспективы в исследовании концепций российской идентичности и ее символического языка. Как происходило их формирование и когда они утвердились? Какое значение имело дореволюционное наследие в изобретении советской традиции? Какую роль в этом процессе играли государство, творцы культуры и реципиенты их посланий? На примере образов березы можно также выявить преемственность и разрывы в национальной символике.
Размышления вокруг перечисленных вопросов определили «архитектуру» книги. В ней пятнадцать очерков, объединенных проблемно-хронологическим критерием. Каждый очерк (за исключением двух вводных) относительно самостоятелен и посвящен одному конкретно-историческому сюжету, рисующему ту или иную страницу перипетий березы-дерева и/или березы-образа в России XIX–XX веков. В каждом из этих сюжетов поднимаются следующие вопросы: кто участвовал в процессе «национальной прописки» березы и, таким образом, насколько централизованно или децентрализованно он протекал? Как развивалась семантика образов березы? Что обеспечило благоприятную конъюнктуру для превращения образа березы в позитивный символ Родины? В каждом из очерков, насколько позволили источники, представлены создатели образов березы, их репрезентации и рецепция. В итоге во всех очерках читатель встретится с событиями, институтами, идеями и людьми, причастными к изобретению «русского дерева».
За вводно-ориентирующими очерками следует очерк о репрезентациях березы на страницах журнала «Работница». В нем читатель узнает, как из систематического чтения журнала родились или подтвердились некоторые гипотезы и оформились сюжеты, рассмотренные в других очерках. В четвертом очерке авторы забегают далеко вперед и фактически рассказывают историю триумфа «русской березы», начиная с конца – с критического дискурса о березе среди части позднесоветской интеллигенции. В этом очерке мы предварительно обозначаем, откуда этот дискурс родился и что же в репрезентациях березы раздражало их критиков. Очерки с пятого по одиннадцатый построены в хронологическом порядке, насколько это позволял собранный материал. В них рассматривается береза как объект крестьянского быта и мифотворчества, лесоводческого дискурса и репрезентаций национального ландшафта в литературе и искусстве России XIX-ХX веков, дискурсов о национальных ценностях и опыте Великой Отечественной войны, а также роль березы в культуре эмигрантской ностальгии. Двенадцатый и тринадцатый очерки посвящены институтам, которым были присвоены названия «Березка» и которые, как увидит читатель, сыграли важную роль в формировании современных представлений о березе как «русском дереве». В завершающих очерках подводятся итоги исследования и делается экскурс в метаморфозы образов березы в постсоветской и современной Российской Федерации.
⁂
Постановка вопросов и структурная организация книги определили выбор исследовательской оптики, инструментария для анализа и изложения материала. Прежде всего, в книге использована концепция коллективной идентичности, в которой символы, объединяющие сообщество, играют ключевую роль. Исследование ведется в соответствии с подходом, согласно которому социальная и культурная идентичность понимается как продукт интерсубъективной коммуникации и социальных взаимодействий. Сконструированные символы составляют основу специфического для группы кода, который создает коммуникационные мосты между очень разными индивидами «воображаемого сообщества». Результатом таких символических «соглашений» между носителями идентичности является осмысленный «кодифицированный мир». Символы, организованные в согласованный «кодифицированный мир», обеспечивают генезис и существование «воображаемых сообществ»35. Такое понимание функционирования коллективного самоопределения важно для изучения механизмов создания и восприятия образов березы как одного из маркеров русской национальной идентичности.
Для изучения репрезентаций образа березы в массовой культуре полезным концептом является представление о современных мифах Ролана Барта36. Специфика мифа как вербального или визуального послания состоит, согласно Барту, в том, что он стремится «преобразовать историческую интенцию в природу, преходящее – в вечное». Функция мифа состоит в том, чтобы очистить вещи, осмыслить их как «нечто невинное, природно-вечное», чтобы констатировать и воспевать, чтобы скрыть политическое намерение, а не анализировать, объяснять и разоблачать его. При этом Барт разделяет мифы на сильные и слабые, в зависимости от того, сколько усилий нужно приложить для превращения рукотворного в естественное, политического в «невинное». Он приводит пример дерева, для мифологизации которого не нужно прилагать слишком много усилий, создавая искусственную природность: его политическая подоплека «уже вычищена, отделена от нас вековыми напластованиями метаязыка» и выцвела, как старая краска37.
Использование природных элементов в качестве символов создания коллективной идентичности – широко распространенная практика национальных движений. Характеристики, приписываемые ландшафтам, рекам, горам и деревьям, являются культурными суждениями. По убеждению автора культурной истории леса Саймона Шамы, «многие базовые идеи нашей современной жизни – нация, свобода, идеология предпринимательства, диктатура – применяют топографию, чтобы придать своим главным тезисам видимость естественности»38. Описанные подходы были ориентирами при определении круга используемых в исследовании источников и при интерпретации содержащейся в них информации.
⁂
Структурными единицами книги являются автономные очерки. Поэтому историографическая основа и источниковый комплекс для каждого из них также различаются. Эти различия продиктованы, во-первых, уровнем нашей исследовательской компетенции. Сюжеты, требующие специальных знаний, например в области лингвистики, фольклористики, этнографии, лесоводства и искусствоведения, сконструированы с опорой на исследования специалистов39. Во-вторых, состав источников, использованных в отдельных очерках, зависит от степени изученности той или иной темы. Так, очерк о валютных магазинах «Березка» основан на исследовании Анны Ивановой40 с акцентом на расследовании семантических особенностей образа березы в 1950–1980-е годы. Практически не разработанный историками сюжет об ансамбле танца «Березка», напротив, основан преимущественно на архиве этого танцевального коллектива (РГАЛИ. Ф. 2934). В-третьих, круг привлеченных к исследованию источников определяется спецификой изучаемой темы. Например, очерк с обзором репрезентаций березы на страницах журнала «Работница» почти полностью опирается на публикации из этого журнала. В очерках с седьмого по одиннадцатый, в которых речь идет о формировании образов березы в литературе и искусстве, более интенсивно использованы поэтические и живописные артефакты.
Вместе с тем, несмотря на специфику источниковой базы разных очерков, есть сходство в подходах к их организации. Из-за необозримого количества источников, в которых можно было бы найти ценную информацию, а можно было и ничего не найти, пришлось использовать их выборочно и с различной интенсивностью. Физически невозможно, например, не только систематически исследовать 170 000 единиц хранения и оцифрованных текстов, изображений, аудио– и видеоматериалов, так или иначе репрезентирующих березу, которые доступны читателям Российской государственной библиотеки, но и шапочно познакомиться с ними. Обилие артефактов и упоминаний березы в СМИ, художественных, публицистических, научно-популярных текстах, в дневниках и воспоминаниях демонстрируют приложения к тексту исследования41. С другой стороны, как выяснилось (и наглядно показано в приложениях), российские источники по времени создания распределены крайне неравномерно. Они чаще относятся к ХХ столетию, чем к XIX, а в ХX веке сосредоточены преимущественно во второй его половине. Там, где, исходя из привычных стереотипов, ожидались программные и серийные репрезентации березы – в фольклоре, классической литературе и живописи, – приходилось вести поиски с лупой в руке, как криминалисту на предполагаемом месте преступления. Применительно ко второй половине ХX века пришлось изменить масштаб исследования – сменить, переворачивая метафору микроисториков, микроскоп на телескоп, изучать не отдельные артефакты, а совокупности, меньше дифференцировать, больше обобщать. В результате мы воспользовались археологическим методом, к которому в аналогичной ситуации несметных источниковых кладов в неопределенных местах залегания прибегнул исследователь «советского века» Карл Шлёгель. Принцип работы историка недавнего (советского) прошлого подобен закладке разведывательных шурфов. Такой способ работы связан с отсутствием точного плана действий на местности и с неизбежным риском не найти ничего. Шлёгель отказывается от применения каких-либо ограничений, систематизаций или иерархизаций в процессе сбора, отбора и интерпретации материала. Вместо этого, по его мнению,
Начислим
+13
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе