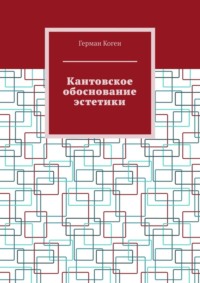Читать книгу: «Кантовское обоснование эстетики», страница 7
Таким образом, можно понять, что Винкельман связывал с понятием необозначенности, которое он как понятие не эксплицировал, представление: оно должно обозначать ту линию, которая, подобно эллипсу, хотя и замкнута в себе, тем не менее представляет наибольшее многообразие исходящих друг из друга линий.
Такое исхождение, такое «соизмерение» могло бы, казалось, изображать и прямую; однако она бесконечна. Круг же, будучи замкнутым, имеет свой центр и потому не может, как эллипс, представлять излучение большого и закономерного многообразия линий.
Таким образом, необозначенность способна в некоторой степени прояснить методическую ценность эллипса.
Теперь более не существует отношения подчинения между прекрасным и идеалом; ведь не только египетские фигуры идеальны: даже греческие, хотя и не нарисованы прямыми линиями и углами, также идеальны. «Как пчела собирает с многих цветов» или «как искусный садовник, прививающий различные отростки благородных видов к одному стволу», так и «мудрые художники» греков стремились «соединить прекрасное из многих прекрасных тел». Здесь вновь появляется Бернини: «Бернини вынес весьма необоснованное суждение, когда считал выбор прекраснейших частей… нелепым и вымышленным, ибо он воображал, что определённая часть или член гармонирует лишь с тем телом, которому принадлежит. Другие не могли мыслить иначе, как в категориях индивидуальной красоты», – и он разоблачает их порочный круг: «их тезис таков: древние статуи прекрасны, потому что подобны прекрасной природе, а природа всегда будет прекрасной, если подобна прекрасным статуям. Первое утверждение истинно, но не в отдельности, а собранное (collective), второе же ложно: ибо трудно, даже почти невозможно, найти растение, подобное Ватиканскому Аполлону». Теперь, как мы видим, мысль достигла чисто методического понимания: что искусство превосходит природу, а именно «collective», в целом, благодаря «выбору частей», следовательно, через идеал, через «необозначенность» (Unbezeichnung).
Прежде всего, выбор получает значение. «Этот выбор прекраснейших частей и их гармоничное соединение в одной фигуре порождал тождественную красоту, которая, таким образом, не является метафизическим понятием, так что идеал присутствует не во всех частях по отдельности, но может быть высказан лишь о целом облика. Ибо по частям в природе встречаются столь же высокие красоты, какие только искусство могло создать, но в целом природа должна уступить искусству». Теперь противопоставление природы и искусства действительно преодолено, без того чтобы понятие идеала рисковало погрузиться в неясность, в «метафизическое понятие»: в «целом» природа уступает искусству. Целое создаётся через выбор частей. Как целое, а не как собрание частей, «особенно» присутствующих в одном индивиде, мыслится идеал.
С этой высоты понимания упрёк Рафаэлю также обретает более определённую форму. Ему не нужно было бы создавать свою Галатею по «некой Idea, которая даёт лишь воображение». Он не боится утверждать, что такое «суждение проистекает из недостатка внимания к тому, что прекрасно в природе». В отдельных частях, например, даже в лице, в природе есть более прекрасное, чем Галатея Рафаэля; но в целом нет ничего прекраснее Ватиканского Аполлона. Противоречия, которые даже Юсти признаёт в высказываниях Винкельмана в этом отношении, таким образом, для Винкельмана справедливо отсутствуют: лишь в отдельности природа прекраснее искусства, но не в целом.
Однако сила искусства заключается вовсе не в отдельном; красота не является исключительно или преимущественно индивидуальной, но идеальной. А идеал заключён в целом облика. Эту тенденцию выбора обозначает «необозначенность». И сила этой тенденции должна заключаться в эллипсе. Переведённый с языка методических понятий в историю пластики, идеал, проявляющийся в «необозначенности», которая действует в эллипсе и методически осуществляется, распознаётся в выдающихся воплощениях идеала. Прежде всего, это юношеская фигура, которая характеризуется как идеальная. «Но поскольку в этом великом единстве юношеских форм их границы незаметно перетекают одна в другую, и для многих точная точка высоты и линия, её очерчивающая, не могут быть точно определены, то по этой причине изображение юношеского тела, в котором всё есть и должно быть, но не кажется и не должно казаться, труднее, чем мужской или зрелой фигуры, ибо в последней природа завершила формирование своего строения, следовательно, определила его, в первой же начинает вновь разрушать своё здание, и потому в обоих связь частей явственнее предстаёт перед глазами; в юношеском же теле формирование словно оставлено неопределённым между ростом и завершённостью». Таким образом, идеал юношеского облика заключается в «необозначенности», которую он воплощает, тогда как зрелый облик уже явно демонстрирует «связь частей» и потому более не соответствует идеальному требованию искусства.
Как таковая «необозначенность», юность богов представляет то, что должна представлять: неизменность божественной сущности.[54]
Это формирование идеала, создание целого облика через выбор частей, Винкельман иллюстрирует на примере фигур, возникающих от соединения полов и даже от соединения человека и животного. Сверхнатурализм, который, как в характеристике гермафродитов, должен был вызвать возражения, вернее, следовало бы назвать инфранатурализмом, объясняется этой чрезмерностью методической мысли, в силу которой он определяет идеализацию.
Между тем методическая сила этой мысли простирается дальше и глубже: идеальное целое становится духовной природой – не в догматическом или риторически-спиритуалистическом, а в подлинно идеалистическом смысле: духовный облик, эфирная форма становятся методическим прообразом, предварительным наброском, образцом для создания и нового творения. Хотя «История» уже высказала эту мысль, но лишь в «Trattato preliminare» она получила последовательное развитие.
Пятая книга начинает характеристику формирования юных божеств новыми выражениями для идеи выбора, чтобы через них подчеркнуть творчество, заключённое в выборе. «Это извлечение прекраснейших форм словно сплавлялось, и из этой совокупности, как через новое духовное рождение, возникало благороднейшее создание… Ибо дух разумных существ имеет врождённую склонность и стремление возвыситься над материей в духовную сферу понятий, и его истинное удовлетворение – создание новых и утончённых идей. Великие художники Греции, которые считали себя словно новыми творцами, хотя работали менее для разума, чем для чувств, стремились преодолеть грубый предмет природы и, если бы это было возможно, вдохнуть в неё жизнь». Так возникли «образы высших натур», так возникла «духовная природа», «превосходящее человечество создание», для чего он ссылается на «Софиста» Платона.[55]
Наконец, он поясняет «божественную самодостаточность» мнением Эпикура, который даёт богам тело, но словно тело, и кровь, но словно кровь, что Цицерон находит тёмным и непонятным». Здесь, таким образом, «итальянский идеализм» вознёсся до кажущегося отрицания пластической основной мысли: тело должно быть лишь «словно телом». «С такими понятиями природа возвышалась от чувственного к несозданному». Так возникли фигуры, «которые кажутся лишь оболочками и облачениями мыслящих духов и небесных сил».[56] И если от героев вновь восходить к богам, «то это происходит более через убавление, чем через прибавление, то есть через постепенное отделение того, что угловато и сильно обозначено самой природой, пока форма не утончится настолько, что кажется, будто в ней действовал один лишь дух».[57] Здесь мы видим неоплатоническую идею как духовную форму, безоговорочно признанную и принятую. В то время как идеал исходит из преодоления исключительно индивидуального, он сам, чтобы оставаться идеалом, а не идеей, должен вновь реализоваться в индивиде. Это неизбежное требование признаётся и выполняется здесь в «духовной природе», в «quasi corpus».
Наконец, в характеристике стилей он возвращается к этому обозначению для образов высокой красоты. Их отличительной чертой у Ниобы является не видимость твёрдости, а «словно вновь созданное понятие красоты».[58] «Эта красота подобна идее, полученной не через чувства, которая могла бы быть порождена в высоком разуме и счастливом воображении, если бы оно могло приблизиться к божественной красоте; в таком великом единстве формы и очертания, что она кажется не с трудом созданной, а пробуждённой, как мысль, и словно выдохнутой с одним дыханием». Обычный взгляд, с помощью чувств и разума, а иногда и воображения, порождающий идею, образ, не удовлетворяет его стремлению к методическому пониманию, соответствующему его предметному воодушевлению: он хочет, чтобы «единство формы и очертания» было объяснено. Но это требование означает ничто иное, как центральную проблему познания: отношение геометрических форм к материальному телу.
Этот сложнейший пункт, суммирующий все вопросы и касающийся всего познания, а не только познания прекрасного, Винкельман обсуждает в Trattato. Как и в «Истории», он и здесь исходит из красоты в Боге и понятий единства и простоты, называет возникающие части «изменениями единства» и уже в самом единстве усматривает «неопределённость» (Unbezeichnung). Эта мысль, хотя, возможно, и не столь сдержанно выраженная, присутствует и в «Истории». Однако новое здесь заключается в следующем.
В §10 он различает в единстве материальное и моральное. Последнее относится к выражению и связано с положением фигур. Материальное же единство относится к формам и должно оцениваться по степени их взаимосвязи, их единства с формами. «Материальное единство, которое мы можем также назвать линейным», он описывает здесь как то, что порождает идеальную красоту. Оно способно, соответственно, изображать юность; «ибо здесь единство тем больше, чем больше линии, необходимые для формирования юношеской фигуры, хотя и отклоняются от прямого направления и склоняются к эллипсам, тем не менее, будучи образованы эксцентрическими дугами окружностей, столь плавно перетекают одна в другую, что их можно сравнить с поверхностью моря, не возмущаемого ветрами, о котором, хотя оно и находится в постоянном движении, всё же говорят, что оно спокойно. Это единство контуров, определённое мною, особенно искали греческие художники»[59]. Здесь он определяет это единство контуров как материальное единство, как единство тела.
Таким образом, выражения «фигура» и «форма» приобретают полное идеалистическое значение: геометрическая форма, фигура становится условием материальной формы, телесного содержания. Отрицательно он выражает эту мысль ещё яснее, указывая на большую опасность ошибок в юношеской фигуре: где «малейшее отклонение от контуров… где даже малейшая тень, как принято говорить, становится телом»[60]. Как следует избегать этого «теневого тела», так и правильная линия порождает тело.
Это выражение материального единства, эта сформулированная в виде афоризма мысль об отношении контура к материальной форме приводит его затем к характерному изменению сравнения с идеальными фигурами: что они «подобны эфирному духу, протянутому сквозь огонь», «так что их внешняя сторона как будто служит телом эфирному существу, ограниченному в крайних точках и облачённому в человеческий облик, но не участвующему ни в материи, из которой состоит человечество, ни в человеческих нуждах. Таким образом оформленное существо поясняет мнение Эпикура» о quasi corpus.
Если сопоставить это высказывание с основной мыслью Винкельмана о том, что красота есть красота рисунка, то тот, кто знаком с последними достижениями критики познания, не сможет не признать, что здесь пробивается к ясности нечто большее, чем неоплатоническая призрачная идея. «Внешняя сторона служит телом», правда, «эфирному существу», но такому, которое «ограничено в крайних точках и облачено в человеческий облик», следовательно, определяется лишь геометрической формой, «не участвуя при этом в материи». Таким образом, материя здесь снята в форме, так что теперь форма действительно возвысилась над материей в идеале.
Так глубоко проникает идеалистический импульс в исследовательский дух Винкельмана. Но поскольку философская школа не могла помочь ему достичь более ясного и уверенного понимания, мы понимаем, почему он не смог изложить и обосновать свою точку зрения проще, убедительнее и наставительнее. И теперь мы вкратце укажем на то, что следует признать недостатком – отсутствие ясности и определённости мысли.
Недостаток ясности его понимания проявляется, что касается материальной красоты, в его характеристике цвета.
Нередко фигура относится как к цвету, так и к форме[61]. Ведь цвет – это природное явление, которое как таковое должно быть способно к идеализации. Рафаэль отнюдь не только художник рисунка; Леонардо и Андреа дель Сарто, которых Винкельман так высоко ценит, не менее искусны в цвете, чем в рисунке, и притом являются идеалистами. Даже для ваятеля голубовато-белый цвет мрамора – момент красоты. И как в природе нет линий без цвета, так и выбор, и творение, «неопределённость» и «эфирный дух» должны проявляться в цвете. Винкельман перед навязчивой самостоятельностью колорита отстаивал позицию методиста, позицию belleza lineare. Однако то, что он не просто отодвинул цвет на второй план, но порой, казалось, вовсе исключил его, в этом перегибе принципа линии проявляется недостаток понимания методической ценности линейного принципа: а именно, что он сам должен быть распространён на цвет и соотнесён с ним.
Однако ближе нам, пожалуй, другая односторонность, касающаяся характеристики моральной красоты – красоты выражения.
И здесь можно увидеть верную тенденцию: как для рисунка он требует линии ради «чистой» красоты, так для выражения в самом движении – покоя, тишины, которую он так впечатляюще описывает как морской штиль[62]. «Покой есть у людей и животных состояние, которое делает нас способными исследовать и познавать истинную природу и свойства их, подобно тому как дно рек и морей открывается лишь тогда, когда вода спокойна и неподвижна, и потому искусство также может выразить истинную сущность их лишь в тишине»[63]. Таким образом, покой, подобно линии, мыслится как основа и инструмент для создания красоты выражения. И это правильно и остаётся таковым.
Конечно, наряду с идиллией есть трагедия, и над мощью Эсхила Винкельман, пожалуй, недостаточно оценил его красоту, его простую грацию в величии, подобно тому как он и Микеланджело оценивает менее справедливо, чем Рафаэля. Право выражения, безотносительно – по крайней мере, в первую очередь – к красоте формы, право мощного, потрясающего, морального движения коренится в самой проблеме морального. Конечно, следует признать, как греческий художник в Лаокооне, как сам Эсхил в «Ниобе», соразмерил выражение «так, чтобы красота преобладала»[64], так что она «язык на весах выражения»[65]. Но недостаточно, когда он говорит: «красота без выражения могла бы показаться незначительной, а выражение без красоты – неприятным, но от действия одного на другое и от сочетания двух противоположных свойств рождается трогательное, красноречивое и убедительное прекрасное». Наряду с трогательным прекрасным требует признания потрясающее прекрасное, обличающее – наряду с убеждающим, предостерегающее – наряду с красноречивым. Мир борьбы и страстей требует самостоятельного, признанного, идеализированного выражения и не довольствуется растворением в блаженстве покоя ни преображением в мир, который красота сама по себе способна создать на весах справедливости. Он сам должен вступить в отношение к нравственным вещам, из которых поднимаются страсти; он не должен претендовать на существование рядом с нравственностью как нечто совершенно самостоятельное и независимое, но должен быть признан в своей принадлежности к сфере нравственного. Страсти – не ветры, которые извне волнуют море, а волны, в которых движутся горы и долины характера. Подобно рисунку, нравственное законодательство также должно порождать красоту, высшую природу, духовную форму. И как в рисунке прямой линии недостаточно, так и в сфере нравственного покоя недостаточно. Для измерения моря, конечно, нужен штиль. Но страсти – не просто природа, они принадлежат к сфере морального. Лот должен погрузиться в их бурные волны, если они должны быть изображены как искусство. Конечно, красота должна оставаться господствующей, но расширенная красота, развитая из царства нравственного, а не только из царства природного и возвышенная над чувственностью природы.
Винкельман не признал самостоятельность нравственного начала по отношению к прекрасному; не понял, что нравственное является элементом прекрасного ничуть не менее, чем природа, и потому не развил далее его принцип – рисунок ради идеала. В этом заключается методологический недостаток его эстетического энтузиазма, его пластической автаркии. Это причина глубокого изъяна в его положении о Боге как источнике красоты. Линейная красота совершенно не принадлежит к понятию Божества. А моральная красота должна быть определена через позитивное признание, если теософское выражение должно содержать этическое значение и, следовательно, эстетическое обоснование. В этом также заключается опасность тезиса: «непоколебимо твердое во мне убеждение, что добро и прекрасное суть одно и то же»[66].
Значение нравственного как самостоятельного элемента красоты, как элемента, который положен в основу прекрасного в качестве предпосылки, а не совпадает с ним или даже не творится им, как одного из звеньев, в соотношении которых красота существует и осуществляется, – это принципиальное значение нравственности для искусства Винкельман не осознал. Поэтому он лишь терпел выразительную красоту и поместил ее в Бога, вернее, в богов, которые пребывают в блаженном покое, свободные от трагических страданий и их разрешения в мире людей.
В заключение схематически сведем основные понятия:
Единство:
Линейность – Материальность
Эллипс – Простота
Неопределенность – Юность
Идеал – quasi corpus.
Заслуга Винкельмана перед эстетикой состоит прежде всего в характеристике идеала; но он так проникновенно, а также неоднократно обозначил и описал «внутренний смысл», «внутреннее чувство» и «ощущение»[67], что должен был дать более глубокий импульс для психологических ориентировок в сфере эстетики.
«Что касается немецкой философии, то первым воспользовался элементами Винкельмана для своей теории Мендельсон, вплетя учение об идеале в свою эстетику»[68]. Это влияние заметно не только в отношении психологической терминологии у Мендельсона, но и в отношении всего соотношения философского интереса к искусству. Однако этот интерес не может быть выявлен и утвержден более определенно и решительно, чем через упорядочение отношения природы и искусства.
До первой работы Винкельмана вышли «Письма об ощущениях» Мендельсона (первое издание – 1755). В пятом из них из смешения Мопертюи красоты с совершенством делается вывод, что «удовольствие от чувственной красоты, от единства в многообразии, следует приписать исключительно нашей неспособности. Существа, наделенные более острыми чувствами, должны находить в наших красотах отвратительное однообразие… Так неужели Творец не испытывает удовольствия от прекрасного? Неужели Он даже не предпочитает его безобразному? Я утверждаю: нет; и природа, дело Его рук, должна свидетельствовать в мою пользу. Лишь внешнюю форму вещей Творец одарил чувственной красотой. Они предназначены воздействовать на чувства других существ как нечто прелестное»[69]. Соответственно, красота противопоставляется как «земная Венера» небесной, а именно «превосходнейшему совершенству». Та «основана на ограничении, на неспособности»; это «основывается на положительной силе нашей души… и настолько, насколько положительная сила возвышается над своей ограниченностью, настолько удовольствие от постижимого совершенства превосходит удовольствие от чувственного, или, как мы, земные, его называем, удовольствие от красоты».
Это назидательное принижение красоты не содержит ничего неожиданного, оно последовательно в системе, которая делает смутное представление наследственным уделом всего прекрасного. Конечно, автор системы не страдал от этой последовательности; он не отказывался от права красоты в природе. Низкий уровень «Писем об ощущениях» заключается в том, что отношение искусства к природе, а следовательно, подлинное, самостоятельное и положительное основание эстетического «удовольствия» еще не найдено. В этом главном вопросе ничего не меняет и «Рапсодия, или Добавления к письмам об ощущениях», впервые опубликованная во второй части «Философских сочинений» в 1761 году.
Подлинно эстетическое сознание впервые обнаруживается в трактате «О главных основаниях изящных искусств и наук». «Красота есть самодержавная властительница всех наших ощущений, основа всех наших естественных побуждений и одушевляющий дух, превращающий умозрительное познание истины в ощущения и побуждающий к деятельной решимости. Она пленяет нас в природе, где мы встречаем ее первоначально, но в рассеянном виде, и дух человека научился воспроизводить и умножать ее в произведениях искусства»[70]. Одно слово «рассеянно» выдает влияние Винкельмана. И так же, как тот уже подчеркивал круг в слове о подражании прекрасной природе, Мендельсон возражает Баттё, который делает это, «как до него многие уже утверждали», принципом прекрасного: «Подражание природе есть единственное средство нравиться. Может быть! Но что же здесь становится понятнее? Разве природа не нравится и без подражания? Какими же средствами величайший художник добился того, чтобы нам нравился оригинал?… Мы повторяем, следовательно, наш вопрос, и притом в более общем виде: что общего между красотами природы и искусства, какое отношение имеют они к человеческой душе, благодаря которому они ей так нравятся?»[71]
Здесь признается красота природы; но первоначальной красотой считается красота искусства, природа в отношении понятия красоты мыслится как своего рода искусство, и обе выводятся из души. Эстетическая теория Мендельсона есть плод его психологии, каковым, возможно, был и его первоначальный интерес. «Возможно, то, что известно о нашей душе из теории, приближает нас к нашей конечной цели». Таким образом, он стремится к связи между душевными силами, в особенности также к связи с «способностью желания». Лейбницевское понятие совершенства он истолковывает как совершенство, выводимое из взаимодействия душевных сил, как «совершенство художника»[72]. «Произведения искусства суть видимые отпечатки души художника… Это совершенство духа возбуждает несравненно большее удовольствие, чем простое сходство». Правда, это отношение искусства к художнику сначала истолковывается физико-теологически, направляется на совершенство божественного мастера; однако акцент ставится на гении. «Гений требует совершенства всех душевных сил и их согласованности для единой конечной цели».
Из этого нового значения совершенства обозначается как «сущность изящных искусств» (правда, также «и наук»): «представленное через искусство чувственное совершенство»[73], то есть совершенство гения, художника.
Но это совершенство художника проявляется в создании идеальной красоты через расширение и возвышение природы. «Возможно ли, чтобы ограниченное пространство, которое мы можем наблюдать в природе, чтобы это пространство, поскольку оно воздействует на наши чувства, исчерпывало все свойства идеальной красоты?… Что природа рассеяла в различных предметах, он собирает в единой точке зрения. Ничто иное не означают обычные выражения художников: украшать природу, подражать природе и т. д. Они хотят изобразить определенный предмет так, как его создал бы Бог, если бы чувственная красота была его высшей конечной целью… Это есть совершеннейшая идеальная красота, которая в природе встречается нигде, кроме как в целом… Художник должен, следовательно, возвыситься над обычной природой… Фигуры природы знатоками ваяния ставятся ниже антиков»[74].
Так явно Мендельсон выказывает влияние Винкельмана, даже помимо различия между «рассеянно» и «в целом», как он и цитирует Винкельмана прямо[75].
Мендельсон исходил из пренебрежения красотой природы, а именно – по сравнению с совершенством природы, доступным лишь разуму. Однако идеализация позволила ему распознать красоту искусства как опосредованное совершенство, а именно – переданное через мастерство художника. И, отправляясь от идеализации художника, он постиг мысль о красоте природы как о том, что «общо природе и искусству»; научился понимать, что и при восприятии красоты природы «необходимо делать выбор». Таким образом, была установлена фундаментальная значимость идеала как основного эстетического понятия для природы и искусства. И это установление имеет принципиальное значение, поскольку только благодаря ему, при сохранении всей необходимой связи, становится возможным столь же необходимое различение между эстетикой и моралью. Пока предполагаемая красота природы мыслится как самостоятельная и изначальная, она мыслится по образцу физико-теологического доказательства бытия Божия, при этом собственно эстетическое, самостоятельное остаётся нераспознанным. Если же идеализация признаётся источником прекрасного, то мысль о божественном мастере становится сравнением, тогда как гений превращается в изначальное понятие, объясняющее порождение прекрасного. Однако гений уже мыслится как психологическое выражение для творца, если не исключительно, то преимущественно эстетического. Это уже обозначает истолкование понятия совершенства, с которым оперирует зарождающаяся эстетика, как «совершенства всех душевных сил». Такое объединение всех интересов сознания уже казалось необходимым для эстетического творчества и эстетического чувства.
И всё же в этом требуемом и неизбежно требуемом согласии в развитии душевных сил кроется опасность, что за единством последних своеобразие и творческий характер эстетического сознания не достигнут полной ясности, что гений, скорее, останется мыслимым лишь как продукт, а не как творец особого содержания сознания. Этой опасности Мендельсон противопоставляет другое своё психологическое достижение, которым он обогатил основание эстетики: он вводит или изобретает «способность одобрения» как особую душевную способность.
В «Утренних часах, или Лекциях о бытии Божием», опубликованных в 1785 году, он поясняет в предисловии, что знает «труды Ламберта, Тетенса, Платнера и даже всесокрушающего Канта» лишь «по недостаточным сообщениям друзей или по учёным рецензиям, которые редко бывают очень поучительными», поскольку «так называемая нервная слабость» мешает ему больше читать, чем размышлять. А ближе к концу книги говорится: «Обычно принято делить способности души на способность познания и способность желания, причём ощущение удовольствия и неудовольствия уже относят к способности желания. Однако мне кажется, что между познанием и желанием лежит одобрение, согласие, удовольствие души, которое ещё весьма далеко от собственно влечения. Мы созерцаем красоту природы и искусства без малейшего побуждения к влечению, с радостью и удовольствием. Кажется, скорее, что отличительным признаком красоты является то, что её созерцают со спокойным удовольствием; что она нравится, даже если мы не владеем ею и очень далеки от желания ею воспользоваться… Но поскольку это обладание, как и отношение к нам, не всегда имеет место…, то и ощущение прекрасного не всегда связано с влечением и, следовательно, не может считаться проявлением способности желания. Если бы кто-то, в крайнем случае, назвал направление, которое удерживает внимание на удовольствии, побуждая далее рассматривать тот же предмет, способностью желания, то я, в сущности, не имел бы ничего против. Однако мне кажется более уместным обозначить это удовольствие и неудовольствие души, которые, хотя и являются зародышем влечения, но ещё не самим влечением, особым именем и отличать их от душевного волнения этого имени. В дальнейшем я буду называть это способностью одобрения, чтобы тем самым отделить её как от познания истины, так и от стремления к добру. Это, так сказать, переход от познания к желанию, и оно связывает эти две способности тончайшей градацией, которая становится заметной лишь на определённом расстоянии» [76].
Здесь, во-первых, обретены важные моменты для характеристики прекрасного, такие как «спокойное удовольствие», наслаждение без обладания, без использования и без влечения, разве что к более длительному созерцанию предмета. Но важнее выделение особой душевной способности для ощущения прекрасного, подобно тому как Мендельсон и ранее выделял «чувство» как таковое. Теперь самостоятельность эстетического сознания, казалось бы, проведена и обеспечена; ведь способность одобрения должна быть «отделена как от познания истины, так и от стремления к добру». Однако при более внимательном рассмотрении выясняется, что Мендельсону удалось лишь отличить способность одобрения как «формальное познание» от способности познания как «материального познания». И это различение также немаловажно в своих последствиях. «В сущности, всякое познание уже несёт в себе некий вид одобрения. Любое понятие, поскольку оно просто мыслимо, содержит нечто, что нравится душе, занимает её деятельность и, следовательно, познаётся ею с удовольствием и одобрением… Но если душа может найти в одном понятии больше удовольствия, более приятное занятие, чем в другом, то она может предпочесть его и выбрать. В этом сравнении и в этом предпочтении, которое мы отдаём одному предмету перед другим, заключается сущность прекрасного и безобразного, доброго и злого, совершенного и несовершенного. Это та сторона, где способность одобрения граничит со стремлением или желанием». Однако это уже не «граничение», а повторное слияние недостаточно чётко и осознанно различенного. Прекрасное отделяется от истинного, но не от доброго. Даже в характеристике прекрасного в противопоставлении истинному положительно проявляется действенность доброго, ведь даже сравнение приводит к предпочтению совершенного и, таким образом, возвращается к познанию.
Тождество с добрым, в котором он продолжает мыслить прекрасное, особенно отчётливо проявляется в конце рассуждения и всей книги: «Пока зависит от нас, должно ли что-то стать действительным, это решается нашим одобрением, нашим признанием за благо, и мы удерживаемся от зла, поскольку практически признаём его таковым. Как только зло свершилось и уже не может быть изменено, оно перестаёт быть предметом нашей способности одобрения и тогда возбуждает наше стремление к познанию… Пока мы ещё можем действовать, добро является предметом нашего желания, а наилучшее – предметом нашей практической воли… Одним словом: человек исследует истину, одобряет доброе и прекрасное, желает всего доброго и совершает наилучшее». Таким образом, прекрасное как предмет желания, возможно, ещё мыслится отличным от доброго как предмета воли, но сразу же затем присваивается одобрению как «доброе и прекрасное». Следовательно, Мендельсон не смог определить эстетическое как своеобразное отношение сознания в противоположность моральному, хотя и направлял своё внимание на то, чтобы отделить чувство как от познания, так и от воли. От познания ему это удалось, после того как в идеальной красоте было распознано общее genus и специфическое различие. Для морали подобная идеальность воли до сих пор нигде не была обнаружена. Чтобы открыть эту идеальность в воле, следовало сначала отвлечься от моральной воли, от воли к конечной цели или к счастью, и в методологическом и историческом натурализме помыслить самостоятельность воли. Даже идеальность рисунка была открыта в таком натурализме.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+14
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе