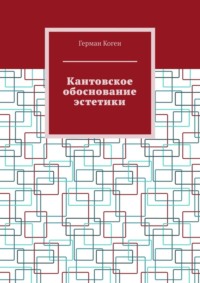Читать книгу: «Кантовское обоснование эстетики», страница 6
Баумгартен не возвышает эстетику как философскую науку над столкновениями с теориями искусства. Как техника искусства эта новая наука казалась недостаточно многогранной, не охватывающей весь объём искусства, а как философская теория – слишком незначительной, чтобы Винкельман мог удовлетворить даже свою философскую потребность из неё. Но и Лессинг очень мало учитывает Баумгартена, даже иногда пренебрежительно на него намекает. Мендельсон тоже редко его цитирует. Вполне справедливо и метко судит о нём Гердер: поэзия благодаря Баумгартену получила в душе «область собственности». Это право собственности стало предварительным условием для обоснования эстетики в мысли: что прекрасное есть область души, продукт сознания, но не познание, не наука.
Какое же деяние обозначает следующий шаг, переход к эстетике? Гетерокосмическое поэтической фантазии оказалось недостаточным, чтобы прояснить отношение между искусством и наукой. Требовалось ли, возможно, универсальное понимание красоты, объединение всех искусств? Исторический ход даёт иной отчёт и иное наставление.
Интерес к прекрасному, к живой природе прекрасного, был вновь пробуждён тем видом искусства, который обращается к душе наиболее непосредственно, потому что в нём душа выражается точнее всего и в то же время наиболее универсально – своим естественным звучанием, своим языком: поэзией, и среди её видов – лирикой, лирическими мотивами в религиозной поэме Мильтона о природе, а также туманной далью древнегерманских эпосов. Эти произведения оживили художественное чувство швейцарцев и направили его на здоровые вопросы. В этом лирическом характере признанных ими эпосов они обнаружили соотношение поэзии и живописи, где сама природа выступает связующим звеном между этими искусствами. Но это соединение поэзии и живописи ещё не даёт соотношения природы и изобразительного искусства. И только через определение последнего можно постичь отношение природы и искусства. Это ведущее, направляющее значение принадлежит пластике.
Лишь из пластики можно понять творческую силу всякого искусства, включая поэзию. Даже люди поэзии предстают как подражания, а не как «телесные дети Божьи», пока не пробудились восприимчивость и понимание природной мощи скульптурных произведений. Пластика сходна с лирикой в том, что представляет непосредственнейший предмет всякого художественного интереса – человека, притом в его истинном природном явлении, в его облике. Её цель определяется так: ui hominem ponat [36]. В этом изображении она превосходит живопись, а в своём материале, возможно, даже её высший природный объект – пейзаж.
Но для понимания пластики, по-видимому, необходима была предварительная историческая осведомлённость о её развитии, что связано с дальнейшим условием – знакомством с классической древностью, увлечением ею, её историографией, поэзией и философией, её религией и образом мыслей, тем φιλοκαλοῦμεν καὶ φιλοσοφοῦμεν (мы любим прекрасное и мудрое), как в перикловом сокращении выражен афинский дух. Лишь через точное и обширное знание сокровищ античной пластики, которые предстояло раскрыть филологическому изучению археологии, интерес к ней мог стать определяющим. Майер ещё выводит эстетику от ναἴσϑω (я ощущаю). Баумгартен цитировал преимущественно места из латинских поэтов, заимствуя их из «Сокровищницы» Гесснера.
Но среди слушателей Баумгартена сидел человек судьбы – Винкельман.
Он «не слушал ни одного балтийского профессора прилежнее, чем Баумгартена» [37]. Однако суждение слушателя не противоречит анализу, который мы попытались провести относительно основы Баумгартена: «великие общие истины… так как они не применялись и не истолковывались применительно к единично прекрасному, растворились в пустых размышлениях». Если бы это действительно были «великие общие истины», они не могли бы потеряться в «пустых размышлениях». Но видно, что Винкельман щедр на признание «великих общих истин», потому что упрекает за недостаток «единично прекрасного» и интересуется прежде всего им.
Это предпочтение единично прекрасного следует понимать буквально, а не по шаблону противопоставления индуктивно-эмпирического ума дедуктивному способу доказательства. Винкельман и в отношении искусства – специалист. «Можно смело утверждать, что у него было мало чувства к красотам архитектуры и живописи» [38]. А о его отношении к поэзии Гёте судит так: «Как бы Винкельман ни учитывал поэтов при чтении древних писателей, при внимательном рассмотрении его занятий и жизненного пути мы не находим подлинной склонности к поэзии; скорее можно сказать, что здесь и там проглядывает даже некоторая неприязнь» [39]. Таким образом, кажется, Винкельман «истолковал» «единично прекрасное» пластики единственно потому, что наслаждался им, и всё же среди всех предшественников он наиболее положительно способствовал обоснованию эстетики. Действительно, пластика и её истолкование Винкельманом заслужили эту заслугу перед эстетикой.
Интересно проследить у художников Ренессанса вплоть до их поздних представителей обсуждение вопроса, проходящего через их письма: чему отдать предпочтение – пластике или живописи. Порой они, что им вполне простительно, говорят с технической точки зрения, с которой живопись ставится выше. Но там, где они затрагивают суть вопроса, ни один из великих не сомневается, что пластика – ведущее искусство среди изобразительных. Она содержит метод, общий для всех изобразительных искусств как таковых.
Прежде чем спросить, в чём состоит этот метод, рассмотрим благоприятное положение пластики в отношении объекта и средства для продвижения и подтверждения этого метода. Здесь прежде всего обращает на себя внимание ограничение, которое пластика может на себя наложить, не снижая своей тенденции, – благоприятный пример. Ей достаточно одной фигуры как арены своего высшего раскрытия. Таким образом, по характеру своего объекта она призвана к простоте. И благодаря простоте, которая отказывается от воздействия через массу групп или украшений и усиления эффекта, она избавляется от рассеянности, которой может поддаться портретная тенденция живописи. В то время как живопись, если она не направляется пластикой, стремится уловить индивидуальное и представить его как таковое, пластика ищет всеобщее, даже в индивидуальном – всеобщее, которое преимущественно проявляется в облике. Всеобщее в облике – это постоянное, тогда как живопись может пытаться запечатлеть преходящее – мимолётное выражение, момент в игре черт. Преходящее – знак единичного, оправданного в отдельный момент, а значит, приятного, угодного, доставляющего удовольствие. Постоянное обозначает всеобщее, род, закономерное, а следовательно, возможно, и прекрасное. В сравнении с беспокойством живописно-индивидуального пластика обладает характером покоя. Этот покой – симптом типа.
Уже эти известные со времён Винкельмана черты пластики позволяют распознать её преимущества, которые не следует считать чисто техническими. Но ещё отсутствует та связь признаков, в которой выражается методологическое превосходство пластики. Если бы пластике нужно было просто изображать родовой тип, она занималась бы не столько художественной, сколько сравнимой с естественнонаучными дисциплинами деятельностью. Но и научная индукция предстаёт недостаточной и узкой, если охарактеризовать её как процедуру наблюдения и сбора признаков исследуемого типа в отдельных его проявлениях. Уже то, что среди этих признаков различают существенные и несущественные, показывает, что наблюдением и сбором дело не ограничивается. Логика индукции волей-неволей заимствует у подозрительной дедукции большую посылку, ведущую мысль. Так и индуктивное собирание отдельных прекрасных черт никогда не привело бы к объединению их в одном объекте как прекрасном. Сами признаки, собиранием которых должно возникнуть произведение, не в меньшей степени, чем само произведение, предполагают прекрасное, вместо того чтобы его порождать.
Родовое выражение, которое представляет пластика, – это не идея в том смысле, как её описывают сенсуалисты, то есть как копию впечатлений, соединение ощущений. Винкельман использует для него термин, восходящий к истокам всякой спекуляции, но введённый, как мы увидим у Лессинга, итальянским иезуитом в 1687 году, – термин идеала.
Это выражение дало повод к многочисленным заблуждениям в искусстве и разногласиям в рассуждениях. Но эти слабые трактовки основополагающей мысли не должны смущать наше принципиальное рассмотрение. В мысли об идеале, в отличие от простой идеи, совершается точное определение отношения между природой и искусством; и тем самым прокладывается путь к действительному обоснованию эстетики. В понятии идеала заключено методологическое значение искусства. В нём методологическое преимущество пластики может быть выражено если не с ясной, содержательной исчерпанностью, то по крайней мере с весомой акцентуацией, вызывающей дальнейшие размышления. Понятие идеала – это cogito эстетики: оно означает выведение искусства из сознания.
Искусство и сознание – вот лучшие члены подлежащего восстановлению, поскольку безусловно существующего отношения, чем искусство и природа. Ибо, конечно, искусство не должно и не может иметь иного объекта – если отвлечься от нравственных тем, которые в некотором смысле тоже могут относиться к природе, – чем тот, который содержит природа. Так что нельзя понимать это так, будто объект искусства, мыслимый как идеал, лежит вне и по ту сторону природы. Поэтому и спор о том, должны или могут ли произведения искусства быть прекраснее произведений природы, кажется праздным, поскольку направления в нём не точно определены. Во всех этих вопросах очевидна petitio principii. Принцип лежит в сознании. Вопрос в том, какую долю означает сознание как источник и правовое основание прекрасного для искусства и для природы. И есть веские причины, которые мы узнаем позже, почему начинать нужно с отношения сознания к искусству.
Но как только сознание мыслится как член искомого отношения, оно оказывается его источником и средоточием. Если произведение искусства есть произведение сознания, оно не может полностью раствориться в природе; ведь и природа становится объектом лишь потому, что она есть содержание сознания. Этот корень сознания раскрывается в понятии идеала. Ибо идеал обозначает, в отличие от современного французско-английского значения идеи, идею в классическом, платоновском смысле. Идея современных – это плоское представление, заменяющее «впечатление». Классическая идея обозначает порождение, «чистое» созерцание, а не просто восприятие; отсюда соединение высших потенций сознания с чувственными, дабы в этой связи и благодаря ей рождалось новое содержание сознания – то, что нельзя вычитать из так называемой природы.
Это творчество, связанное с подлинным созерцанием, это порождение, которое должно быть действенным даже при воспроизведении, это освобождение от данного, благодаря которому искусство достигает своего расцвета, которым оно также оттачивается для наблюдения природы и её воспроизведения, – этот творческий момент Винкельман уловил в понятии идеала и сделал плодотворным для истолкования пластики, а также, согласно всеобъемлющему понятию истории, которое он заявлял и преследовал, для истории искусства. Однако в своей первой работе он ссылается для этого понятия идеала не на самого Платона, а на то, чему «учит древний толкователь Платона», а именно «Прокл в „Тимее“ Платона» [40]. Поэтому мы не должны ожидать и от возобновлённых в Риме занятий Платоном такого чисто философского переворота, чтобы основная мысль идеала, которую Винкельман оживляет для предыстории эстетики, достигла у него полной ясности из методологического понимания платоновской идеи. Историческая заслуга состоит в выдвижении, описании и освещении понятия, которое должно было стать эпохальным, потому что оно есть методологическое основное понятие всякого искусства.
Винкельман начинает свою писательскую деятельность с «Мыслей о подражании греческим произведениям в живописи и скульптуре» (1756), которые он сам же подвергает критике в «Послании» и защищает в «Пояснении». Эти сочинения были написаны незадолго до его переезда в Рим и опубликованы, когда он уже находился там. «Трактат о способности восприятия прекрасного в искусстве и обучении ему» датируется 1763 годом. Предисловие к «Истории искусства древности» помечено 1766 годом. В том же году появился и Trattato preliminare как предисловие к его Monumenti inediti. Деятельность Винкельмана как автора, которую он начал лишь в сорок лет, укладывается в десятилетний период, одновременно завершившийся и его жизнью. Из этих кратких, но тесно связанных между собой единым изучением и повторными обработками временных промежутков объясняется единство взглядов Винкельмана, которое становится ещё более проникновенным и внутренним благодаря повторениям в следующих друг за другом изложениях, направленных на одну и ту же цель, а также благодаря небольшим отклонениям в отдельных формулировках одной и той же основной мысли и тех же примеров.
Прежде всего характерно то, что Винкельман пишет свою вводную работу не о подражании природе, а о подражании произведениям искусства, именно греческим. В таком подражании формировались Микеланджело и Рафаэль. «Знатоки и подражатели греческих произведений находят в их шедеврах не только самую прекрасную природу, но ещё и нечто большее, чем природа, а именно – определённые идеальные красоты её, которые, как учит нас древний толкователь Платона, созданы из образов, задуманных исключительно в разуме»[41]. Здесь, таким образом, идеальные красоты не только возвышаются над природой, но и – что отнюдь не одно и то же – «задуманы в разуме». Правда, этот поворот мысли тут же корректируется в духе последующих рассуждений указанием на чувство: «внутреннее чувство формирует характер истины; и рисовальщик, который хочет придать его своим академиям, не получит и тени истинного без собственного восполнения того, что не чувствует нетронутая и равнодушная душа модели»[42]. Тем не менее разум сохраняется как подлинный источник этих красот. Показывая, как греки культивировали и поощряли наблюдение прекрасного в человеческих телах, он выводит из этого наблюдения природы создание идеалов: «Эти частые возможности наблюдать природу побуждали художников идти ещё дальше: они начали формировать для себя определённые общие понятия о красоте, как отдельных частей, так и целых пропорций тела, которые должны были возвышаться над самой природой; их прообразом была лишь духовная природа, задуманная в разуме. Так Рафаэль создал свою Галатею. Смотрите его письмо к графу Бальтазару Кастильоне: „Поскольку красоты среди женщин так редки, – пишет он, – я пользуюсь определённой идеей в своём воображении“. Согласно этим понятиям, возвышающимся над обычной формой материи, греки создавали богов и людей… Римские императрицы изображались греками на их монетах по тем же идеям… Но закон „изображать лица похожими и в то же время более прекрасными“ всегда был высшим законом, который признавали над собой греческие художники, и он необходимо предполагает стремление мастера к более прекрасной и совершенной природе… Поэтому, когда сообщается, что некоторые художники поступали, как Пракситель… то я полагаю, это происходило без отклонения от упомянутых общих великих законов искусства. Чувственная красота давала художнику прекрасную природу; идеальная красота – возвышенные черты: от первой он брал человеческое, от второй – божественное»[43]. Таким образом, идеальное здесь без сокращений означает задуманное и благодаря замыслу возвышающееся над природой. И он ссылается здесь, как и выше на Рафаэля, так и на «великого Бернини», который, хотя и «хотел оспорить у греков преимущество отчасти более прекрасной природы, отчасти идеальной красоты их фигур», тем не менее признавал, что именно Медичийская Венера научила его «открывать красоты в природе»: «Не следует ли из этого, что красота греческих статуй открывается раньше, чем красота в природе?» Винкельман не хочет делать иного вывода из принципиально противоположной позиции Бернини, кроме этого.
Однако противоречие глубже. Мысль о том, что «природа умеет дать всем своим частям необходимое прекрасное», отрицает возможность идеала; поэтому Винкельман, не оспаривая её здесь прямо, развивает свою собственную точку зрения на возникновение идеалов. «Подражание прекрасному в природе направлено либо на отдельный объект, либо собирает наблюдения из различных отдельных и сводит их воедино. Первое называется созданием похожей копии, портрета; это путь к голландским формам и фигурам. Второе же – путь к всеобщему прекрасному и его идеальным образам; и это тот путь, которым шли греки»[44]. В противоположность копии здесь указывается путь к «всеобщему прекрасному» и «идеальным образам» в том, что «наблюдения из различных отдельных объектов собираются» и «сводятся воедино». Поэтому древние произведения искусства предпочтительнее природы: «Я полагаю, их подражание может научить быстрее становиться мудрым, потому что здесь в одном (Антиное) находят совокупность того, что распределено во всей природе, а в другом (Ватиканском Аполлоне) – как далеко самая прекрасная природа может, смело, но мудро, возвыситься над самой собой». Таким образом, в то время как в природе красоты распределены, в произведении искусства они собраны и объединены. Так художник, следуя «греческому правилу», может прийти к природе и постепенно «сам стать для себя правилом». Следовательно, Винкельман завершает понятие идеала в понятии гения. Поскольку идеал объединяет разрозненное в природе силой собственного мышления или внутреннего чувства, «сводит воедино», он растворяет кажущееся внешним правило, которое представляет собой древнее произведение искусства, в собственной природе.
Но остаётся вопрос: какой художественный метод позволил грекам, сколь бы ни способствовали их нравы наблюдению прекрасного, создать то прекрасное, ту идеальную красоту, которой в природе попросту не было? «Собирание» и «сведение воедино» требуют более точной характеристики, и только через неё понятие идеала может стать ясным в своём методологическом значении.
Методологическая ценность идеала заключается в понятии рисунка, линии, которое Винкельман поэтому представляет как понятие, порождающее идеальную красоту; оно узнаваемо как таковое, хотя и не везде утверждается в этом качестве, тем более не освещается и не определяется с учительной проницательностью как основное методологическое понятие.
Уже в начале трактата он ссылается на сообщение Аристотеля о том, что греки из эстетических соображений обучали детей рисованию, а в «Пояснении» ставит влияние воспитания выше влияния климата[45]. «Даже если бы подражание природе могло дать художнику всё, правильность контура, несомненно, не была бы достигнута через неё; этому можно научиться только у греков. Благороднейший контур объединяет или охватывает все части самой прекрасной природы и тождественных красот в фигурах греков; или, скорее, он есть высшее понятие в обоих»[46]. Здесь найден точный выражение: понятие контура есть «высшее понятие» для красот природы, а также для тождественных. Почему понятие контура есть «высшее» понятие? В каком отношении ценности лежит эта оценка? Можно было бы подумать, что такое отношение ценности показано в тенденции трактата: древние являются образцами, потому что они изобрели идеал. Если же контур есть высшее понятие, то, должно быть, потому, что он порождает идеал?
Однако этот вопрос не ставится, и поэтому методологическая ценность рисунка, а в нём – идеала, ещё не получает ясного определения. Поэтому можно понять, что рядом с контуром, хотя он и был назван «высшим понятием», ставится драпировка и описывается её преимущество у греков. Наряду с драпировкой затем в качестве дальнейшего преимущества греческих произведений указывается «благородная простота и величавое спокойствие как в позе, так и в выражении». В знаменитом описании Лаокоона говорится: «Выражение столь великой души далеко превосходит создание прекрасной природы»[47]. И здесь сначала, кажется, выделяется лишь свойство, абстрагированное от воздействия на зрителя, поскольку «благородная простота и величавое спокойствие» суть скорее моральные симптомы, демонстрирующие эстетическое воздействие, а не методологические, освещающие создание произведения искусства. Однако здесь уже в связи с «спокойствием» и «покоем» упоминается понятие, обладающее методологической силой: понятие «единства»[48]. Но эта методологическая сила понятия единства здесь ещё не раскрыта.
После трехлетнего пребывания в Риме Винкельман написал несколько эссе для «Bibliothek der schönen Wissenschaften» Кристиана Вайсе, среди которых особенно важна «Erinnerung über die Betrachtung der Werke der Kunst», поскольку здесь предпринимается попытка более точного определения принципа рисунка.
«Высший предмет искусства для мыслящих людей – это человек, или лишь его внешняя поверхность, и для художника она столь же трудна для исследования, как для мудреца – внутренняя его сущность, а самое трудное – это то, что не кажется таковым: красота, ибо она, строго говоря, не поддается числу и мере»[49].
Таким образом, здесь «внешняя поверхность» человека обозначена как высший предмет искусства, но при этом она отделена от математических определений линии красоты и пропорций:
«И даже если бы прекрасное могло быть определено через всеобщее понятие – чего желают и ищут, – это не помогло бы тому, кому небо отказало в чувстве. Прекрасное состоит в многообразии в простом; это – философский камень, который должны искать художники и который немногие находят».
Однако это определение весьма общó. Видно, что реминисценции из лейбницевской школы держатся в нём прочнее, чем он сам осознаёт.
На самом деле он на этом не останавливается. Характерным образом он продолжает так, словно стремится отмежеваться от обычного понимания этой формулы:
«Лишь тот понимает эти немногие слова, кто сам выработал себе это понятие. Линия, описывающая прекрасное, эллиптична, и в ней простое пребывает в постоянном изменении; ибо её нельзя описать циркулем, и она меняет своё направление во всех точках. Это легко сказать, но трудно постичь: какую именно линию, более или менее эллиптическую, формирует различные части в красоте, алгебра определить не может; но древние знали её, и мы находим её от человека до их сосудов. Как нет ничего кругообразного в человеке, так и ни один профиль античного сосуда не образует полукруга».
Так он понимает «многообразие в простом»: как в эллипсе простое описывает «постоянное изменение». Это, полагает он, не может определить алгебра, хотя в трактате «О способности восприятия прекрасного» он упоминает «изученную краткость геометрии Декарта»[50]. Однако и здесь он не мыслит принцип прекрасного, который воплощали древние, по методе математики – как математическую конструкцию. Таким образом, принцип рисунка, контур, с которого он начал, развит – по крайней мере, по тенденции – к методической определённости.
То, что именно эллипс образует этот контур, не доказывается. Лишь выражается мысль:
«Форма истинной красоты не имеет прерывистых частей».
Следовательно, дискретное следует отвергнуть, а принцип искать в непрерывном. Но не уточняется, почему следует отвергать прямую и окружность, а выбирать лишь эллипс, который избрали древние, чьи произведения остаются конкретными образцами над всеобщими понятиями.
В то время как красоты Рафаэля «остаются среди прекраснейшего в природе», «почти все монеты» греков являют «головы, совершеннее по форме, чем всё, что мы знаем в природе, и эта красота заключается в линии, образующей профиль… Дальше этих монет человеческое понятие не может пойти, и я здесь тоже не могу».
Следовательно, понятие красоты лишь соотносится с эллипсом, но не обосновывается им.
Систематически, как он сам это обозначает, Винкельман рассматривает проблему лишь в своей «Истории искусства древности». Это развитие было дополнено развитием «Trattato». Параллельно с этим он написал ещё один трактат, который не был опубликован.
Такова была напряжённая работа, которую он, наряду с описательным изложением мыслей, посвятил проблеме обоснования.
В §§ 5, 6 сначала выражается протест против «метафизических тонкостей» и «великих всеобщих истин», затем – и притом дифирамбически – рассказывается, как он сам, как ему казалось, продвинулся к понятию прекрасного, хотя это понятие и не является «геометрически ясным», так что «канона прекрасного» не существует[51].
«Поэтому мы здесь, как и в большинстве философских рассуждений, не можем действовать по способу геометрии»[52].
Наконец, он начинает с понятия совершенства, которое установили «мудрецы, размышлявшие о причинах всеобщей красоты». Но из-за этого понятие остаётся неопределённым, поскольку человечество не может быть «способным сосудом» для совершенства. Поэтому мы остаёмся зависимыми от «отдельных знаний», которые, «собранные и соединённые», дают нам высшую идею человеческой красоты, «которую мы возвышаем, чем более можем возвыситься над материей».
Этот неоплатонический ход, которому он здесь следует, приводит его к неоплатоническому принципу:
«Высшая красота – в Боге».
В зависимости от степени согласованности с ней становится совершенным и понятие человеческой красоты. Но что отличает высшее существо от несовершенной по себе красоты?
«То, что понятие единства и неделимости отличает его от материи».
Это, конечно, вполне в духе Лейбница. Однако бури последующего времени показали, что этого недостаточно для характеристики идеи Бога.
Но как ценность неоплатонической спекуляции вообще заключается не в содержании мыслей – несамостоятельном и ослабленном, – а в тенденции её идеалистического спиритуализма, так и здесь не следует придавать значения теологическому выражению. Уже Гёте распознал этот недостаток в боге Винкельмана и связал его с отсутствием у него нравственных и даже эстетических принципов.
«Мы не находим у него выраженных принципов; его верное чувство, его образованный дух служат ему путеводной нитью в нравственном, как и в эстетическом. Ему мерещится некий род естественной религии, в которой, однако, Бог является как первоисточник прекрасного и едва ли как существо, иначе относящееся к человеку»[53].
Но тот не Бог, кто иначе не относится к человеку. И потому в прекрасном он остаётся «источником» – не в смысле принципа, позволяющего выводить следствия, а в смысле неисчерпаемой точки соотнесения или, если мыслить буквально по-неоплатонически, как творящий первообразный Логос.
Сразу после приведённого положения говорится далее:
«Это понятие красоты подобно духу, извлечённому из материи через огонь, который стремится породить творение по образу первой разумной твари, задуманной в уме божества. Формы такого образа просты и непрерывны, и в этом единстве многообразны, именно потому они гармоничны».
Таким образом, он возвращается к понятиям единства как непрерывной простоты, которые мы знаем как действенные основные понятия из его ранних работ.
Между тем действенность этих основных понятий единства и простоты здесь развивается дальше, и они углубляются до методических основополагающих понятий.
Сначала единство и простота объясняются так, что благодаря им «всякая красота становится возвышенной». В силу единства дух никогда не может «одним взглядом охватить и измерить прекрасное и заключить и постичь его в едином понятии… и наш дух расширяется через постижение его и одновременно возвышается».
Эта важная дефиниция, сколь бы значительными ни стали её последствия, здесь, однако, не развивается дальше. Поэтому её скорее следует рассматривать как психологическое приложение, соответствующее его понятию высокой красоты.
Но именно психологическое познание прекрасного, говорит он, не может непосредственно привести к идее прекрасного. Для высшей идеи высшей красоты «не требуется никакого философского познания человека, никакого исследования страстей души и их выражения».
Есть другое, более важное, а потому и более трудное для определения понятие, которое он выводит из единства:
«Из единства следует другое свойство высокой красоты – её необозначенность, то есть что её формы не описываются ни точками, ни линиями, которые одни лишь образуют красоту; следовательно, облик, который не принадлежит ни тому, ни другому определённому лицу и не выражает никакого состояния души или ощущения страсти, ибо они примешивают чуждые черты к красоте и нарушают единство. По этому понятию красота должна быть подобна совершеннейшей воде, почерпнутой из лона источника».
Эта «необозначенность» кажется противоречащей понятию пластического. Однако именно она привела понятие идеала к методической определённости, так что теперь идеальное может быть подчинено прекрасному.
«Форма египетских фигур, в которых не обозначены ни мускулы, ни нервы, ни вены, идеальна», не будучи прекрасной.
«Необозначенность» отличает идеальное от индивидуального.
«Образование красоты либо индивидуально, то есть направлено на единичное, либо представляет собой выбор прекрасных частей из многих единичных и соединение в одно, что мы называем идеальным, – однако с оговоркой, что нечто может называться идеальным, не будучи прекрасным».
Таким образом, необозначенность есть скорее обозначение высшего, более точного рода – методическое обозначение, которое лишь в противопоставлении случайным, данным, эмпирическим определённостям индивидуального как единичного называется – в полемической иронии – необозначенностью. Однако она обозначает не только не-единичное, но и несёт в себе характер и силу метода обозначения.
Эту ценность необозначенности, благодаря которой она порождает идеал, позволяют увидеть дальнейшие рассуждения, в которых вновь появляется эллипс:
«Формы прекрасного тела определены линиями, которые постоянно меняют свой центр и, будучи продолжены, никогда не описывают окружности, следовательно, они проще, но и многообразнее, чем круг, который, как бы велик или мал он ни был, имеет тот же центр и включает другие или сам включается в них. Это многообразие греки искали в произведениях всякого рода, и эта система их понимания проявляется также в форме их сосудов и ваз, стройный и изящный контур которых проведён по тому же правилу, то есть линией, которую нужно найти через несколько окружностей; ибо все эти произведения имеют эллиптическую фигуру, и в этом заключается их красота. Чем больше единства в соединении форм и в соразмерности одной из другой, тем больше красота целого».
Начислим
+14
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе