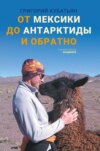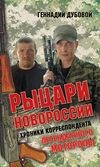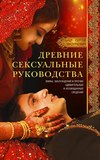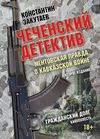Читать книгу: «Феномены 90-х. Опыт человека, которому посчастливилось выжить», страница 2
Время поражений в коллективных видах спорта

В 90-е годы мы вдруг разучились побеждать в спорте. Весьма символичным стало серебро футбольной сборной СССР на чемпионате Европы 1988 года в Германии. После этого российский постсоветский футбол стал временем постоянных футбольных и околофутбольных скандалов и поражений. Российская сборная по хоккею, управляясь еще советской инерцией, завоевала свое последнее золото в 20 веке на Чемпионате мира в Германии в 1993 году. Затем случился провал, из которого мы выбрались только в 2008 году.
Избалованные победами широкие массы болельщиков стали привыкать к постоянным поражениям. К геополитическим, экономическим, технологическим поражениям прибавились и спортивные, что вселяло в души взрослых дядек уныние. В те времена спорт был не меньшей проекцией политики и сублимацией войны, чем сегодня. Если взрослые дядьки пребывали в унынии, то молодые становились циниками, у которых буквально атрофировалась способность верить. Верить в свою сборную, своих спортсменов, свою страну.
90-е годы стали хорошим уроком для нас всех. Мы очень хорошо поняли, как сильно связано состояние государства с успехами в спорте. Вообще, в 90-е годы всем стало не до спорта. Упала посещаемость стадионов, стала всплывать наружу и восприниматься как нечто обыденное откровенная и бесстыдная спортивная коррупция.
Я очень хорошо помню 2008 год. В этот год мы вдруг опять начали побеждать. Я вспомнил это сладкое ощущение – победа! Мы вдруг вспомнили, как это бывает. Кучи людей не раз в этом году выходили ночью на улицу, братались. Помню, как сорвал голос. Я все это вспомнил и больше не хочу забывать.
Избалованные победами широкие массы болельщиков стали привыкать к постоянным поражениям.
Уничтожение речного транспорта

В «святые 90-е» каким-то странным образом оказались несовместимыми «свобода», «демократия» и… речной транспорт. В царской России и в СССР речная транспортная инфраструктура была крайне важна. Наша страна буквально была усыпана роскошными дворцами – речными вокзалами. Великие реки были связаны в единую сеть многочисленными каналами. В городках и селах дремали дебаркадеры. Мелкие места и пороги укрывали водохранилищами. Существовало развитое речное судостроение. Создавались новационные даже для нашего времени суда на подводных крыльях и воздушной подушке. Вообще, наша страна – это великий мир внутренней воды, это уникальная речная цивилизация.
Но в 90-е годы все это оказалось ненужным. За постсоветский период объем грузоперевозок по внутренним водным путям сократился в 4,6 раз, пассажиропоток – в 7,4 раза. Как написал «Коммерсант» в 2001 году: «Всю постсоветскую историю российского торгового флота можно сравнить с гибелью эскадры». Это касается и морского, и речного флотов.
Эффект катастрофы 90-х для речного судоходства напоминает поражение в страшной и разрушительной войне. Войну, которую многие из нас так и не заметили. Или не хотим замечать сегодня?
Речной транспорт сегодня – это транспортный и экологический хай-тек, к которому был способен советский управленческий класс, умевший планировать, правильно стратегировать, управляться более сложным пониманием эффективности. Именно к этому оказались неспособны одномоментно деградировавшие постсоветские элиты, слившие этот крайне важный, цивилизационно значимый вид транспорта как «неэффективный».
В итоге: По внутренним путям России перевозится 1,2 процента перемещаемых по стране внутренних грузов. Несколько лет назад в Евросоюзе стали развивать речной транспорт как «приоритетный вид перевозок». В Западной Европе по воде перевозят 11 процентов всего объема внутренних грузов и собираются поднять эту долю до 17 процентов. В Германии этот показатель составляет 11 процентов, в Нидерландах – 34, во Франции – 10. Это неудивительно, так как основное конкурентное преимущество водного транспорта – дешевизна. Вообще, я уже перестаю удивляться тому, как сегодня вдруг обнаруживается, насколько же толково и правильно что-либо было устроено в советское время. И авоськи, а также многоразовое использование пластиковых пакетов нашими родителями сегодня оказывается экологически ответственным поведением. И потрясающе развитая система сбора вторсырья тоже восхищает многих сегодня. То же и с речным транспортом. Сегодня мы уже начинаем его возрождение, что будет непросто после 30-летия уничтожения. И стоило ли нам терять эти тридцать лет? И нужно ли было делать этот адский круг самоуничтожения?
За постсоветский период объем грузоперевозок по внутренним водным путям сократился в 4,6 раз, пассажиропоток – в 7,4 раза.
О потреблении мяса

Очень важно оценивать эпоху не по брызгам частных, мещанских и житейских воспоминаний. Очень важно знать о статистике, об общестрановой ситуации, о некоем общенациональном среднем. Хотя всегда хочется экстраполировать свой личный опыт на всю страну. «Мне было тошно, и всей стране было тошно». «Меня били, и всех били». Этот инфантилизм в значительной части нашей интеллигенции весьма распространен.
Важнее искать методом проб и ошибок в личном, частном опыте сырье для инсайтовых озарений, крупицы опознаваемого многими коллективного опыта. Вот пример факта, который еще нужно будет транскрибировать в частный опыт:
– в 90-е годы резко упало потребление мяса на душу населения.
В данном контексте «употребление мяса» – это показатель качества жизни и питания, а не пример гастрономических предпочтений. И эта статистика демонстрирует просто чудовищное падение качества жизни в 90-е годы. И только очень недавно мы вернулись к пиковым советским значениям. Очевидно, в 90-е годы случилась какая-то беда.
Люди просто стали очень плохо есть. Кто-то начал голодать. Впереди еще предстоит изучить это возвращение голода в 90-х. Это был какой-то другой голод. Частный, партикулярный. Но голод. Латентный голод. Вообще, 90-е годы умеют очень умело заметать следы. В это время случались страшные вещи, как показывает статистика, только в атомизированном обществе эти страшные вещи были припорошены, латентны. Латентная гражданская война, латентный геноцид, латентный голод. Мы еще не раз поговорим об этом.
В данном контексте «употребление мяса» – это показатель качества жизни и питания, а не пример гастрономических предпочтений.
Исчезновение такси

90-е годы – это время, по сути, исчезновения на целое десятилетие институционализированного такси. Пришла таксистская вольница. Государственные таксопарки умерли в одночасье. На смену им пришли дикие и наглые бомбилы, оккупировавшие привокзальные площади. Этих странных порождений девяностых нужно относить скорее к мелким мошенникам. Таксисты 90-х годов стали постоянными поставщиками событийного мяса для криминальной хроники. Такси стало зоной риска.
В обиход надолго вошло – «поймать тачку». Кто мог остановиться, увидев призывно поднятую руку, – одному лишь Богу было известно. Резко деградировавшее государство было просто неспособно к регулированию этой отрасли городского сервиса. Таксизм 90-х годов породил удивительную породу никому не нужных взрослых мужиков, уже на уровне патологии неспособных к институционному существованию.
Патология, ненормальность государства и общества тестируется на каких-то милых ненужностях и необязательных частностях. Есть такие вещные или сервисные детали, которые являются приметами нормальности человеческой общности. Одним из таких маркеров нормальности является такси.
Все 90-е годы у наших властей просто не доходили руки до такси. Этот важный сегодня сервис был в те времена необязательной роскошью. И данное обстоятельство является свидетельством глубины деградации государства и общества.
Положение начало выправляться только в 00-егоды, когда бизнес в сфере такси стал выгодным и началось возвращение хоть какого-то порядка. Мы стали учиться жить заново.
Кстати, в нашей стране, уже преимущественно нормальной, до сих пор сохраняется какое-то инстинктивное недоверие потребителя к такси с тротуара. При всем нашем фатализме. Наше такси сегодня сплошь заказное. И это эхо 90-х. В нас до сих пор жива память о странных «тачках» во времена гражданской войны всех против всех.
Таксисты 90-х годов стали постоянными поставщиками событийного мяса для криминальной хроники.
Работа не по специальности

Система образования – очень инерционная вещь. А страна по имени СССР сгинула как-то сразу, неожиданно, стремительно. В итоге на ее руинах появилось нечто новое, гуманитарным сообществом еще не опознанное. До сих пор. Плюс к этому советская система образования была предназначена для воспроизводства очень сложного социума, развитой цивилизации. А тут случилась стремительная деградация.
Новорожденное инфантильное государство пребывало в глубокой задумчивости. Оно, как одежки, стало снимать с себя и выбрасывать в мусорное ведро множество примет развитой цивилизации – речное судоходство и мелиорацию, оборонку и городское такси и прочее, и прочее.
Торговать в киосках начали инженеры оборонных предприятий и лаборанты НИИ, бомбилами стали офицеры Генштаба, в репетиторов превратились университетские преподаватели… Уверен, каждый сегодняшний взрослый расскажет свою историю встреч с охранниками и продавщицами с неожиданным и ярким прошлым за спиной.
Но случилось нечто и похуже. Причем инерция этого явления наблюдается и сегодня. Система образования оторвалась от своей цивилизационной функции и отправилась в свободное плавание. И сегодня университетские истфаки готовят менеджеров отделов продаж, а отделения «менеджмента» готовят вообще непонятно кого… Особенно деградировало гуманитарное образование. Лекции в гуманитарных вузах сегодня – это какие-то грязненькие местечковые спектакли взрослых неудачников.
Все это родилось в 90-е годы, когда преподаватели научного коммунизма вдруг превратились в специалистов по международным отношениям и public relations. Все это продолжает жить и сегодня.
Система образования оторвалась от своей цивилизационной функции и отправилась в свободное плавание
Начислим
+21
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе