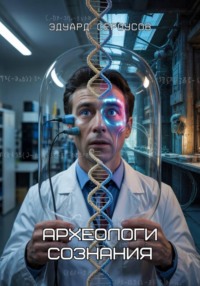Читать книгу: «Археологи сознания»
ЧАСТЬ I: ОТКРЫТИЕ
Глава 1: Эхо прошлого
Москва, 2035 год
Андрей Верский с непроницаемым лицом наблюдал за мониторами. За стеклом лаборатории пожилая женщина в специальном шлеме с десятками датчиков заканчивала рассказ о своём детстве. Обычный эксперимент, каких он проводил десятки – возможно, сотни – за последние годы. Но интуиция учёного настойчиво твердила: что-то не так.
– Марина Степановна, теперь, пожалуйста, сосредоточьтесь на воспоминании о первом дне в школе, – произнёс Андрей в микрофон, и его голос донёсся до испытуемой через динамики в экранированной комнате.
Женщина кивнула и прикрыла глаза. На мониторах появилась сложная трёхмерная модель мозга с цветовой индикацией активности различных участков. Ничего необычного: височная доля, зона Вернике, миндалевидное тело – типичный паттерн при обращении к эмоционально окрашенным воспоминаниям детства.
Но затем что-то изменилось. В правом полушарии загорелся участок, который не должен был активироваться при этом процессе. Андрей наклонился ближе к монитору, не веря своим глазам. Зона, отвечающая за распознавание лиц, внезапно начала демонстрировать интенсивную активность, хотя в воспоминании о школе не было новых лиц, требующих идентификации.
– Что-то не так, – пробормотал он, обращаясь к своему ассистенту, молодому нейрофизиологу Павлу. – Смотри на теменную долю.
Ассистент озадаченно покачал головой.
– Странно… Похоже на реакцию на совершенно новый стимул. Но она просто вспоминает.
Андрей быстро перепроверил показатели. Нет, это не сбой оборудования. В мозге испытуемой происходило что-то необъяснимое с точки зрения классической нейрофизиологии. Как будто…
Его размышления прервал резкий вздох женщины за стеклом.
– Марина Степановна, вы в порядке? – спросил Андрей, нажимая кнопку связи.
Женщина не ответила. Её глаза были широко раскрыты, взгляд устремлён в пространство перед собой. Датчики показывали резкий скачок активности в зонах, отвечающих за зрительное восприятие.
– Она что-то видит, – прошептал Павел. – Но что?
И тут произошло невероятное. Марина Степановна заговорила, но её голос звучал иначе – ниже, с незнакомыми интонациями. А главное – на языке, которого Андрей никогда прежде не слышал.
– Нааринге эта вольсар. Экким суранда. Меретио аннар…
Андрей замер. Происходящее выходило за рамки стандартного протокола. Он нажал кнопку записи, чтобы зафиксировать этот странный эпизод.
– Павел, начинай процедуру завершения эксперимента. Что-то идёт не так.
Но прежде чем ассистент успел что-либо сделать, женщина продолжила, теперь уже на чистом русском:
– Я вижу… башни. Они выше облаков. Прозрачные мосты между ними. Люди… они передвигаются по воздуху. И свет… странный голубой свет везде…
Её голос звучал отстранённо, как будто она действительно наблюдала нечто за тысячи километров или… за тысячи лет от этой лаборатории.
– Марина Степановна, – позвал Андрей, повысив голос. – Вернитесь к воспоминанию о школе. Сосредоточьтесь на своём первом учителе.
Словно не слыша его, женщина продолжала:
– Там человек… он смотрит на небо. Что-то приближается. Все в панике. Башни… башни начинают падать…
Её дыхание участилось, датчики показывали стремительный рост частоты сердечных сокращений. Андрей решительно кивнул Павлу.
– Останавливаем. Немедленно.
Ассистент быстро активировал протокол экстренного завершения эксперимента. Система начала плавное снижение нейростимуляции. Через несколько секунд Марина Степановна моргнула и растерянно посмотрела вокруг.
– Что… что произошло? Я говорила о школе и вдруг… – она замолчала, явно пытаясь собраться с мыслями.
Андрей вошёл в экранированную комнату, держа в руках стакан воды.
– Вы в порядке? – спросил он, протягивая ей воду.
– Да, кажется… – женщина сделала несколько глотков. – У меня было очень странное видение. Не похоже на воспоминание. Скорее, как… как сон наяву.
– Вы можете описать, что именно видели? – Андрей старался, чтобы его голос звучал ровно и профессионально, хотя внутри всё переворачивалось от волнения.
– Город… футуристический город с невероятно высокими зданиями. И что-то случилось… что-то катастрофическое, – она нахмурилась. – И странно, я будто знала язык, на котором там говорили. Но сейчас не могу вспомнить ни слова.
Андрей кивнул, делая мысленную заметку сравнить запись с известными древними языками.
– Вы когда-нибудь интересовались научной фантастикой? Может быть, это было навеяно фильмом или книгой?
Женщина покачала головой.
– Я не смотрю такие фильмы. И это было… реальнее. Как будто я действительно была там.
– Вы упомянули язык. Вы действительно говорили на каком-то незнакомом языке несколько минут назад.
– Правда? – её глаза расширились от удивления. – Я не помню этого.
После окончания сеанса и ухода испытуемой Андрей погрузился в изучение записей. Он раз за разом просматривал трёхмерные модели активности мозга в момент странного эпизода.
– Смотри, – показал он Павлу на одном из участков записи. – Эта область префронтальной коры. Она не должна была активироваться при обычном воспоминании.
– Может быть, сбой аппаратуры? – предположил ассистент.
– Исключено. Мы провели полную калибровку утром. – Андрей откинулся в кресле, потирая переносицу под очками. – И потом, это не первый подобный случай.
– Что? – Павел удивлённо посмотрел на своего руководителя. – Ты уже наблюдал такое раньше?
Андрей молча открыл на компьютере папку с меткой "Аномалии" и показал ассистенту серию файлов, датированных последними тремя месяцами.
– Это началось с незначительных отклонений. Сперва я думал, что это погрешности измерений. Но потом заметил закономерность. – Он открыл сравнительную таблицу. – Видишь? Всегда одна и та же последовательность активации. И всегда у испытуемых старше шестидесяти.
– Почему ты не сообщил об этом раньше?
Андрей слегка улыбнулся – впервые за день.
– И что бы я сказал? "Знаете, у пожилых людей мозг иногда работает странно"? Мне нужны были более убедительные доказательства. И сегодня я их получил. – Он запустил аудиозапись странного языка, на котором говорила Марина Степановна. – Это не похоже ни на один из известных мне языков.
– Может, это просто бессвязная речь? Глоссолалия?
– Возможно. Но посмотри на спектрограмму, – Андрей вывел на экран визуализацию звуковых частот. – Это структурированная речь с чёткой фонетической организацией. Здесь есть синтаксис, грамматика… Это определённо язык, просто не известный нам.
– Криптомнезия? – предположил Павел после паузы. – Может, она где-то слышала этот язык и забыла об этом?
– Возможно. Но тогда почему такая активность в зонах, не связанных с языком? И почему именно эта область мозга? – Андрей указал на яркое пятно на трёхмерной модели. – Эта зона не участвует в формировании обычных воспоминаний. Она… – он замолчал, внезапно осенённый догадкой.
– Что? – Павел подался вперёд.
– Она находится рядом с областью, которую мы недавно связали с эпигенетическими маркерами. – Андрей быстро начал перелистывать свои заметки. – Помнишь исследование Чжана о наследуемых травматических воспоминаниях?
– Где он доказывал, что дети и внуки переживших сильный стресс имеют изменения в экспрессии определённых генов? Да, конечно.
– Что если… – Андрей запнулся, осознавая невероятность своей гипотезы. – Что если эти эпигенетические изменения не просто влияют на предрасположенность к стрессу, но могут содержать какую-то… информацию? Фрагменты воспоминаний?
– Это невозможно, – тут же отреагировал Павел. – Эпигенетические маркеры не обладают достаточной информационной ёмкостью.
– А если учесть квантовые эффекты в микротрубочках нейронов? – Андрей открыл новый файл на компьютере. – Я разработал теоретическую модель. Смотри.
На экране появилась сложная схема, напоминающая нейронную сеть, но с дополнительными связями, уходящими куда-то вглубь.
– Если предположить, что информация хранится не только в синаптических связях, но и в квантовом состоянии белковых структур, которое может передаваться эпигенетически…
– Это всё равно что-то из области научной фантастики, – покачал головой Павел.
– Может быть, – Андрей закрыл файл. – Но я намерен проверить эту гипотезу. Мне нужен доступ к более мощному оборудованию и большей выборке испытуемых.
– Тебе никто не даст ресурсы на исследование, основанное на таких спекуляциях.
Андрей улыбнулся шире.
– Я уже подал заявку на грант. И, судя по предварительной реакции комитета, у меня есть шансы.
Прежде чем Павел успел ответить, в лабораторию вошла секретарь директора института.
– Доктор Верский? Директор хочет вас видеть. Срочно.
Андрей и Павел обменялись озадаченными взглядами.
– Что случилось, Надежда Ивановна? – спросил Андрей, поднимаясь из-за стола.
– Не знаю. Но там кто-то из министерства. И они спрашивали именно о вас.
Спускаясь на лифте в кабинет директора, Андрей перебирал в уме возможные причины вызова. Неужели его неофициальные исследования аномалий привлекли внимание на таком высоком уровне? Или это связано с его заявкой на грант? Но почему такая срочность?
Лифт остановился на первом этаже. Стеклянные двери разъехались, и Андрей направился по длинному коридору к дирекции. Его шаги гулко отдавались от мраморного пола. По обе стороны коридора располагались стеклянные витрины с образцами мозга и историческими нейрофизиологическими приборами – своеобразный музей истории науки о мозге, которым гордился институт.
Перед массивной дверью кабинета директора Андрей остановился на секунду, чтобы собраться с мыслями, затем решительно постучал.
– Войдите! – раздался голос директора, профессора Рогова.
Андрей вошёл в просторный кабинет, оформленный в современном стиле: минималистичная мебель, светлые тона, большие окна с видом на Москву-реку. За длинным столом для совещаний сидели трое: директор института, седовласый профессор Рогов; незнакомый мужчина в строгом тёмно-синем костюме, явно представитель власти; и… Андрей не сразу поверил своим глазам… его бывший научный руководитель, профессор Михаил Борисович Краевский, которого он не видел несколько лет.
– А, Андрей Алексеевич, наконец-то, – произнёс директор, поднимаясь навстречу. – Познакомьтесь, это Игорь Валентинович Данилов, представитель Министерства науки.
Мужчина в костюме кивнул, не вставая.
– А профессора Краевского вы, конечно, знаете, – добавил директор.
– Михаил Борисович! – Андрей не смог скрыть удивления. – Не ожидал вас здесь увидеть.
Краевский, пожилой человек с живыми, пронзительными глазами, тепло улыбнулся.
– Здравствуй, Андрей. Я тоже не ожидал, что нам придётся встретиться… при таких обстоятельствах.
В его голосе проскользнули странные нотки, которые Андрей не смог интерпретировать.
– Присаживайтесь, Андрей Алексеевич, – сказал директор, указывая на свободный стул.
Когда все расселись, Данилов прокашлялся и заговорил:
– Доктор Верский, мы наблюдаем за вашей работой последние несколько месяцев с большим интересом.
Андрей напрягся. Значит, его неофициальные исследования действительно не остались незамеченными.
– В частности, – продолжил Данилов, – нас заинтересовала ваша гипотеза о возможной передаче информации через эпигенетические механизмы.
– Простите, но я не публиковал этих идей, – осторожно возразил Андрей. – Это всего лишь предварительные наблюдения.
– Мы знаем, – кивнул Данилов с лёгкой улыбкой, от которой у Андрея по спине пробежал холодок. – Именно поэтому мы здесь. Ваша интуиция удивительно точна, доктор Верский. Настолько, что вплотную приблизилась к секретному государственному проекту.
В кабинете повисла тишина. Андрей почувствовал, как учащается его пульс.
– Проект "Мнемозина", – произнёс наконец Данилов. – Вы когда-нибудь слышали о нём?
Андрей отрицательно покачал головой.
– Проект "Мнемозина" – секретная исследовательская инициатива, направленная на изучение того, что мы называем "ископаемыми воспоминаниями", – объяснил Данилов. – Вы независимо подошли к тем же выводам, к которым наши учёные пришли несколько лет назад: некоторые воспоминания могут передаваться через поколения посредством сложных эпигенетических механизмов.
– Это… подтверждено экспериментально? – Андрей не мог поверить в то, что слышал.
– Более чем, – кивнул Данилов. – Мы разработали технологию, позволяющую стимулировать и даже частично "читать" эти воспоминания. И сейчас проект вступает в новую фазу, для которой нам нужны специалисты вашего профиля.
Андрей перевёл взгляд на профессора Краевского, ища подтверждения или опровержения этой невероятной информации.
– Это правда, Андрей, – тихо сказал профессор. – Я участвую в проекте с самого начала. И рекомендовал тебя, когда мы узнали о твоих… неофициальных исследованиях.
– Но как… – начал было Андрей и осёкся, внезапно осознав: – Система безопасности института. Конечно. Все записи экспериментов автоматически архивируются на центральном сервере.
– Не только, – покачал головой Данилов. – Скажем так, мы держим руку на пульсе всех перспективных исследований в данной области.
– И что конкретно вы предлагаете? – прямо спросил Андрей.
– Присоединиться к проекту "Мнемозина" в качестве ведущего специалиста по картированию нейронных связей. С существенным повышением зарплаты, разумеется, и доступом к технологиям, о которых вы сейчас можете только мечтать.
– А если я откажусь?
Улыбка Данилова стала шире, но глаза остались холодными.
– Тогда вы продолжите свою текущую работу. Но без права исследования "аномалий", которые вас так заинтересовали. Государственная безопасность, вы понимаете.
Директор института, молчавший всё это время, наконец вмешался:
– Андрей Алексеевич, я настоятельно рекомендую принять это предложение. Это уникальная возможность для вашей карьеры и для науки в целом.
Андрей задумался. Весь его научный инстинкт кричал о том, что нужно согласиться и узнать больше об этих "ископаемых воспоминаниях". Но что-то в холодных глазах Данилова вызывало у него тревогу. Он посмотрел на Краевского.
– Михаил Борисович, вы действительно считаете, что мне стоит участвовать в этом проекте?
Пожилой профессор медленно кивнул.
– Да, Андрей. Я считаю, что тебе нужно это увидеть. – И после небольшой паузы добавил: – Но будь осторожен. Всегда.
В этих словах, в тоне, которым они были произнесены, Андрей уловил предостережение. Краевский явно пытался сказать ему что-то между строк.
– Мне нужно время подумать, – сказал Андрей, обращаясь к Данилову.
– Конечно, – кивнул тот. – У вас есть ровно 24 часа. – Он положил на стол запечатанный конверт. – Здесь все детали: условия, обязательства о неразглашении, адрес основного исследовательского центра. Прочитайте и дайте ответ завтра в это же время.
На этом встреча завершилась. Выходя из кабинета директора, Андрей чувствовал на себе взгляд Краевского и знал, что решение он уже принял. Как учёный, он не мог отказаться от возможности прикоснуться к тайне, которая могла перевернуть всё наше представление о человеческом сознании и памяти.
Вернувшись в свою лабораторию, Андрей застал Павла всё ещё изучающим записи сегодняшнего эксперимента.
– Ну что там? – с любопытством спросил ассистент.
– Меня пригласили в секретный проект, – ответил Андрей, опускаясь в кресло. – Судя по всему, наши "аномалии" – это только верхушка айсберга.
– Серьёзно? – Павел выглядел ошеломлённым. – И что ты будешь делать?
Андрей задумчиво посмотрел на трёхмерную модель мозга, всё ещё вращавшуюся на экране компьютера. Загадочное яркое пятно в префронтальной коре продолжало светиться, как маяк, указывающий путь в неизведанное.
– То, что должен делать учёный, – тихо ответил он. – Искать истину, какой бы пугающей она ни была.
Вечером того же дня Андрей сидел в своей квартире, рассматривая ночную Москву через панорамные окна. Город сиял миллионами огней, мерцающими в темноте, словно нейроны в активированных зонах мозга. Перед ним на журнальном столике лежал раскрытый конверт от Данилова.
Документы, которые он содержал, были одновременно захватывающими и пугающими. Проект "Мнемозина" оказался гораздо масштабнее, чем Андрей мог себе представить. Группа ученых уже несколько лет работала над технологией чтения "генетической памяти" – информации, закодированной в эпигенетических маркерах и каким-то образом влияющей на структуру нейронных связей потомков. Судя по представленным данным, им удалось достичь значительных успехов.
Андрей потянулся к старой фотографии в рамке, стоявшей на столике. На ней были изображены молодая женщина с тёплой улыбкой и маленькая девочка с глазами, удивительно похожими на его собственные. Жена и дочь, погибшие в автокатастрофе пять лет назад.
– Что бы вы сказали, Лена? – прошептал он, проводя пальцами по стеклу рамки. – Стоит ли оно того?
В документах упоминалось, что технология "Мнемозины" теоретически позволяет получать доступ к воспоминаниям предков на протяжении многих поколений. Насколько далеко в прошлое можно заглянуть? И какие тайны скрываются в этой генетической памяти человечества?
Андрей отложил фотографию и взял в руки подписку о неразглашении. Семьдесят три пункта, предусматривающие самые серьёзные последствия за любую утечку информации о проекте. Последний пункт особенно привлек его внимание: "Участник проекта соглашается с тем, что некоторые результаты исследований могут быть засекречены на неопределённый срок по решению куратора проекта, если они представляют потенциальную угрозу национальной безопасности."
Угрозу безопасности? Какую угрозу могут представлять воспоминания давно умерших людей?
Андрей вспомнил предостережение Краевского: "Будь осторожен. Всегда." Что имел в виду его старый наставник? Что такого он узнал в рамках проекта "Мнемозина", что заставило его насторожиться?
Взгляд Андрея упал на третий документ из конверта – карту с отмеченным на ней местоположением основного исследовательского центра. Небольшой городок Новоозёрск в Сибири, о котором Андрей никогда раньше не слышал. Судя по всему, закрытый наукоград, созданный специально для проекта.
Но был ещё один адрес – в Москве, с пометкой "Предварительный инструктаж, завтра, 10:00". Именно там ему предстояло начать своё путешествие в неизведанное.
Андрей сложил документы обратно в конверт. Решение было принято. Завтра он официально присоединится к проекту "Мнемозина" и шагнёт в новый мир – мир, где границы между настоящим и прошлым, между личными воспоминаниями и коллективной памятью человечества начинают размываться.
Где-то в глубине души он чувствовал, что этот шаг изменит не только его карьеру, но и всю его жизнь. И возможно – само наше понимание того, что значит быть человеком.
Следующим утром Андрей прибыл по указанному адресу – неприметному шестиэтажному зданию в одном из тихих переулков центра Москвы. Снаружи оно выглядело как обычный офисный центр, но повышенные меры безопасности на входе сразу выдавали его истинное назначение.
Пройдя через несколько контрольно-пропускных пунктов, сдав смартфон и подписав ещё несколько документов о неразглашении, Андрей наконец оказался в просторном конференц-зале на третьем этаже. В зале уже находилось около десяти человек – мужчины и женщины в деловой одежде или белых лабораторных халатах. Некоторые тихо переговаривались, другие молча просматривали документы.
Андрей осмотрелся, пытаясь найти знакомые лица. К его облегчению, в дальнем углу зала он заметил профессора Краевского, беседующего с молодой женщиной в лабораторном халате. Андрей направился к ним.
– Михаил Борисович, доброе утро.
Краевский обернулся и улыбнулся своему бывшему студенту.
– А, Андрей! Значит, ты всё-таки решил принять предложение. Рад видеть тебя здесь. – Он повернулся к своей собеседнице. – Познакомься, это Елена Викторовна Лавина, одна из ведущих специалистов проекта по нейрогенетике.
Молодая женщина протянула Андрею руку. На вид ей было около тридцати пяти, хотя точно определить возраст было сложно из-за её какой-то вневременной красоты. Тёмные волосы, собранные в строгий пучок, проницательные карие глаза, уверенные движения.
– Доктор Верский, наслышана о ваших исследованиях, – сказала она с лёгкой улыбкой. – Особенно о работе по квантовым эффектам в нейронных микротрубочках. Смелая гипотеза.
– Спасибо, – ответил Андрей, слегка удивлённый тем, что она знакома с его теоретической работой, которая не получила широкого признания в научном сообществе. – Надеюсь, проект "Мнемозина" позволит проверить некоторые из этих гипотез практически.
– О, поверьте, вы увидите вещи, которые заставят переосмыслить даже самые смелые теории, – загадочно произнесла Елена.
Прежде чем Андрей успел расспросить её подробнее, двери конференц-зала закрылись, и в помещении воцарилась тишина. К подиуму вышел Игорь Данилов в сопровождении высокого седого мужчины с военной выправкой.
– Доброе утро, коллеги, – начал Данилов. – Для тех, кто меня ещё не знает, я Игорь Валентинович Данилов, куратор проекта "Мнемозина" от Министерства науки. – Он указал на своего спутника. – А это генерал Маркелов, представитель службы безопасности проекта.
Генерал коротко кивнул собравшимся, его лицо оставалось непроницаемым.
– Сегодня к нам присоединяется новый ключевой специалист, доктор Андрей Алексеевич Верский, – продолжил Данилов, указывая в сторону Андрея. – Доктор Верский будет руководить направлением нейрокартографии в рамках новой фазы проекта. Прошу любить и жаловать.
Все взгляды обратились к Андрею. Он слегка кивнул, чувствуя себя неловко под этим коллективным вниманием.
– Теперь перейдём к делу, – Данилов нажал кнопку на пульте, и на большом экране за его спиной появилась эмблема проекта: стилизованное изображение человеческого мозга, переплетённое с двойной спиралью ДНК. – Проект "Мнемозина", названный в честь древнегреческой богини памяти, был инициирован пять лет назад после серии прорывных открытий в области эпигенетики и нейрофизиологии.
На экране начали появляться графики, диаграммы и фотографии лабораторного оборудования.
– Основная гипотеза проекта, которую мы с тех пор многократно подтвердили экспериментально, заключается в следующем: эмоционально заряженные воспоминания вызывают не только формирование устойчивых нейронных связей, но и эпигенетические изменения, которые могут передаваться потомкам.
Данилов сделал паузу, оглядывая аудиторию.
– Другими словами, часть вашей памяти буквально записана в вашей ДНК. И эта память не только ваша – она включает фрагменты опыта ваших предков, особенно связанного с сильными эмоциональными переживаниями: страхом, болью, радостью, любовью.
Андрей напряжённо вслушивался. То, что описывал Данилов, во многом совпадало с его собственными теоретическими построениями, но масштаб явления оказался гораздо значительнее.
– Мы называем эти следы "ископаемыми воспоминаниями", – продолжал Данилов. – За пять лет работы мы разработали технологию, позволяющую активировать и частично декодировать эти воспоминания, используя комбинацию нейростимуляции, специфических биохимических маркеров и продвинутых алгоритмов интерпретации нейронной активности.
На экране появилась фотография массивного устройства, напоминающего гибрид МРТ-сканера и какого-то футуристического кокона.
– Это "Мнемоскоп" – сердце нашей технологии. Устройство, позволяющее человеку погрузиться в генетическую память своих предков. – Данилов обвёл взглядом аудиторию. – И в следующей фазе проекта мы планируем значительно расширить его возможности. Именно поэтому нам нужны новые специалисты, такие как доктор Верский.
Андрей почувствовал, как внутри нарастает волнение. Если то, что говорит Данилов, правда, то перед человечеством открываются невероятные перспективы: возможность заглянуть в прошлое глазами тех, кто жил за много поколений до нас.
После общей презентации Данилов объявил короткий перерыв, во время которого Андрей смог ближе познакомиться с другими участниками проекта. Особенно его заинтересовала работа Елены Лавиной, которая, как выяснилось, возглавляла группу по анализу генетических маркеров, связанных с передачей воспоминаний.
– Самое интересное, – рассказывала Елена, когда они с Андреем отошли к столу с кофе, – что эффективность передачи сильно варьируется от человека к человеку. У некоторых людей "ископаемые воспоминания" практически отсутствуют, у других они настолько яркие, что могут спонтанно проявляться без всякой стимуляции.
– Вы говорите о тех случаях, которые традиционно относили к парапсихологии? – спросил Андрей. – Видения, дежавю, необъяснимые знания?
Елена кивнула.
– Именно. Многое из того, что считалось мистикой, может иметь вполне научное объяснение. Представьте человека, у которого внезапно активируется яркое "ископаемое воспоминание" о месте, где он никогда не был, или о событии, произошедшем задолго до его рождения.
– И насколько далеко в прошлое можно заглянуть? – это был вопрос, который больше всего интересовал Андрея.
Елена обменялась быстрым взглядом с профессором Краевским, который присоединился к их разговору.
– Теоретически, – осторожно начала она, – глубина проникновения ограничена только генеалогией. Если у вас есть генетическая связь с предком, жившим, скажем, тысячу лет назад, то его воспоминания потенциально доступны.
– Но на практике, – вмешался Краевский, – чем дальше в прошлое, тем фрагментарнее воспоминания. Как правило, мы получаем лишь отдельные яркие образы, эмоциональные состояния, редко – полные сцены.
– И всё же, – Елена понизила голос, – в некоторых случаях мы регистрировали удивительно чёткие воспоминания, относящиеся к периоду в несколько десятков тысяч лет назад.
Андрей недоверчиво посмотрел на неё.
– Десятков тысяч? Но это же…
– Доисторические времена, да, – кивнула Елена. – Именно поэтому проект вызывает такой интерес у различных ведомств. Представьте возможность взглянуть на жизнь людей каменного века их собственными глазами.
– Или даже раньше, – тихо добавил Краевский, но тут же замолчал, увидев приближающегося к ним Данилова.
– Надеюсь, доктор Верский, вы получаете ответы на свои вопросы? – поинтересовался куратор проекта с дежурной улыбкой.
– Пока больше новых вопросов, чем ответов, – честно признался Андрей.
– Это естественно. – Данилов повернулся к остальным. – Прошу всех вернуться в зал. Мы переходим к практической демонстрации.
Когда все снова заняли свои места, в зал вошёл мужчина средних лет в сопровождении двух техников. Данилов представил его как Сергея Полозова, одного из первых добровольцев, участвовавших в экспериментах с "Мнемоскопом".
– Сергей любезно согласился продемонстрировать результаты нашей работы, – объяснил Данилов. – То, что вы увидите, было записано во время одной из сессий погружения в "ископаемые воспоминания" его прадеда, участника Великой Отечественной войны.
Свет в зале приглушили, и на большом экране появилось изображение. Сначала нечёткое, размытое, но постепенно оно становилось всё более детальным. Андрей с изумлением понял, что видит сцену боя – словно глазами одного из участников. Звука не было, но изображение было настолько реалистичным, что казалось, будто ты сам находишься там, среди взрывов и свистящих пуль.
Камера – или, точнее, взгляд человека, чьи воспоминания они наблюдали – двигалась рывками, перемещаясь от одного укрытия к другому. Видны были другие солдаты, техника, разрушенные здания. Всё выглядело именно так, как должно было выглядеть в реальности, без киношных эффектов или драматизации.
– Это… невероятно, – прошептал Андрей, не в силах оторвать взгляд от экрана. – Настоящие воспоминания человека, умершего десятилетия назад.
– Именно так, – кивнула Елена, сидевшая рядом с ним. – И это только начало.
Демонстрация продолжалась около пятнадцати минут. После неё Сергей Полозов поделился своими впечатлениями от погружения в память предка.
– Это не похоже ни на что, что вы можете себе представить, – говорил он, обращаясь к аудитории. – Это не просто видение или сон. Вы действительно чувствуете, что находитесь там. Ощущаете тепло, холод, боль, страх. Слышите звуки, чувствуете запахи. Это… словно вы проживаете чужую жизнь.
После демонстрации и рассказа добровольца Данилов объявил об окончании вводного инструктажа и сообщил, что основная работа будет проходить в исследовательском центре в Новоозёрске, куда все присутствующие должны прибыть в течение следующей недели.
Когда официальная часть закончилась, и участники начали расходиться, Андрей заметил, что профессор Краевский делает ему знак следовать за ним. Они вышли из здания и направились к небольшому скверу неподалёку.
– Михаил Борисович, что происходит? – спросил Андрей, когда они отошли на достаточное расстояние. – Почему такая секретность? И что вас беспокоит?
Краевский огляделся, словно проверяя, нет ли рядом посторонних.
– Андрей, я хотел поговорить с тобой до твоего отъезда в Новоозёрск. То, что ты увидел сегодня – лишь малая часть истины.
– О чём вы?
– О проекте "Мнемозина". Он начался не пять лет назад, как утверждает Данилов, а гораздо раньше. И его цели… не совсем такие, как нам представляют.
Андрей напряжённо вслушивался в слова своего наставника.
– Я участвую в проекте с самого начала, – продолжил Краевский. – И за это время мы обнаружили… аномалии. В "ископаемых воспоминаниях" некоторых субъектов.
– Какие аномалии?
– Воспоминания, которые не соответствуют известной нам истории. Образы технологий, которых не должно было существовать в те эпохи. События, о которых нет никаких исторических записей. – Краевский помолчал. – И чем глубже мы погружаемся в прошлое, тем больше таких несоответствий.
– Но это можно объяснить искажениями памяти, – возразил Андрей. – Человеческие воспоминания ненадёжны даже в рамках одной жизни, что уж говорить о передаче через поколения.
– Я тоже так думал. Но некоторые детали слишком точны, слишком последовательны. И повторяются у разных субъектов, не связанных между собой. – Краевский сжал руку Андрея. – Будь внимателен в Новоозёрске. Наблюдай. Анализируй. Но не делай поспешных выводов и не доверяй никому полностью.
– Даже вам? – с лёгкой улыбкой спросил Андрей.
Краевский ответил серьёзным взглядом.
– Даже мне. Особенно мне. Я слишком глубоко погрузился в это, Андрей. И иногда… иногда я уже не уверен, где мои собственные мысли, а где отголоски чего-то древнего, проникшие в моё сознание.
С этими словами профессор пожал Андрею руку и быстро ушёл, оставив его одного в пустынном сквере с множеством вопросов и растущим чувством тревоги.
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе