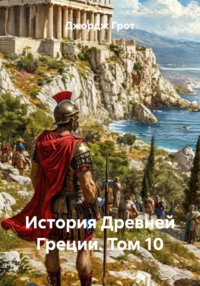Читать книгу: «История Древней Греции. Том 10», страница 2
Глава LXXXI.СИЦИЛИЙСКИЕ ДЕЛА ПОСЛЕ УНИЧТОЖЕНИЯ АФИНСКОГО ВОЙСКА ПОД СИРАКУЗАМИ.
Сиракузы после уничтожения афинского войска. – Ожидание неминуемой гибели Афин – революция в Фуриях. – Сиракузская эскадра под командованием Гермократа отправляется действовать против Афин в Эгейском море. – Разочарованные надежды – поражение при Киноссеме – второе сокрушительное поражение при Кизике. – Страдания сиракузских моряков – разочарование и недовольство в Сиракузах. – Изгнание Гермократа и его соратников. Приговор, объявленный Гермократом войску. – Внутреннее состояние Сиракуз – конституция Диокла. – Трудности в определении сути этой конституции. – Вторжение карфагенян. – Положение Карфагена. – Размеры Карфагенской империи – её мощь и население – ливио-финикийцы. – Жестокая политика Карфагена по отношению к подданным. Колонии, отправленные Карфагеном. – Военная сила Карфагена. – Политическое устройство Карфагена. – Олигархическая система и настроения в Карфагене. – Влиятельные семьи Карфагена – Маго, Гамилькар, Гасдрубал. – Конфликт между Эгестой и Селинунтом на Сицилии. – Обращение Эгесты к Карфагену за помощью – просьба удовлетворена – рвение Ганнибала. – Карфагенские послы отправлены на Сицилию. – Ганнибал переправляется на Сицилию с огромным войском. Он осаждает Селинунт. – Яростный штурм Селинунта – героическое сопротивление – город в конце концов взят. – Селинунт разграблен – беспощадная резня. – Задержка сиракузян и других в отправке помощи. Ответ Ганнибала их посольству. – Ганнибал движется к Гимере и осаждает её. Помощь из Сиракуз под командованием Диокла – вылазка из Гимеры. Ганнибал разрушает Гимеру и убивает три тысячи пленных в искупление памяти своего деда. – Паника среди греков Сицилии – Ганнибал распускает войско и возвращается в Карфаген. – Новые внутренние раздоры в Сиракузах – Гермократ прибывает на Сицилию. – Он набирает войска, чтобы силой вернуться к власти. – Он вынужден отступить – обосновывается в руинах Селинунта и действует против карфагенян. – Его отец пытается вернуться в Сиракузы с останками сиракузян, погибших под Гимерой. Изгнание Диокла. – Гермократ снова пытается проникнуть в Сиракузы с вооружённым отрядом. – Он разбит и убит. – Первое появление Дионисия в Сиракузах. – Слабость Сиракуз из-за политических раздоров – партия Гермократа. Опасность со стороны Карфагена. – Новое вторжение карфагенян на Сицилию. Огромное войско под командованием Ганнибала и Гимилькона. – Великий ужас на Сицилии – активные приготовления к обороне в Агригенте. – Величие, богатство и население Агригента. – Карфагеняне атакуют Агригент. Они разрушают гробницы у его стен. Болезнь в их войске. Религиозные страхи – жертвоприношение. – Сиракузское подкрепление в Агригент под командованием Дафнея. Его победа над иберами. Он отказывается их преследовать. – Дафней вступает в Агригент. Недовольство против агригентских военачальников за нерешительность в атаке. Их казнят. – Лишения в обоих войсках – Гамилькар захватывает провиантские корабли сиракузян – Агригент эвакуирован. – Агригент захвачен и разграблен карфагенянами. – Ужас по всей Сицилии. – Горькие жалобы на сиракузских военачальников. – Партия Гермократа в Сиракузах выступает, чтобы свергнуть правительство и возвысить Дионисия. – Речь Диони [стр. xv] сия в сиракузском народном собрании против военачальников, которые низложены решением народа, а Дионисий с другими назначен на их место. – Честолюбивые уловки Дионисия – он интригует против своих коллег и срывает все их действия. Он добивается решения о возвращении изгнанников-гермократов. – Дионисий отправлен с сиракузским подкреплением в Гелу. Он добивается казни или изгнания гелойской олигархии. – Он возвращается в Сиракузы с усиленным войском – обвиняет своих коллег в государственной измене. – Дионисий назначается единоличным стратегом с полномочиями. – Видимое раскаяние народа после голосования. Хитрость Дионисия, чтобы получить решение о выделении ему отряда платных телохранителей. – Поход Дионисия в Леонтины. – Дионисий утверждается в Сиракузах как тиран. – Дионисий как тиран – средства, которыми он достиг власти.
Глава LXXXII. СИЦИЛИЯ В ПЕРИОД ДЕСПОТИЗМА СТАРШЕГО ДИОНИСИЯ В СИРАКУЗАХ.
Имилькон с карфагенской армией выступает из Агригента, чтобы атаковать Гелу. – Мужественная оборона гелойцев. – Дионисий прибывает с войском для их спасения. – План Дионисия для общего наступления на карфагенскую армию. – Он разбит и вынужден отступить. – Он эвакуирует Гелу и Камарину – бегство населения обоих городов, которые захвачены и разграблены карфагенянами. – Возмущение и обвинения Дионисия в предательстве. – Мятеж сиракузских всадников – они уходят в Сиракузы и выступают против Дионисия. – Их неосмотрительность. Дионисий – хозяин Сиракуз. – Имилькон предлагает мир. Условия мира. – Сговор Дионисия с карфагенянами, которые подтверждают его власть над Сиракузами. Эпидемия в карфагенской армии. – Почти одновременное заключение этого мира с победой Лисандра при Эгоспотамах – симпатии Спарты к Дионисию. – Угнетённое состояние городов Южной Сицилии, от мыса Пахина до Лилибея. – Прочное положение Дионисия. – Мощные укрепления и другие постройки, возведённые Дионисием в Ортигии и её окрестностях. – Он раздаёт дома в Ортигии своим солдатам и сторонникам – перераспределяет земли Сиракуз. – Чрезмерные поборы Дионисия – недовольство в Сиракузах. – Дионисий выступает из Сиракуз против сикулов – мятеж сиракузских солдат в Гербесе – командир Дорик убит. – Восставшие сиракузцы при поддержке Регия и Мессены осаждают Дионисия в Ортигии. – Отчаяние Дионисия – он обращается за помощью к отряду кампанцев на карфагенской службе. – Он усыпляет бдительность осаждающих мнимым подчинением – прибытие кампанцев – победа Дионисия. – Дионисий укрепляет свою деспотию сильнее, чем прежде – помощь, оказанная ему спартанцем Аристом – Никотел Коринфский казнён. – Он разоружает граждан Сиракуз – усиливает укрепления Ортигии – увеличивает наёмное войско. – Дионисий покоряет Наксос, Катану и Леонтины. – Великая власть Дионисия. Основание Алезы Архионидом. – Решение Дионисия начать войну с Карфагеном. – Местоположение Сиракуз – опасность, которой подвергался город во время осады афинянами. – Дополнительные укрепления, построенные Дионисием вдоль северного хребта скал Эпипол вплоть до Эвриала. – Народная поддержка работ – усилия всех сиракузцев, включая самого Дионисия. – Приготовления Дионисия к наступательной войне против карфагенян. – Улучшение поведения Дионисия по отношению к сиракузцам. – Его примирительные предложения другим греческим городам Сицилии. Враждебные настроения регийцев по отношению к нему. Их обращение к Мессене. – Он заключает мир с Мессеной и Регием. – Он желает жениться на женщине из Регия. Его предложение отвергнуто городом. Он сильно разгневан. – Он делает предложение взять жену из Локр – его желание исполнено – он женится на локрийской девушке по имени Дорида. – Огромные военные приготовления Дионисия в Сиракузах – оружие, машины и т. д. – Морские приготовления в гавани Сиракуз. Увеличение размеров военных кораблей – квадриремы и квинквиремы. – Всеобщая поддержка сиракузцами его планов против Карфагена. – Он нанимает солдат со всех сторон. – Он празднует свадьбу с двумя жёнами в один день – Доридой и Аристомахой. Временное доброжелательное отношение к нему в Сиракузах. – Он созывает сиракузское собрание и призывает их к войне против Карфагена. – Он хочет остановить эмиграцию тех, кто боялся карфагенского господства меньше, чем его. – Он разрешает грабить карфагенских жителей и корабли в Сиракузах. Тревога в Карфагене – страдания Африки от эпидемии. – Дионисий выступает из Сиракуз с огромной армией против карфагенян в Сицилии. – Восстание против Карфагена среди подвластных ей сицилийских греков. Ужасные пытки, применённые к карфагенянам. – Дионисий осаждает карфагенский порт Мотию. – Расположение Мотии – осадные операции – упорная оборона. – Дионисий опустошает соседние владения Карфагена – неясный исход осады Мотии – появление Имилькона с карфагенским флотом – он вынужден вернуться. – Отчаянная оборона Мотии. В конце концов она взята ночной атакой. – Разграбление Мотии – жители либо перебиты, либо проданы в рабство. – Дальнейшие действия Дионисия. – Прибытие Имилькона с карфагенским войском – его успешные операции – он отбивает Мотию. – Дионисий отступает в Сиракузы. – Имилькон захватывает Мессену. – Восстание сикулов против Дионисия. Начало Тавромения. – Меры Дионисия по обороне Сиракуз – он укрепляет Леонтины – продвигается к Катане с сухопутной армией и флотом. – Морское сражение у Катаны – крупная победа карфагенского флота под командованием Магона. – Прибытие Имилькона для соединения с флотом Магона у Катаны – тщетное предложение кампанцам Этны. – Дионисий отступает в Сиракузы – недовольство его армии. – Имилькон подходит вплотную к Сиракузам – карфагенский флот входит в Большую Гавань – их впечатляющее появление. Укреплённая позиция Имилькона у гавани. – Имилькон грабит предместье Ахрадину – блокирует Сиракузы с моря. – Морская победа, одержанная сиракузским флотом в отсутствие Дионисия. – Влияние этой победы на подъём духа сиракузцев. – Публичное собрание, созванное Дионисием – мятежные настроения против него – страстная речь Тедора. – Сочувствие, вызванное речью в сиракузском собрании. – Спартанец Фараксид поддерживает Дионисия – который в конце концов распускает собрание и подавляет оппозиционное движение. – Союз Спарты с Дионисием – соответствующий её общей политике того времени. Освобождение Сиракуз зависело от Фараксида. – Дионисий пытается завоевать популярность. – Ужасная эпидемия в карфагенской армии под Сиракузами. – Дионисий атакует карфагенский лагерь. Он хладнокровно жертвует отрядом своих наёмников. – Успех Дионисия как на море, так и на суше против сиракузской позиции. – Пожар в карфагенском лагере – ликование в Сиракузах. – Имилькон тайно договаривается с Дионисием, чтобы ему позволили бежать с карфагенянами, при условии оставления своей армии. Уничтожение оставшейся карфагенской армии, кроме сикулов и иберов. – Бедствие в Карфагене – жалкий конец Имилькона. – Опасность для Карфагена – гнев и восстание её африканских подданных – в конце концов подавлены.
Часть II. ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГРЕЦИИ
Глава LXXVI. ОТ АНТАЛКИДОВА МИРА ДО ПОКОРЕНИЯ ОЛИНФА СПАРТОЙ.
Мирный договор (или соглашение) [1], известный под именем Анталкидова мира, стал событием мрачного и печального значения в истории Греции. Его истинную суть лучше всего передает краткий диалог, приведенный у Плутарха. «Горе Элладе! – воскликнул кто-то, обращаясь к Агесилаю, – когда мы видим, как лакедемоняне преклоняются перед персами!» – «Нет, – возразил спартанский царь, – скажи лучше, что персы начинают жить по-спартански». [2]
Оба эти утверждения не исключают друг друга. Оба были совершенно верны. Договор явился результатом тайного сговора между Спартой и Персией. Он был предложен спартанцем Анталкидом и изложен им Тирибазу [p. 2] на том основании, что полностью соответствовал целям и желаниям персидского царя, – как мы узнаем даже от филолаконянина Ксенофонта. [3] В то время как Спарта и Персия извлекали из этого договора огромную выгоду, остальные греческие государства не получали ничего, по крайней мере в первоначальной его редакции. Однако после первого отказа Анталкид понял необходимость уступок Афинам и добавил специальную статью, предусматривавшую возвращение им Лемноса, Имброса и Скироса. [4] Эта добавка, по-видимому, впервые появилась во время неудачных переговоров, упомянутых в речи Андокида. Впоследствии она была сохранена и включена в окончательный декрет, который Анталкид и Тирибаз привезли от царя из Суз; и несомненно, это в некоторой степени облегчило согласие Афин, хотя объединенные силы Спарты и Персии стали настолько подавляющими, что у них едва ли оставалась возможность сопротивляться, даже если бы дополнительная статья была исключена. Тем не менее, это условие действительно обеспечило Афинам определенную долю выгоды наряду с гораздо большими долями Спарты и Персии. Однако не менее верно и то, что Афины, как и Фивы, [5] согласились на мир лишь под давлением и из страха. Что касается остальных греческих государств, то они оказались вовлечены в этот процесс лишь в печальной роли участников всеобщего упадка и унижения.
Это унижение явственно проявилось уже в форме, происхождении и способе передачи договора, не говоря уже о его содержании. Это был указ, исходивший от двора в Сузах; как таковой, он был торжественно провозглашен и «низослан» оттуда в Грецию. Его авторитет основывался на царской печати, а санкцией служила угроза царя начать войну против всех, кто откажется подчиниться. Договор был доставлен сатрапом Тирибазом (вместе [p. 3] с Анталкидом), зачитан им вслух и выслушан с покорностью собравшимися греческими послами после того, как он особо обратил их внимание на царскую печать. [6] Таков был договор, который Спарта, некогда возглавлявшая греческий мир, первой выпросила у персидского царя и теперь не только подчинилась ему добровольно, подавая пример другим, но и выступила его гарантом и защитником против всех противников, готовая навязать его силой оружия любому непокорному государству, независимо от того, было ли оно участником договора или нет. Именно этот договор был высечен на камне и помещен как постоянное напоминание в храмы греческих городов; [7] более того – даже в общегреческие святилища, Олимпийское, Пифийское и другие, эти великие центры и символы общеэллинского единства. Хотя он и назывался соглашением, по сути своей он был безусловным повелением, исходившим от исконного врага Греции, и принятие его было не чем иным, как актом подчинения. Если для персидского царя он стал славным трофеем, то для всех [p. 4] панэллинских патриотов он явился величайшим позором и оскорблением. [8] Полностью стирая саму идею независимого эллинского мира, объединенного и управляемого собственной волей и общими интересами его членов, – даже слова договора провозглашали его актом вмешательства иностранной державы и возводили варварского царя в ранг верховного арбитра греческих распрей, в «попечителя» [9], заботящегося о мире в Греции больше, чем сами греки. И потому, если рассматривать лишь его форму, он был равнозначен тому символу покорности – принесению земли и воды, – который столетием раньше требовал от предков спартанцев и афинян предок Артаксеркса; требованию, которое и Спарта, и Афины тогда не только отвергли, но и отомстили за него с такой жестокостью, что казнили прибывших с ним вестников, объявляя эгинтян и других предателями Эллады за их согласие. [10] И все же в том акте подчинения не подразумевалось ничего большего, чем то, что было закреплено в надписи на той «позорной колонне», которая [p. 5] поставила Анталкидов мир рядом с панэллинской славой и украшениями Олимпии. [11]
Великой должна была быть перемена, произошедшая за прошедшие годы, если Спарта, номинальная глава Греции – в ее собственных глазах даже больше, чем в глазах других, [12] – настолько утратила всякое панэллинское сознание и достоинство, что опустилась до роли угодливого слуги, выпрашивающего и навязывающего персидский указ ради своих собственных политических целей. Как безумной показалась бы такая перспектива Эсхилу или зрителям, слушавшим «Персов»! Геродоту или Фукидиду! Периклу и Архидаму! Даже Калликратиду или Лисандру! Это стало завершающим звеном в цепи прежних политических прегрешений, все чаще призывавших Персию на помощь против греческих врагов.
Её первая просьба к Великому царю с этой целью относится к [с. 6] началу Пелопоннесской войны и сопровождается унизительным, почти что подобострастным, оправданием царя Архидама; который, сознавая, что замышляет нечто вроде предательства, утверждает, что Спарта, когда афиняне против неё замышляют, не заслуживает порицания за то, что просит помощи для своего спасения как у иностранцев, так и у греков. [13] С самого начала и до седьмого года войны спартанцы отправили в Сузы множество отдельных последовательных посольств; двое из которых были схвачены во Фракии, доставлены в Афины и там казнены. Остальные достигли цели, но говорили так путано и так противоречили друг другу, что персидский двор, не понимая, чего они хотят, [14] отправил Артаферна с письмами в Спарту (на седьмом году войны), жалуясь на их глупость и требуя более ясных объяснений. Артаферн попал в руки афинской эскадры у Эйона на Стримоне и был доставлен в Афины; где с ним обошлись весьма вежливо и отправили обратно (после изучения писем, которые он вёз) в Эфес. Что ещё важнее отметить, так это то, что вместе с ним были отправлены афинские послы, с целью наладить дружественные отношения Афин с Великим царём; чему помешала лишь смерть Артаксеркса Долгорукого, случившаяся как раз в это время. Здесь мы видим пагубную практику, порождённую междоусобной войной, – обращение за помощью к персам; начатую Спартой как настойчивым просителем, – и частично перенятую Афинами, хотя мы и не знаем, что именно их послам было поручено сказать, доберись они до Суз.
Ничего более не слышно о персидском вмешательстве вплоть до года великих афинских поражений под Сиракузами. Воодушевлённые надеждами, вызванными этим событием, персы уже не нуждались в просьбах, но сами были столь же готовы вмешаться ради своих целей, как Спарта – призвать их ради своих. Насколько Спарта была готова купить их помощь ценой предательства малоазийских [с. 7] греков, причём без каких-либо условий в их пользу, – было рассказано в моём предыдущем томе. [15] Теперь у неё не было даже оправдания – ибо это лишь оправдание, но не оправдывающее основание – самообороны против афинской агрессии, на которое ссылался Архидам в начале войны. Даже тогда это было лишь правдоподобное оправдание, не подтверждавшееся реальностью; но теперь заявленная и действительная цель была совсем иной – не отразить, а уничтожить Афины. И ради достижения этой цели, связанной не с мнимой безопасностью, а с чистой амбицией, Спарта безоговорочно пожертвовала свободой своих малоазийских сородичей; цену, которую Архидам в начале войны, несмотря на тогдашнюю мощь Афин, несомненно, даже помыслить не мог заплатить. Здесь же мы видим, что Афины последовали её примеру и, надеясь получить персидскую помощь, согласились на подобную жертву, хотя сделка так и не состоялась. Правда, тогда они боролись за само своё существование. Тем не менее, эти факты печально свидетельствуют о том, насколько ослабело чувство общеэллинской независимости у обоих лидеров в ходе ожесточённой междоусобной борьбы, завершившейся битвой при Эгоспотамах. [16] [с. 8]
После этой битвы сделка между Спартой и Персией, несомненно, была бы исполнена, и малоазийские греки сразу перешли бы под власть последней, – если бы не совершенно новый ряд обстоятельств, вызванных крайне необычным положением и замыслами Кира. Этот юный царевич делал всё возможное, чтобы завоевать симпатии греков как союзников для своих честолюбивых планов; в которых участвовали и Спарта, и малоазийские греки, безвозвратно скомпрометировав себя против Артаксеркса и особенно против Тиссаферна. Спарта таким образом невольно стала врагом Персии и была вынуждена защищать малоазийских греков от его враждебности, которой они подвергались; защита, которую ей было легко осуществить не только благодаря безграничной власти, которой она тогда пользовалась в греческом мире, но и благодаря присутствию прославленных десяти тысяч Кирова наёмников и презрению к персидской военной мощи, которое они принесли с собой после своего отступления. Так она оказывается в роли общеэллинского защитника или гегемона, сначала через посредничество Деркиллида, затем Агесилая, который даже приносит жертвы в Авлиде, берёт скипетр Агамемнона и замышляет широкие планы нападения на Великого царя. Однако здесь персы разыгрывают против неё ту же игру, которую она сама призывала их вести против Афин. Их флот, который пятнадцать лет назад она сама приглашала ради своих целей, теперь используется против неё самой, и с гораздо большим успехом, поскольку её империя была ненавистнее и деспотичнее Афинской. Теперь уже Афины и их союзники призывают персидскую помощь; правда, без прямого обязательства предать малоазийских греков, ибо мы знаем, что после битвы при Книде Конон навлёк на себя недовольство персов своими планами по воссоединению их с Афинами, [17] и афинская помощь всё ещё оказывалась Эвагору, – но тем не менее косвенно подготавливая почву для этого исхода. Если Афины и их союзники здесь виновны в отречении от общеэллинских идеалов, можно заметить, как и прежде, что они действовали под давлением более серьёзных обстоятельств, чем те, на которые могла ссылаться Спарта; и что они могли с гораздо большим основанием использовать оправдание самосохранения, приведённое царём Архидамом. [с. 9]
Но никогда это оправдание не было менее уместным, чем в случае миссии Анталкида. Спарта в то время была настолько могущественна, даже после потери своей морской империи, что союзники на Коринфском перешейке, ревнивые друг к другу и объединённые лишь общим страхом, едва могли держать оборону против неё, и, вероятно, разъединились бы при разумных предложениях с её стороны; ей даже не понадобилось бы отзывать Агесилая из Азии. Тем не менее, миссия, вероятно, была продиктована в значительной степени беспочвенной паникой, вызванной видом восстановленных Длинных стен и заново укреплённого Пирея, и мгновенно породившей фантазию, что новая Афинская империя, подобная существовавшей сорок лет назад, вот-вот возродится; фантазию, едва ли осуществимую, поскольку совершенно особые обстоятельства, создавшие первую Афинскую империю, теперь полностью изменились. Лишённая возможности создать морскую империю сама, Спарта прежде всего стремилась не допустить к этому Афины; во-вторых, подавить все частичные федерации или политические союзы и навязать всеобщую автономию, или максимальную политическую раздробленность; чтобы нигде не могла возникнуть сила, способная противостоять ей, сильнейшему из отдельных государств. Как средство для этой цели, столь же выгодной Персии, сколь и ей, она переплюнула все прежние формы угодливости перед Великим царём, предав ему не только целую часть своих эллинских сородичей, но и вообще честь эллинского имени самым вопиющим образом, – и добровольно встала на путь медизма, чтобы персы взамен встали на путь лаконства. [18] Чтобы полностью обеспечить покорность всех сатрапов, которые не раз выказывали собственные несогласные взгляды, Анталкид добился и привёз формальный указ, подписанный и скреплённый печатью в Сузах; и Спарта взяла на себя – без стыда и угрызений совести – обязанность навязать этот указ, – «постановление, присланное царём», – всем своим соотечественникам; превратив их таким образом в подданных, а себя – в своего рода наместника или сатрапа Артаксеркса. Этот акт предательства общеэллинского дела был гораздо более вопиющим и разрушительным, чем та предполагаемая связь с персидским царём, за которую фиванец Исмений впоследствии был казнён, причём [с. 10] самими спартанцами. [19] К несчастью, это стало прецедентом для будущего и вскоре было скопировано Фивами; [20] предвещая, увы, скорый конец политической независимости Греции.
Тот великий патриотический дух, который продиктовал великодушный ответ афинян [21] на предложения Мардония в 479 г. до н.э., отказавшихся среди настоящих и будущих бедствий от всех соблазнов предать святость общеэллинского братства, – этот дух, который в течение двух последующих поколений был главным вдохновением Афин и, хотя в меньшей степени, также присутствовал в Спарте, – теперь в первых был подавлен более насущными опасениями, а в последней полностью угас. Теперь Греции приходилось смотреть на ведущие государства, чтобы они подняли великое знамя общеэллинской независимости; от малых государств требовалось лишь примкнуть к нему и защищать его, когда оно будет поднято. [22] Но как только Спарта стала добиваться и навязывать, а Афины (даже под принуждением) приняли прокламацию, скрепленную царской печатью и доставленную Анталкидом, – это знамя перестало быть частью публичной символики гре [p. 11] ческой политической жизни. Великая идея, которую оно олицетворяло, – идея коллективного самоопределяющегося эллинизма, – осталась жить лишь в сердцах отдельных патриотов.
Если мы рассмотрим договор Анталкида, отвлекаясь от его формы и гарантий, и сосредоточимся на его сути, то обнаружим, что хотя его первая статья была однозначно позорной, последняя, по крайней мере, звучала привлекательно для слуха. Всеобщая автономия для каждого города, малого или великого, была дорога политическому инстинкту греков. Я уже не раз отмечал, что преувеличенная сила этого желания была главной причиной кратковременности греческой свободы. Поглощая все жизненные силы отдельных частей, оно не оставляло жизненной силы или целостности целому; в частности, лишало как каждого, так и всех возможности защищаться от внешних врагов. Хотя до определенного момента и при определенных условиях оно было необходимо, за этими пределами, которые греческий политический инстинкт далеко не осознавал, оно приносило больше вреда, чем пользы. Поэтому, хотя этот пункт договора звучал привлекательно и был популярен – и хотя впоследствии мы увидим, как его ссылаются как на защиту в различных случаях несправедливости, – мы должны изучить, как он был реализован, прежде чем решить, был ли он добром или злом, даром друга или врага.
Последующие страницы дадут ответ на этот вопрос. Лакедемоняне, как «гаранты (или исполнители) мира, назначенные царем», [23] взяли на себя обязанность его исполнения; и мы увидим, что с самого начала они действовали неискренне. Они даже не пытались честно и последовательно следовать чистому, хотя и неразборчивому, политическому инстинкту греков; тем более они не стремились дать столько, сколько было действительно полезно, и удержать остальное. Они определяли автономию так и распределяли её в таких дозах, которые соответствовали их собственным политическим интересам и целям. [p. 12] Обещание, данное договором, за исключением случаев, когда оно позволяло им увеличивать свою власть путем раздробления или вмешательства в партийные дела, оказалось полностью ложным и пустым. Ибо если мы оглянемся на начало Пелопоннесской войны, когда они требовали от Афин всеобщей автономии для всей Греции, то увидим, что тогда это слово имело четкий и серьезный смысл: оно требовало освобождения городов, находившихся в зависимости от Афин, – свободы, которую Спарта могла бы обеспечить им сама по окончании войны, если бы не предпочла превратить её в куда более жестокую империю. Но в 387 г. (год Анталкидова мира) не осталось крупных подвластных территорий, которые нужно было освобождать, кроме союзников самой Спарты, к которым это вовсе не предназначалось. Так что на деле обещанное, как и реализованное, даже в самом благовидном пункте этого позорного договора, сводилось к тому, что «города должны были пользоваться автономией не для собственного блага и по своему усмотрению, а для удобства Лакедемона»; – выразительная фраза (использованная Периклом [24] в дебатах перед Пелопоннесской войной), которая стала лейтмотивом греческой истории в течение шестнадцати лет между Анталкидовым миром и битвой при Левктрах.
Я уже упоминал, что первые два применения провозглашенной автономии лакедемоняне использовали, чтобы вынудить коринфское правительство распустить своих аргосских союзников и заставить Фивы отказаться от древнего предводительства в Беотийском союзе. Последнее особенно было целью, которую они давно лелеяли; [25] и оба эти шага значительно усилили их влияние в Греции. Афины же, напуганные новой демонстрацией персидской силы и частично подкупленные возвращением трех своих островов, приняли мир, – тем самым лишившись фиванских и коринфских союзников и оказавшись не в состоянии противостоять спартанским планам. Но прежде чем мы перейдем к этим планам, стоит ненадолго обратиться к действиям персов. [p. 13]
Ещё до смерти Дария Нота (отца Артаксеркса и Кира) Египет восстал против персов под предводительством местного князя по имени Амиртей. Для греческих военачальников, сопровождавших Кира в его походе против брата, было хорошо известно, что это восстание сильно разозлило персов; так что Клеарх в переговорах после смерти Кира о примирении с Артаксерксом намекнул, что Десять тысяч могли бы помочь ему в завоевании Египта. [26] Однако опасность после смерти Кира угрожала не только этим грекам, но и различным персам и другим подданным, которые ему помогали; все они покорились и пытались задобрить Артаксеркса, кроме Тама, командовавшего флотом Кира у берегов Ионии и Киликии. Когда Тиссаферн прибыл на побережье с полномочиями, Тама охватила такая паника, что он бежал со своим флотом и сокровищами в Египет, ища защиты у царя Псамметиха, которому ранее оказывал ценные услуги. Однако этот предатель, получив в свои руки столь ценную добычу, забыл обо всем в своей жадности и убил Тама вместе со всеми его детьми. [27] Около 395 г. до н.э. мы видим, как египетский царь Неферит оказывает помощь спартанскому флоту против Артаксеркса. [28] Два года спустя (392–390 гг. до н.э.), в годы, последовавшие сразу после победы при Книде и похода Фарнабаза через Эгейское море в Пелопоннес, мы слышим, что этот сатрап вместе с Аброкомом и Титравстом предпринимал энергичные, но тщетные попытки вернуть Египет. [29] Отбив персов, египетский царь Акор в период между 390–380 гг. до н.э. [30] посылает помощь Эвагору на Кипре против того же врага. И несмотря на дальнейшие попытки Артаксеркса вернуть Египет, местные цари сохраняли независимость около шестидесяти лет, вплоть до правления его преемника Оха.
Но главное внимание персов сразу после Анталкидова мира привлек враг греческого происхождения – менее могущественный, но куда более выдающийся, чем любой из этих египтян: Эвагор, деспот Саламина на Кипре. Об этом правителе до нас дошла речь, полная самых восторженных и преувеличенных похвал, составленная после его смерти для сына и преемника Никокла (и, вероятно, оплаченная его деньгами) современником Исократом. Даже если сделать поправку на преувеличение и пристрастность, достоверные черты этого портрета достаточно интересны.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе