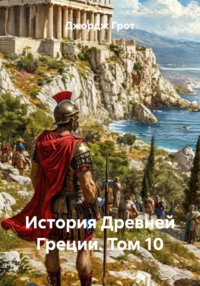Читать книгу: «История Древней Греции. Том 10», страница 9
Отставка Полидама подразумевала унизительное признание слабости со стороны Спарты. Это также знаменует важный этап в реальном упадке её могущества. Восемь лет назад, по настоянию послов Аканфа, поддержанных македонским царём Аминтой, она отправила три мощные армии подряд, чтобы [стр. 141] разгромить либеральный и перспективный союз Олинфа и вернуть греческие города на побережье под власть македонской короны. Регион, куда были направлены её армии, был самой окраиной Эллады. Стороны, в чью пользу она действовала, едва ли имели даже тень прав на дружбу или союз; в то время как те, против кого она выступала, не причинили и не угрожали ей никаким злом. Более того, главной причиной её вмешательства было желание помешать свободному и равноправному объединению греческих городов.
Теперь же требование, и притом настойчивое, предъявляет ей Полидам из Фарсала, старый друг и союзник. Оно исходит из гораздо менее отдалённого региона; наконец, её политический интерес естественно должен был побудить её остановить угрожающий рост агрессивной силы, уже столь грозной, как власть Ясона. Однако настолько серьёзно изменилось положение Спарты за последние восемь лет (382–374 гг. до н. э.), что теперь она вынуждена отказать в просьбе, которую справедливость, сочувствие и политический расчёт одинаково побуждали её удовлетворить.
Так несчастливо сложилось для Олинфского союза, что их благородные и хорошо скоординированные устремления пришлись именно на те немногие годы, когда Спарта находилась на пике своего могущества! Так неудачно было это совпадение во времени не только для Олинфа, но и для Греции в целом – ведь только вмешательство Спарты вернуло македонских царей к побережью, тогда как Олинфский союз, если бы ему позволили расширяться, мог бы ограничить их внутренними территориями и предотвратить смертельный удар, который в следующем поколении был нанесён греческой свободе их руками.
Лакедемоняне нашли некоторое утешение в своём вынужденном отказе Полидаму благодаря мирным предложениям от Афин, которые избавили их от одного из главных врагов. Однако заключённый мир едва ли был даже приведён в исполнение. Тимофей, получив приказ вернуться с Коркиры, подчинился и отплыл со своим флотом. Вместе с ним служили некоторые изгнанники с Закинфа, и, проходя мимо этого острова на обратном пути, он высадил их там, помогая им укрепиться.
Против этих действий правительство Закинфа подала жалобы в Спарту, где это вызвало такое возмущение, что, после тщетных требований удовлетворения в Афинах, мир был немедленно разорван, и война объявлена вновь. Лакедемонская эскадра из двадцати пяти кораблей была отправлена [стр. 142] на помощь закинфянам, [303] в то время как разрабатывались планы захвата более важного острова – Коркиры.
Флот Тимофея был уже отозван, и недовольная партия коркирян организовала заговор, чтобы впустить лакедемонян как друзей и предать остров им. Соответственно, лакедемонский флот из двадцати двух триер отправился туда под предлогом плавания в Сицилию. Однако правительство Коркиры, раскрыв заговор, отказалось их принять, приняло меры для обороны и отправило послов в Афины с просьбой о помощи.
Теперь лакедемоняне решили атаковать Коркиру открыто, используя весь флот своего союза. Объединёнными усилиями Спарты, Коринфа, Левкады, Амбракии, Элиды, Закинфа, Ахайи, Эпидавра, Трезена, Гермионы и Галиэя – усиленными денежными взносами от других союзников, предпочитавших откупиться от обязательства служить за морем, – был собран флот из шестидесяти триер и отряд в полторы тысячи наёмных гоплитов, помимо некоторого числа лакедемонян, вероятно, илотов или неодамодов. [304] Одновременно было отправлено обращение к сиракузскому тирану Дионисию с просьбой о сотрудничестве против Коркиры, на том основании, что связь этого острова с Афинами уже однажды оказалась опасной для его города и могла стать таковой вновь.
Весной 373 г. до н. э. эти силы под командованием лакедемонянина Мнасиппа выступили против Коркиры. Разгромив коркирский флот, потерявший четыре триеры, он высадился на острове, одержал победу и загнал жителей за городские стены. Затем он начал опустошать окрестные земли, которые оказались в высшей степени возделанными и полными богатейших плодов: превосходно обработанные поля, виноградники в великолепном состоянии, великолепные фермы, хорошо оборудованные винные погреба и обилие скота, а также рабов.
Солдаты-захватчики, обогащаясь за счёт грабежа скота и рабов, настолько избаловались изобилием вокруг, что отказывались пить вино, если оно не было первого сорта. [305] Такую картину рисует Ксенофонт, недоброжелательный свидетель, о демократической Коркире в отношении её хваленой экономики в момент вторжения Мнасиппа – картина не менее примечательная, чем та, которую Фукидид (в речи Архидама) представил о процветающем сельском хозяйстве вокруг демократических Афин в момент, когда в 431 г. до н. э. там впервые ощутили руку пелопоннесского опустошителя. [306]
Имея такие богатые условия для своих солдат, Мнасипп разбил лагерь на холме близ городских стен, отрезав осаждённых от поставок из сельской местности, одновременно блокировав гавань своим флотом. Вскоре коркиряне начали испытывать нужду. Однако у них не было шансов на спасение, кроме помощи от афинян, к которым они отправили послов с настоятельными просьбами. [307] Теперь афиняне сожалели о своём поспешном согласии (в предыдущем году) отозвать флот Тимофея с острова.
Тем не менее, Тимофей был вновь назначен командующим новым флотом, направляемым туда, в то время как отряд из шестисот пельтастов под командованием Стесикла был отправлен кратчайшим путём, чтобы помочь коркирянам в их неотложных нуждах, пока готовился основной флот. Эти пельтасты были переправлены по суше через Фессалию и Эпир к побережью напротив Коркиры, где смогли высадиться благодаря вмешательству Алкета, к которому обратились афиняне.
Им посчастливилось попасть в город, где они не только принесли известие о скором прибытии большого афинского флота, но и внесли значительный вклад в оборону. Без такой поддержки коркиряне вряд ли продержались бы, так как голод в городе усиливался с каждым днём. В конце концов, он стал настолько сильным, что многие граждане дезертировали, а множество рабов было выгнано. Мнасипп отказался их принимать, публично объявив, что каждый перебежчик будет продан в рабство; и, несмотря на это, дезертиры продолжали прибывать, и он приказал бичевать их и гнать обратно к городским воротам.
Несчастные рабы, не принятые им и не впущенные обратно в город, многие погибли за воротами от голода. [308]
Такие сцены страданий так явно предвещали скорую капитуляцию, что осаждающая армия стала беспечной, а командующий – высокомерным. Хотя его военная казна была полна благодаря денежным взносам союзников, он уволил многих наёмников без оплаты и не платил остальным уже два месяца.
Его нынешнее настроение сделало его не только более грубым по отношению к своим солдатам, [309] но и менее бдительным в ведении осады. Воспользовавшись небрежностью караулов, осаждённые выбрали удачный момент и совершили мощную вылазку.
Мнасипп, увидев, что его аванпосты отброшены, вооружился и бросился вперёд с лакедемонянами, чтобы поддержать их, приказав офицерам наёмников вести своих людей. Но те ответили, что не могут ручаться за послушание неоплачиваемых солдат. Разъярённый Мнасипп ударил их палкой и древком копья. Это оскорбление ещё больше усилило недовольство.
Офицеры и солдаты вступили в бой деморализованными, в то время как афинские пельтасты и коркирские гоплиты, вырвавшись из нескольких ворот одновременно, атаковали с отчаянной энергией. Мнасипп, проявив личную храбрость, был в конце концов убит, а его войска, полностью разгромленные, бежали обратно в укреплённый лагерь, где хранились их запасы. Даже этот лагерь можно было бы взять и уничтожить всю армию, если бы осаждённые немедленно атаковали его. Но они были потрясены собственным успехом.
Приняв многочисленных лагерных слуг за солдат в резерве, они отступили обратно в город. Однако их победа была настолько полной, что восстановила свободное сообщение с сельской местностью, обеспечила временные поставки и дала уверенность в том, что они продержатся до прибытия афинских подкреплений.
Такое подкрепление уже было на пути, и его приближение было объявлено Гипермену (заместителю погибшего Мнасиппа), который теперь принял командование. Напуганный известием, он поспешил отплыть от своей позиции, где блокировал гавань, к укреплённому лагерю.
Там он сначала погрузил рабов и имущество на транспортные суда и отправил их, оставшись защищать лагерь с солдатами и моряками – но ненадолго, вскоре также погрузив их на триеры. Таким образом, он полностью эвакуировал остров, отправившись в Левкаду.
Однако спешка была так велика, а страх перед прибытием афинского флота настолько силён, что много зерна, вина, рабов и даже больных и раненых солдат было брошено. Для победоносных коркирян эти трофеи не были нужны, чтобы усилить ценность триумфа, спасшего их от захвата, рабства или голодной смерти. [310]
Афинский флот не только опоздал с прибытием, рискуя обнаружить, что остров уже захвачен, – но когда он наконец появился, им командовали Ификрат, Хабрий и оратор Каллистрат [311], а не Тимодей, которого первоначально назначил народ.
Оказывается, Тимодей – которого (в апреле 373 г. до н. э.), когда афиняне впервые узнали, что грозный лакедемонский флот начал атаковать Керкиру, направили туда немедленно с флотом из шестидесяти триер – столкнулся с трудностями в укомплектовании своих кораблей в Афинах и потому предпринял предварительный поход, чтобы набрать как гребцов, так и дополнительные средства у морских союзников. Его первым действием была переброска шестисот пельтастов под командованием Стесикла в Фессалию, где он вступил в переговоры с Ясоном Ферским. Он убедил последнего стать союзником Афин и содействовать [стр. 147] переходу Стесикла с его отрядом по суше через Фессалию и перевалы Пинда в Эпир, где Алкет, одновременно союзник Афин и подчинённый Ясона, переправил их ночью через пролив из Эпира на Керкиру. Установив таким образом важную связь с могущественным фессалийским диктатором и получив от него своевременную помощь (а возможно, и гребцов из Пагас для укомплектования флота), Тимодей двинулся далее к портам Македонии, где также вступил в отношения с Аминтой, получив от него знаки личного расположения, – а затем во Фракию и соседние острова. Его плавание принесло ему ценные денежные субсидии и пополнение гребцов, а также новых членов и представителей для Афинского союза.
Этот предварительный поход Тимодея, предпринятый с целью сбора средств для экспедиции на Керкиру, начался в апреле или начале мая 373 г. до н. э. [312] [стр. 148] Перед отплытием он, по-видимому, отдал приказ союзникам, которые должны были участвовать в экспедиции, собраться на Калаврии (остров близ Трезена, посвящённый Посейдону), откуда он сам забрал бы их для дальнейшего движения. Согласно этому приказу, несколько контингентов собрались на острове – среди них беотийцы, приславшие несколько триер, хотя в предыдущем году их обвиняли в том, что они ничего не внесли в поддержку морских усилий Афин. Однако Тимодей задержался надолго. Расчёт был на него и на деньги, которые он должен был привезти для оплаты флота; и неоплаченные триеры в результате оказались в тяжёлом положении и дезорганизовались на Калаврии, ожидая его возвращения. [313] Тем временем в Афины пришли новые известия, что Керкира сильно теснима; и против отсутствующего адмирала поднялось сильное негодование за то, что он тратил драгоценное время на свой поход, вместо того чтобы успеть вовремя достичь острова. Ификрат (недавно вернувшийся из похода с Фарнабазом в безуспешной попытке отвоевать Египет для персидского царя) и оратор Каллистрат особенно громко обвиняли его. И поскольку спасение Керкиры требовало крайней спешки, афиняне отменили назначение Тимодея даже в его отсутствие, поручив Ификрату, Каллистрату и Хабрию снарядить флот и немедленно отправиться к Керкире. [314]
Прежде чем они успели подготовиться, вернулся Тимодей; он привёз несколько новых присоединений к союзу и блестящий отчёт об общем успехе. [315] Он отправился на Калаврию, чтобы восполнить недостаток средств и исправить затруднения, вызванные его отсутствием. Однако он не смог оплатить беотийских триерархов, не заняв денег для этого под свой личный кредит; ибо хотя сумма, привезённая им из похода, была значительна, требования к нему оказались ещё больше. Сначала Ификрат и Каллистрат, пользуясь явным недовольством публики, выдвинули против него обвинение. Но поскольку эти двое сами были назначены совместными командующими экспедиции на Керкиру, не терпевшей отлагательства, – его суд был отложен до осени; отсрочка, выгодная для обвиняемого и, несомненно, поддержанная его друзьями. [316] [стр. 150]
Тем временем Ификрат принял самые энергичные меры для ускорения снаряжения флота. При нынешнем настроении публики и известной опасности для Керкиры ему разрешили (хотя несколькими неделями ранее Тимодею, возможно, не позволили бы) не только набирать гребцов в порту, но даже строго принуждать триерархов [317] и использовать все триеры, зарезервированные для береговой охраны Аттики, включая две священные триеры – Парал и Саламинию. Таким образом он собрал флот из семидесяти кораблей, пообещав вернуть большую его часть, если дела на Керкире примут благоприятный оборот. Ожидая встретить лакедемонский флот, равный по силе его собственному, он организовал поход так, чтобы сочетать максимальную скорость с обучением гребцов и подготовкой к морскому сражению. Большие паруса античной триеры обычно убирали перед боем как неудобные; Ификрат оставил такие паруса в Афинах, пользовался даже малыми парусами экономно и держал гребцов постоянно за вёслами, что ускоряло движение и одновременно поддерживало их в отличной форме. Каждый день он останавливался на вражеском берегу для приёма пищи и отдыха; и эти остановки были организованы с такой исключительной точностью и ловкостью, что тратилось минимальное время, недостаточное для сбора местных враждебных сил. Достигнув Сфактерии, Ификрат впервые узнал о поражении и гибели Мнасиппа. Однако, не вполне доверяя этим сведениям, он продолжал соблюдать скорость и предосторожности, пока не достиг Кефаллении, где окончательно убедился, что опасность для Керкиры миновала. Превосходное руководство Ификрата в этом походе описано Ксенофонтом с восхищением. [318]
Не опасаясь более лакедемонского флота, афинский командующий, вероятно, отправил обратно эскадру береговой охраны Аттики, которую ему разрешили взять, но которая была необходима для защиты побережья. [319] Захватив несколько городов Кефаллении, он затем двинулся [стр. 151] к Керкире, куда как раз приближалась эскадра из десяти сиракузских триер, посланная Дионисием для помощи лакедемонянам, но ещё не знавшая об их бегстве. Ификрат, расставив наблюдателей на холмах, выделил двадцать триер для немедленного выхода по сигналу. Его дисциплина была столь превосходна (пишет Ксенофонт), что «когда подали сигнал, рвение всех экипажей было прекрасно видно; не было ни одного человека, который не бросился бы бегом на корабль». [320] Десять сиракузских триер, совершив переход от мыса Япигии, остановились для отдыха на одном из северных мысов Керкиры, где Ификрат настиг их и захватил со всеми экипажами и адмиралом Аниппом; лишь одна триера спаслась благодаря отчаянным усилиям своего капитана, родосца Меланопа. Ификрат триумфально вернулся, приведя на буксире девять трофеев в гавань Керкиры. Экипажи, проданные или выкупленные, принесли ему шестьдесят талантов; адмирала Аниппа оставили в надежде на больший выкуп, но вскоре он покончил с собой от унижения. [321]
Хотя полученная таким образом сумма позволила Ификрату на время выплатить жалованье своим людям, самоубийство Аниппа стало для него финансовым разочарованием, и вскоре он снова начал испытывать нехватку денег. Это обстоятельство побудило его согласиться на возвращение своего коллеги Каллистрата, который – будучи оратором по профессии и не находясь в дружеских отношениях с Ификратом – отправился в поход против собственной воли. Сам Ификрат выбрал в качестве своих коллег и Каллистрата, и Хабрия. Он не был равнодушен к ценности их советов и не боялся критики, даже со стороны соперников, относительно того, что они [стр. 152] действительно видели в его действиях. Однако он принял командование в рискованных обстоятельствах: не только из-за оскорбительного смещения Тимофея и раздражения, вызванного этим у влиятельной партии, преданной сыну Конона, но и из-за серьёзных сомнений в том, сможет ли он, несмотря на жёсткие меры по укомплектованию флота, спасти Керкиру. Если бы остров был захвачен, а Ификрат потерпел неудачу, он оказался бы перед лицом суровых обвинений и множества врагов в Афинах. Возможно, Каллистрат и Хабрий, оставшись дома, могли бы в таком случае оказаться среди его обвинителей – поэтому для него было важно связать их обоих со своим успехом или неудачей, а также воспользоваться военными талантами последнего и ораторским искусством первого. [322]
Однако, поскольку результат экспедиции оказался полностью благоприятным, все подобные опасения рассеялись. Ификрат мог легко отпустить обоих своих коллег, и Каллистрат пообещал, что, если ему позволят вернуться домой, он приложит все усилия, чтобы обеспечить флоту регулярную выплату жалованья из государственной казны; а если это окажется невозможным, то будет добиваться заключения мира. [323]
Так ужасны были трудности, с которыми греческие военачальники теперь сталкивались при получении денег из Афин (или других городов, на службе у которых они находились) для выплаты своим войскам! Ификрат испытывал те же затруднения, что и Тимофей годом ранее, – и в дальнейшем эти проблемы будут ощущаться ещё острее, как мы увидим по мере продвижения в истории. Пока же он содержал своих моряков, находя для них работу на фермах керкирян, где, несомненно, требовалось много восстановительных работ после опустошений, учинённых Мнасиппом. Сам же он переправился в Акарнанию со своими пельтастами и гоплитами, где поступил на службу к городам, дружественным Афинам, против тех, что поддерживали Спарту, – особенно против воинственных жителей укреплённого города Фириеида. [324]
Успех керкирской экспедиции, вызвавший всеобщее удовлетворение в Афинах, оказался не менее выгодным для Тимофея, чем для Ификрата. В ноябре 373 г. до н. э. первый, а также его казначей или военный квестор Антимах предстали перед судом. Каллистрат, вернувшись домой, выступил против квестора, а возможно, и против самого Тимофея, в качестве одного из обвинителей; [325] хотя, вероятно, в более мягком и умеренном духе, учитывая их недавний совместный успех и общее благодушное настроение в городе.
И если остриё обвинения против Тимофея таким образом притупилось, то защита усилилась не только благодаря многочисленным друзьям-гражданам, выступавшим в его пользу с возросшей уверенностью, но и необычному явлению – поддержке двух влиятельных иностранных союзников. По просьбе Тимофея, как Алкет Эпирский, так и Ясон Ферский прибыли в Афины незадолго до суда, чтобы выступить в его защиту. Он принял их и разместил в своём доме на Гипподамовой агоре, главной площади Пирея. Поскольку в то время он испытывал финансовые затруднения, ему пришлось занять у Пасиона, богатого банкира, жившего поблизости, различные предметы роскоши, чтобы оказать им должный приём: одежду, постельные принадлежности и два серебряных кубка. Эти важные свидетели могли подтвердить усердную службу и достойные качества Тимофея, который внушил им искренний интерес и способствовал их союзу с Афинами – союзу, который они скрепили, немедленно обеспечив переправу Стесикла и его отряда через Фессалию и Эпир на Керкиру.
Умы дикастов должны были быть сильно впечатлены присутствием перед ними такого человека, как Ясон Ферский, в тот момент самого могущественного человека в Греции; и мы [стр. 154] не удивляемся, узнав, что Тимофей был оправдан. Его казначей Антимах, судившийся другим составом дикастов и, несомненно, не имевший столь могущественных защитников, оказался менее удачлив. Он был приговорён к смерти, а его имущество конфисковано; дикасты, очевидно, считали (на основании каких доказательств – нам неизвестно), что он виновен в мошенничестве при распоряжении государственными деньгами, что нанесло серьёзный ущерб в критический момент. В данных обстоятельствах он, как казначей, нёс ответственность за финансовую сторону порученного Тимофею народом командования по сбору средств.
Что касается военных действий, за которые лично отвечал сам Тимофей, мы можем лишь отметить, что, получив командование специально для спасения осаждённой Керкиры, он потратил неоправданно много времени на свою собственную инициативную кампанию в других местах, хотя сама по себе она была выгодна Афинам. Если бы Керкира действительно была захвачена, народ имел бы все основания возложить вину за это несчастье на его промедление. [326] И хотя [стр. 155] он был теперь оправдан, его репутация настолько пострадала от всей этой истории, что следующей весной он с радостью принял предложение персидских сатрапов, предложивших ему командование греческими наёмниками на службе у них в египетской войне; [стр. 157] это было то самое командование, от которого незадолго до этого отказался Ификрат. [327]
Тот адмирал, чьи морские силы были усилены большим числом керкирских триер, беспрепятственно совершал набеги на Акарнанию и западное побережье Пелопоннеса. Настолько, что изгнанные мессенцы, находившиеся в далёкой ссылке в Гесперидах в Ливии, начали надеяться на возвращение в Навпакт с помощью Афин, где они находились под их защитой во время Пелопоннесской войны. [328] И пока афиняне господствовали на море как к востоку, так и к западу от Пелопоннеса, [329] Спарта и её союзники, обескураженные катастрофическим провалом своей экспедиции против Керкиры в предыдущем году, по-видимому, бездействовали. В таком настроении они были сильно потрясены религиозным страхом, вызванным ужасными землетрясениями и наводнениями, обрушившимися на Пелопоннес в этом году и воспринятыми как знаки гнева бога Посейдона. В этом году Пелопоннес пережил больше таких грозных явлений, чем когда-либо прежде; особенно одно, самое страшное, в результате которого были уничтожены два города – Гелика и Бура в Ахее, вместе с большой частью их населения. Десять лакедемонских триер, случайно стоявших на якоре у этого берега в ночь катастрофы, были уничтожены нахлынувшими водами. [330]
В этих угнетающих обстоятельствах лакедемоняне прибегли к тому же манёвру, который хорошо послужил им пятнадцать лет назад, в 388–387 гг. до н. э. Они снова отправили Анталкида послом в Персию, чтобы просить как денежной помощи, [331] так и нового персидского вмешательства для подтверждения мира, носящего его имя. Этот мир теперь, по мнению лакедемонян, был нарушен восстановлением Беотийского союза под главенством Фив. И, по-видимому, осенью или зимой персидские послы действительно прибыли в Грецию, требуя, чтобы все воюющие стороны прекратили войну и уладили свои разногласия на принципах Анталкидова мира. [332] Персидские сатрапы, в это время возобновлявшие свои усилия против Египта, были заинтересованы в прекращении боевых действий в Греции, чтобы увеличить число греческих наёмников; именно для командования этими войсками Тимофей несколькими месяцами ранее покинул Афины.
Однако, помимо этой перспективы персидского вмешательства, которая, несомненно, имела определённый эффект, сами Афины всё больше склонялись к миру. Тот общий страх и ненависть к лакедемонянам, которые в 378 г. до н. э. привели их к союзу с Фивами, теперь уже не доминировали. Афины фактически возглавляли значительный морской союз, и вряд ли они могли надеяться расширить его, продолжая войну, поскольку морское могущество Спарты уже было подорвано. Кроме того, они находили военные расходы чрезвычайно обременительными, никак не покрываемыми ни взносами союзников, ни плодами победы. Оратор Каллистрат, пообещавший либо обеспечить перечисления денег Ификрату из Афин, либо добиться заключения мира, [стр. 159] был вынужден ограничиться последним и много сделал для укрепления мирных настроений среди своих сограждан. [333]
Более того, афиняне всё больше отдалялись от Фив. Древняя вражда между этими соседями на время была подавлена общим страхом перед Спартой. Но как только Фивы восстановили свою власть в Беотии, афинская ревность снова дала о себе знать. В 374 г. до н. э. Афины заключили мир со спартанцами без согласия Фив; этот мир был почти сразу нарушен самими спартанцами из-за действий Тимофея на Закинфе. Фокидяне, против которых Фивы теперь вели войну как против активных союзников Спарты в её вторжениях в Беотию, также были давними друзьями Афин, сочувствовавшими их страданиям. [334] Кроме того, фиванцы, со своей стороны, вероятно, возмущались неоплаченным и бедственным положением, в котором Тимофей оставил их моряков на Калаврии во время экспедиции по спасению Керкиры в предыдущем году; [335] экспедиции, от которой одни Афины получили и славу, и выгоду.
Хотя они оставались членами союза, отправляя делегатов на собрания в Афинах, неприязненный дух с обеих сторон продолжал расти и ещё более обострился из-за их насильственных действий против Платей в первой половине 372 г. до н. э.
В последние три-четыре года Платея, как и другие города Беотии, снова вошла в состав союза под главенством Фив. Восстановленная Спартой после Анталкидова мира как якобы автономный город, она была занята их гарнизоном как опорный пункт против Фив и уже не могла сохранять реальную автономию после того, как спартанцы были изгнаны из Беотии в 376 г. до н. э. В то время как другие беотийские города радовались освобождению от своих филолаконских олигархий и воссоединению с федерацией под началом Фив, Платея, как и Феспии, подчинилась объединению лишь по принуждению, выжидая удобного момента для выхода – будь то с помощью Спарты или Афин.
Очевидно, осознавая растущую холодность между афинянами и фиванцами, платейцы тайно пытались убедить Афины принять и занять их город, присоединив Платею к Аттике; [336] проект рискованный как для Фив, так и для Афин, поскольку он привёл бы их к открытой войне друг с другом, в то время как ни одна из сторон ещё не находилась в мире со Спартой.
Эта интрига, став известной фиванцам, побудила их нанести решительный удар. Их главенство над многими малыми городами Беотии всегда было суровым, что соответствовало грубости их нрава. Особенно по отношению к Платеям они питали не только давнюю вражду, но и считали восстановленный город не чем иным, как спартанским вторжением, отнимавшим у них часть территории, которая стала фиванской благодаря сорокалетнему владению после сдачи Платей в 427 г. до н.э. [337] Поскольку для Фив это означало бы потерю и осложнение, если бы Афины приняли предложение Платей, они предупредили эту возможность, захватив город сами.
После повторного завоевания Беотии Фивами платейцы, хотя и неохотно, вновь оказались под древней беотийской конституцией. Они жили в мире с Фивами, признавая их права как главы федерации, а взамен их собственные права как членов союза гарантировались Фивами – вероятно, на основании формального соглашения, включавшего их безопасность, территорию и ограниченную автономию в рамках федеральных обязательств.
Но даже находясь в мире с Фивами, [337] платейцы хорошо понимали истинные чувства фиванцев к ним и свои собственные к Фивам. Если верить весьма вероятным слухам, что они тайно вели переговоры с Афинами о помощи в выходе из федерации, осознание этой интриги лишь усиливало их тревогу и подозрительность. Опасаясь агрессии со стороны Фив, они постоянно были настороже. Однако их бдительность ослабла, и большинство мужчин покинуло город, отправившись в свои загородные поместья в дни, когда в Фивах проводились народные собрания, даты которых были известны заранее.
Этим воспользовался беотарх Неокл. [338] Он повел фиванский отряд прямо с собрания обходным путем через Гиссии к Платеям, где застал город почти без мужчин, неспособный к сопротивлению. Платейцы, застигнутые врасплох в полях, обнаружили свои стены, жен и детей во власти победителей и были вынуждены принять предложенные условия. Им разрешили уйти в безопасности, забрав движимое имущество, [p. 162] но их город был разрушен, а территория вновь присоединена к Фивам. Несчастные беглецы во второй раз искали убежища в Афинах, где их снова приняли дружелюбно и восстановили в ограниченных гражданских правах, которые они имели до Анталкидова мира. [339]
Фивы вмешивались не только в дела Платей, но и Феспий. Не доверяя настроениям феспийцев, они заставили их снести укрепления своего города, [340] как уже делали пятьдесят два года назад после победы при Делии, [341] подозревая их в симпатиях к Афинам.
Такие действия фиванцев в Беотии вызвали сильное возмущение в Афинах, где платейцы не только появились [p. 163] как просители, демонстрируя явные следы своих страданий, но и трогательно изложили свое дело перед народным собранием, умоляя помочь вернуть город, от которого их только что оторвали. По вопросу, столь трогательному и политически значимому, несомненно, было произнесено множество речей, одна из которых, к счастью, дошла до нас – речь Исократа, возможно, произнесенная платейским оратором перед собранием. В ней ярко описана тяжелая судьба этого небольшого, но важного сообщества, включая горькие упреки (не без риторического преувеличения) в адрес многочисленных несправедливостей Фив как по отношению к Афинам, так и к Платеям.
Хотя многие его обвинения звучали резко, они не всегда были убедительны. Например, когда оратор неоднократно ссылался на право Платей на автономию, гарантированную Анталкидовым миром, [342] фиванцы, несомненно, отвечали, что на момент заключения мира Платей уже не существовало: город был уничтожен сорок лет назад и возрожден спартанцами лишь в своих политических целях. Оратор прямо указывает, что фиванцы нисколько не стыдились своих действий и даже прибыли в Афины, чтобы открыто их оправдать; более того, некоторые видные афинские ораторы поддержали их сторону. [343]
То, что платейцы сотрудничали со Спартой в ее недавних действиях в Беотии против Афин и Фив, было неоспоримым фактом, который сам оратор мог лишь смягчать, утверждая, что они действовали под давлением спартанских сил. Однако противники использовали это как доказательство их проспартанских настроений и готовности вновь присоединиться к общему врагу. [344] Фиванцы обвиняли Платеи в измене союзу и даже утверждали, что оказали услугу афинской конфедерации, изгнав жителей Платей и разрушив Феспии, поскольку оба города не только симпатизировали Спарте, но и находились у Киферона – рубежа, через который спартанская армия могла вторгнуться в Беотию. [345]
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+15
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе