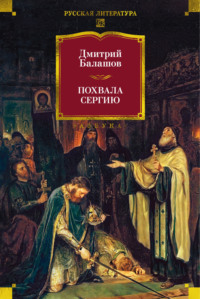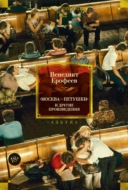Читать книгу: «Похвала Сергию», страница 2
Глава третья
Виноват ли был боярин Кирилл, что в тщетном стремлении поддержать ростовскую княжескую династию он рушился вместе с нею? Что, упрямо спасая Константина Борисовича, не считал имения своего, что, приняв буквально на руки Василия Константиновича, он видел от того один лишь разор и неблагодарность. Не слушая своего боярина, Василий Константинович переметнулся было от Михайлы Тверского к Юрию Московскому, и приведенные Юрием послы ордынские, Казанчий с Сабанчием, жестоко пограбили Ростов, а с Ростовом заодно и загородное имение Кирилла.
Василий Константинович умер на двадцать пятом году жизни от морской болезни, запутав донельзя свои и Кирилловы дела, и тут на ростовский стол сел углицкий двоюродник, Юрий Александрович, пятнадцатилетний мальчик, и именно при нем в 1318 году явился «посол лют именем Кочка», ограбил Ростов, разорил и ободрал Успенскую церковь, пожег монастыри и окрестные села, спалив дотла усадьбу Кирилла, из которой татары подчистую вывезли все добро и скот, оставив одно погорелое место.
Мы сейчас почти не понимаем, что значили богатство и богатый человек в те века, ибо о богатстве судим по условиям дня нынешнего, когда деньги приходят в виде зарплаты или лежат на книжке, то есть поддержаны и обеспечены могущественным аппаратом государства, устроением, начала и концы коего неизвестны для нас, так, будто уже оно и само по себе существует. В лучшем случае мы представляем богатство по условиям дворянской жизни XIX столетия, той, с картами, псовою охотой и проматыванием имений… И великая истина, что богатство создается трудом и что чем больше человек работает, тем он богаче, и наоборот, чем он больше имеет богатства, добра, «собины», тем больше обязан работать, чтобы его сохранить, – великая эта истина, верная в глубинной сути своей, несмотря на все иллюзорные ее искажения, для всех времен и народов, почти недоступна уже нашему сознанию. К слову сказать, получив от Екатерины указ «о вольности дворянства», то есть о праве жить, не служа в армии, а значит, не работая, дворяне наши, несмотря на отчаянные усилия лучших своих представителей, за полвека прожили, промотали и утеряли все нажитое их предками за шесть предшествующих столетий, и реформа 1861 года, по сути, покончила с дворянством, разрушив саму систему поместий, «земель со крестьяны»… Ну а как купеческие сынки умели за считаные годы спускать миллионные отцовские состояния, мы знаем из литературы того же XIX века достаточно хорошо.
В те же, далекие от нас века, когда всеохватывающей бюрократической государственной системы еще вообще не существовало, в те века отнюдь не просто было быть богатым и удерживать и передавать детям богатства свои.
Боярин Кирилл был «нарочит», великий муж в Ростовской земле. Но что это значило? В чем состояло оно, это богатство? В родовых именьях (напомним, без крепостного права), в оружии, стадах, портах и прочей «рухляди», в дружине, наконец. Но за стадами нужен уход, оружие имеет силу только в руках ратников, а ратных, дружину, нужно кормить, и кормить хорошо. Чем значительнее был боярин, тем большее число зависимых от него людей кормилось от его стола. И выгнать, уменьшить число их было подчас просто невозможно. А служба князю? Она заключалась в делах посольских (а ездили за свой кошт), в военной помочи (а приводили своих ратных и оборужали их сами), в управлении – ну тут, на «кормлении», то есть управлении какой-то областью, можно было получить причитающиеся по закону «кормы», которые опять же шли на содержание дружины, слуг, посельских, ключников и прочая. А ежели земля была разорена, взять с нее что-то было отчаянно трудно (крестьянин не был крепостным, напомним еще раз, и волен был уйти на все четыре стороны), а дружину, всех данщиков, вирников и прочих – корми! И ежели князь разорен, то одарить боярина за ту же поездку в Орду совместно с князем он не может. А поездки в Орду – сущее разорение! Там каждому татарину дай по приносу, да и стоимость тогдашних переездов нам даже не представить себе: целый поезд людей, коней, дружины, возы с припасом, лопотью, серебро, серебро, серебро – не то не доедешь и до места… А ездить со князем своим надобно все равно. Не откажешься, ежели ты «муж нарочит» и один из ближайших бояр своего господина…
Малолетних князей ростовских Кирилл не жалел. Понимал и отводил глаза, видя жалкую улыбку, с коей Федор Васильевич вместо серебра и добра награждал своего слугу все новыми обещаниями в грядущем не забыть… Князь был нищ. Куда уплыли сокровища, собиравшиеся столь упорно предками, он не знал и сам хорошенько. Задерживались дани Орде. Дело шло к тому, что московский князь вот-вот наложит руку на Ростов, без бою – драки – кроволития, а просто так вот: возьмет и съест. И боярин Кирилл нищал вместе со своими князьями. Нищал еще страшнее, ибо князь, даже разоренный дотла, все одно имеет право на княжеские «кормы» и дани со своего княжества, а разорившийся боярин, теряя добро и земли, теряет все и может решительно опуститься по социальной лестнице до служивых дворян, до городовых «детей боярских», до холопов даже и даже до крестьян. И путь этот, безоглядный путь вниз, боярину Кириллу, как виделось ясней и ясней, был уже как бы предопределен судьбой.
Глава четвертая
Юрий Александрович, очередной князь-малолеток, наделавший новой беды Кириллу, умер в лето 1320-е, на восемнадцатом году жизни, освободив стол для малолетних детей Василия Константиновича… И вот город, сделавшийся столпом учености Владимирской Руси, погибал. Погибал без бою и славы, в княжеских и боярских несогласиях, в наездах послов, в оскудении, причины коего – увы! – гнездились прежде всего в самих князьях ростовских, что «мельчали и исшаивали», когда рядом слагались княжества и росли, бурля и перераспределяясь, глубинные силы новой Руси.
За сварами и ссорами не разглядели, не учуяли князья, да и бояре ростовские, того грозного, что творилось на Руси и в Орде в эту пору.
Сыновья Невского, Дмитрий с Андреем, заливали землю кровью, но спор шел не о малом. Великое княжение, а с ним вся северная Русь лежали на чаше весов и должны были достаться победителю. Дети Невского властно простирали руки к Великому Новгороду, налагали длань на целые княжества, приобретали, захватывали, но не делили! Ростовские князья ссорились по-мелкому и не увидели, как с принятием мусульманства Узбеком, с победою «бесермен», страшно закачались русско-ордынские весы. Не поняли трагической сути падения Михаила Тверского. Не учуяли, что дело шло к Куликову полю – к Куликову полю дело шло! Этого не увидели, не поняли в Ростове, хотя тут-то и должны бы были и обязаны были понять прежде прочих! И потому, век приспособляясь, даже и приспособиться не смогли к тому новому, что начало наползать на Русь с воцареньем Узбековым.
Кирилл был в числе немногих понимавших – потому и настаивал, чтобы Ростов держался Твери и великого князя Михаила, – но что он один мог?! Прочим, казалось, пример Федора Чермного – едва не захватившего вместе с Ярославлем Смоленское и Переяславское княжества, – навечно вскружил головы. Изо всех сил подружиться, покумиться с Ордой! Вопреки своему же народу! Милостью хана усидеть на столе! И не узрели, что даже у покойного Федора Чермного не получилось, да и получиться не могло, ибо вне морали нет и не может быть успешной политики на Руси! И не видели, не ведали, что Орда уже не та совсем и союз с ханом, премудро устроенный некогда Александром Невским, перестал быть возможен теперь, когда победили воинствующие бесермены, объявившие Русь «райей», податным бесправным скотом, обреченным на позор и уничтожение. И начались «послы»…
* * *
А было допрежь того так: сидел в каждом городе баскак татарский, без войска и особых прав, и надзирал за князем – исправно ли тот вносит дань татарскую, не злоумышляет ли чего? Князь дарил баскака подарками, а мог и нажаловаться на него в Орду. И баскак предпочитал не ссориться с князем, на иное закрывал глаза сам, на другое закрывал ему глаза князь дареными соболями… А тут не стало баскаков, начались «послы».
Посол приходил лишь раз, он был чужой князю и был заинтересован в одном – взять! Взять так, чтобы другим не досталось. Жаловаться не будут, а и будут – попусту: «райя», скот! И поступать можно как со скотом. И каждый посол свирепствовал как мог и наживался как мог. Летопись сохранила нам от тех лет, с 1314 года начиная, целый мартиролог ограбленных и сожженных городов, сожженных не ратным нахождением, а – послами! В лучшем случае обходилось без огня, а так: приходил в 1321 году из Орды в Кашин посол, «татарин Таянчар с жидовином должником, и много тягости учинил Кашину». А Кашин был город немалый, второй по значению в Тверской земле, и учинить ему многую тягость значило разграбить дочиста.
И так уж получалось, что сильные князья умели, задаривая хана, отделаться от послов, и потому разорялись послами грады поменьше и княжества послабее. А те, кто умел ладить с Ордою, как Юрий Московский, еще и сводили руками послов счеты с соперниками своими.
И явно не без чужого наущения посол Ахмыл, в 1322 году пришедший из Орды с московским князем Иваном Данилычем, взял и сжег Ярославль, после чего готовил такую же участь Ростовской земле и граду Ростову.
Город спасло прошлое, опять прошлое! Спасли нити традиций, которые рвутся далеко не сразу и не вдруг даже и в величайших катаклизмах истории. Райя райей, а старинные связи было порушить не просто и татарскому послу. Русская церковь все еще внушала опасливое уважение ордынцам. Давно ли православные епископы в Сарае председательствовали на ханских советах?!
Некогда, еще при Менгу-Тимуре, один из царевичей-чингисидов, придя на Русь, крестился под именем Петра и основал монастырь в Ростовской земле. Этот «ордынский царевич Петр» был посмертно канонизирован, не без дальнего загляду: была надежда (несбывшаяся) на скорое обращение всей Орды в православие. И жил в Ростове правнук святого царевича Петра, Игнатий, уговоривший владыку Ростовского, Прохора, встретить Ахмыла крестным ходом, поднеся ему «тешь царскую»: кречетов, соколов, шубы и прочие дары. Да тут еще сын Ахмылов заболел глазами на Ярославле, и владыке Ростовскому удалось его исцелить. И Ахмыл, послушавши Игнатия, – как он сам сказал: «цареву кость, татарское племя», – укротил нрав, остановил грабежи Ростовской волости и не тронул, не стал жечь самого города…
Это и была та самая «Ахмылова рать», память о которой связалась с рождением отрока Варфоломея.
Глава пятая
И вот первое, во что я, человек двадцатого века, смущаюсь поверить: чудо, случившееся еще до рождения Сергия. Когда в церкви, во время литургии, троекратно послышался детский крик из материнской утробы, крик ребенка, еще не рожденного, будущего Варфоломея, в иночестве Сергия, по месту исхода его прозванного Радонежским.
Крик является с дыханием, младенец же в утробе матери еще не дышит, следовательно, не может и закричать. В это-то противоречие и утыкается мой слабый ум. Было? Не было? Но ведь было! Ибо не легенда, сочиненная позже, а настойчиво повторяемый, во всю жизнь Сергия, рассказ. Событие, доставившее много беспокойства и родителям его, заботно, не раз и не два и у разных людей выспрашивавшим – к чему такое? И что означает, и о чем повествует, не к худу ли? И каков будет этот ребенок, какой судьбой наградит его Господь?
И вот я стремлюсь найти «научное», то есть современное объяснение… о суета сует! Да разве научное объяснение что-нибудь изменит в его жизни, в том, что было, о чем говорили и во что верили люди той поры… Да и вообще, что значит «было»? Был крик, троекратный детский крик из утробы беременной, возможно на последнем месяце, боярыни, крик в церкви во время литургии, и бабам, обступившим ее после службы, отвечено было со стеснением и опусканием очей, что младенца нигде не прячет, что он еще там, во чреве… А я буду сейчас добиваться – мог ли нерожденный прокричать? Да разве в этом дело? И – дадим уж себе волю и на это, дадим волю на «объяснение», ибо без того не можем, не умеем помыслить иначе. Мог же быть любой непроизвольный «чревный» крик у женщины на сносях, в полной народу церкви, да на последнем месяцу, да после двух-трехчасового стояния, да, возможно, в духоте, в полуобморочном состоянии, возможно, в состоянии полубредовом, экстатическом, когда самой уже кажется, что то кричит ребенок во чреве… Ну хоть так объясним! Хотя – зачем? Зачем нам всегда эти научные объяснения или опровержения чудес? Верим же мы без объяснений и без опыта, и не понимая того совершенно, в чудеса современной механической цивилизации, и довольно там, что кто-то там видел, кто-то понял и объяснил. Лишь бы сами сделали, сами люди. Ну а тогда, прежде, верили природе. И непонятное, неясное ему называли чудом. Страшусь сказать, но выскажу все же и такое предположение: а что, ежели наш механический век не все понял, не все постиг, а вдруг да не все тайны бесконечной и бесконечно изменчивой вселенной ясны нам, нашему сегодняшнему сознанию? Сколько в самом деле высокого духовного мужества и высокого стояния ума потребовалось англичанину Вильяму Шекспиру (человеку самого начала современной технической цивилизации) для того, чтобы разорвать этот порочный круг мысли: «Если неизвестно нам и нами не объяснено, значит не существует», – разорвать и бросить в лицо гордым современникам, и в лица грядущим, еще более спесивым потомкам бросить вещие слова истинного прозрения: «И в небе, и в земле сокрыто больше, чем снится нашей мудрости». (В старом, более известном переводе это звучит так: «Есть многое на свете, друг Гораций, что и не снилось нашим мудрецам».)
Так вот, не будем все же добиваться, чтобы современная медицина объясняла все чудеса Средних веков. Она будет стараться объяснить их, как объясняем мы ход истории в каждый век по-своему и в каждый век по-разному. Но как история все-таки была… Не важно, из гордости, мужской ли обиды или по «экономическим соображениям», но, скажем, древние греки отправились-таки под Трою, и сложили там свои головы, и пели потом героические песни-сказания о великой войне с Приамом, и песни эти были записаны и дошли до нас, и вся запутанность гомеровского вопроса не отменяет наличия «Илиады» и «Одиссеи»… Так вот, то, что было, – было, и был троекратный младенческий крик в церкви, во время литургии, в ростовском соборе, в первой четверти великого четырнадцатого столетия…
Беременная Мария стояла на притворе. Когда за проскомидией (приготовлением святых даров в алтаре), после пения «трисвятого» («Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!») хотели начать честь Евангелие, ребенок внезапно завопил в утробе. Она охватила живот руками, стояла ни жива ни мертва. Вторично, уже когда начали петь херувимскую песнь: «Иже херувимы…» – младенец вновь внезапно заверещал на всю церковь. И в третий раз возопил, когда иерей возгласил: «Вонмем святая святым».
Тут уж заволновались и все окружающие. Женщины и мужчины стояли тогда в храмах, не смешиваясь, на левой и правой сторонах собора, и потому толпа вокруг Марии была сплошь своя, бабья, настырная и любопытная, и любопытно-бесцеремонная.
Но надо объяснить тут, что же такое литургия? Литургия, или обедня, – это главное, основное, ежедневное богослужение православной церкви.
По евангельской легенде, в ночь накануне того дня, когда Его, по доносу Иуды, схватила стража, чтобы увести на казнь, Иисус, уже прозревавший свой скорый конец, сидя с учениками за позднею трапезой, в задумчивости разломил хлеб, покрошив его в чашу с вином, и, обратясь к ученикам, промолвил:
– Примите, ядите! Сие есть тело мое и кровь моя Нового завета!
Тускло чадили масляные плошки. Двенадцать скитальцев во главе со своим наставником, они ели в задней комнате бедного пригородного дома. Ели не потому, что исполняли обряд, а потому, что были голодны и усталы. Грозно пошумливал невдали, укладываясь спать, великий и гордый город. «О Иерусалим! – как-то воскликнул Христос. – Ты, побивающий камнями пророков своих!» Испеченный на поду грубый хлеб, да дешевое кислое красное вино, разбавленное водою, да горсть оливок – о мясе козленка им не приходилось и мечтать! – вот и вся трапеза. И их было мало, так мало в этом чужом и враждебном, гордящемся храмом своим, торговом и шумном городе! Их было только двенадцать человек. Дух отчаяния, дух скорого отречения от учителя своего витал над ними. В этот миг Иуда встал, окутав лицо плащом.
– Что делаешь, делай скорей! – с суровой горечью произнес наставник. Ему уже оставалась только часть ночи: моление о чаше в Гефсиманском саду.
Так ли бестрепетно уведал он о предназначении своем? Так ли спокойно отпустил от себя Иуду? Но сделать уже ничего больше было нельзя. Вскоре, когда сад наполнился стражей, шумом и лязгом оружия, он сам остановил ученика своего, взявшегося было за меч. Отрубленное ухо раба первосвященникова – вот и вся кровь, пролитая за него в Гефсиманском саду. Да, они, ученики, были готовы умереть, сражаясь. Но не это было важно теперь. Важно было – важнейшее. И в этом, важнейшем, они были еще не тверды. «До того как пропоет петух, ты трижды отречешься от меня», – сказал он Петру – и не ошибся. В свалке, в толпе, когда ему при желании можно было бы скрыться, он не пожелал бежать. Иуда подошел и облобызал Христа. Это был условный знак убийцам: «Поцелуй Иуды». Учителя схватили. Жертва, кровавая добровольная жертва за други своя, была принесена.
Позднее, припоминая и сопоставляя, постигли уцелевшие ученики грозный смысл Иисусовых слов, сказанных над преломленным хлебом, и поняли, что то был завет на грядущее. Хлеб и вино – тело и кровь. И крест, и мука крестная. Жертва, которую смертный постоянно приносит на алтарь человечества, высшая жертва Создателя Созданию своему. И, собираясь тайно на общие трапезы, стали они с тех пор преломлять хлеб и крошить в багряное вино, смешанное с водою. Дабы не забыть. И укрепиться духом. И не пострашить пред смертною мукою, когда придет роковой час. И во время трапезы знали: не хлеб и вино, а тело и кровь Господа своего вкушают они, чудесно пресуществленные из вина и хлеба, приносимые каждый раз заново и заново на алтарь человечества. И не прекратится жертва, и не оскудеет любовь того, кто смертною мукою указал путь заблудшим чадам своим. И каждый раз, чудесно преображаясь в таинстве евхаристии5, хлеб превращается в тело, а вино – в кровь Господнюю.
Ученые мужи укажут тут, пожалуй, на элементы древней магии приобщения, свойственные многочисленным языческим культам, а именно – поедание частицы бога (тотема, тотемного животного) с целью получения (перенесения) его свойств на самого себя. Нелишне будет напомнить о принципиальном для древнего человека различении двух магических действий, а именно: обрядового поедания врага, трансформировавшегося в черные дьявольские культы с людоедством, ритуальными убийствами и проч., – и поедания своего бога (хозяина, покровителя), который добровольно отдает себя, свое тело, дабы укрепить своих подопечных или даже перейти в них, обретя в них новую жизнь. Таким образом, эти два действия, для современного человека вроде бы и схожие, имеют принципиально два противоположных смысла: борьбы – уничтожения, с насильственным подчинением чужой силы, и союза – присоединения, с передачей силы последователям своим. Можно бы проследить названные обряды исторически, найти тьму примеров, когда первоначальный кровавый культ (часто с человеческими жертвоприношениями) с течением веков смягчался. Подлинная кровавая жертва заменялась предметом или веществом, только символизирующим ее в обряде… И тут-то мы и подойдем к таинству «преображения» хлеба и вина в тело и кровь Господнюю. Все это и многое другое можно бы, повторяю, высказать здесь, как и про связь (в значительной мере по противоположности) христианского культа с древнееврейским. Почему Христос в проскомидии и получает название агнца (по аналогии с еврейским пасхальным жертвоприношением: закланием и поеданием ягненка), и многое еще можно бы вспомнить тут, хотя можно и не вспоминать вовсе. Дело в том, что ритуал, культ, никогда и нигде не является рациональным изобретением ученых или жрецов, а всегда и всюду возникает в результате горячей веры – переживания и уверенности в исключительности для себя и истинности в высшем смысле всякого данного ритуала.
Скажем так: обряды не создаются, а складываются, возникают. И для того чтобы сложилось, возникло таинство евхаристии, нужна была горячая вера, во-первых, в исключительность, важность самого акта добровольной жертвы Иисуса Христа для духовного спасения своих последователей – христиан. Нужна была экстатическая вера в то, что пресуществление в самом деле происходит, и недаром история отмечала множество случаев, когда верующие видели действительно на престоле, в причастной чаше, вместо хлеба – агнца или даже младенца Христа. То есть для них даже и зрительно, и по ощущению происходило превращение хлеба и вина в тело и кровь Христову. Легко понять поэтому, какое экстатическое состояние могло охватывать верующих во время таинства пресуществления в те, уже далекие от нас века, когда вера была живой и грозной, когда религия обнимала и пронизывала всю жизнь, когда за принципы, имеющие для нас не больше значения, чем древняя мифология, люди бестрепетно отдавали жизнь, шли на костер и муку, доводя себя в воображении своем до такого состояния, что на ногах и руках у иных сами собою появлялись вполне реальные кровавые язвы – стигматы, следы гвоздей, коими был некогда прибит Спаситель ко кресту.
Да, впрочем, что говорить? Поставим вопрос иначе, не в плоскости исторических научных исследований, а в другой. Не является ли во все века истории для человека высшею ступенью подвига, высшим состоянием, до коего он может подняться в героизме своем, подвиг и состояние жертвенности? И в этом смысле не будут ли вечны и на все века справедливы слова о том, что «никто же большей жертвы не имет, аще отдавый душу за други своя»? Что, скажем уж до конца, без этого высокого чувства, без этой готовности отдать себя за других человеческое общество попросту не может существовать, что когда тот или иной человеческий коллектив пронизают идеи своекорыстия, эгоизма, жестокости и насилия, человеческое общество, побежденное ими, скоро гибнет, как бы устроено и могущественно оно ни было. И в этом смысле, по крайней мере, мы можем говорить даже и теперь, и с точки зрения нашего атеистического и материалистического воспитания, что жертвенный подвиг Христа в пору крушения античного мира спас человечество от гибели, указав новые идеалы новой жертвенности, новой самоотдачи «за други своя», взамен утраченных античных, и тем самым позволил утерявшему цель и смысл существования обществу вновь обрести для себя и цель, и смысл, и веру, вырастив в недрах умирающего античного мира новые живые побеги юной культуры, охватившей вскоре все Средиземноморье и половину Европы и получившей со временем название культуры христианской.
Скромный обряд, трапеза верных, вспоминающих учителя своего, с течением веков превратился в пышное богослужение, литургию, или по-русски обедню (название «обедня» указывает на обычное время совершения ее – до обеда). Явились строгие правила, чтение Апостола и Евангелия, кондаков6 и тропарей7, стройное пение антифонов8 и молитвословий украсили древний обряд. В напряжении духовного творчества первых веков христианства сами собою слагались все более сложные формы литургического действа. Виднейшие отцы церкви, Иоанн Златоуст и Василий Великий, оставили нам свои каноны литургий, ставшие основою православного богослужения. Само литургическое действо обозначало теперь как бы сразу и рождение, и крестную смерть агнца – Христа. Отправлять литургию получил право только пресвитер, священник. (Дьякон уже не имеет права совершать литургию.) Приготовление символической трапезы – проскомидии (разрезание хлеба – вынимание частиц из просфор, приготовление вина и проч.) происходит обязательно в алтаре, на жертвеннике, и совершается священником после обязательного к тому молитвенного приуготовления.
Пока в алтаре происходит приготовление святых даров, в храме находятся молящиеся христиане и те, кто еще не принял крещения, а только готовится к тому, – оглашенные; и начало литургического действа так и называется: «литургия оглашенных». На литургии оглашенных, после великой ектеньи9, антифонов, пения «трисвятого» и прочих молитвословий, читают отрывки из Евангелия, что символизирует проповедь Христа народу (почему эта часть литургии и открыта равно для всех – и христиан, и неверующих). Напомним, что младенец Варфоломей закричал впервые как раз, когда хотели начать честь Евангелие, то есть, по христианской символике, перед проповедью Христа.
После литургии оглашенных начинается главное литургическое действо – «литургия верных». Оглашенных и вообще всех прочих, кто не причастен к тайне крещения, просят выйти из храма возгласом: «Изыдите, оглашенные!» В воспоминание о тех древних, укромных литургиях, совершаемых во враждебном окружении, втайне от властей, преследовавших христиан, дьякон восклицает: «Двери, двери!»
И вот начинается важнейшая часть обедни – перенесение святых даров с жертвенника на престол. Хор после ектеньи «Паки и паки миром Господу помолимся» запевает херувимскую песнь: «Иже херувимы тайно образующе и животворящей Троице трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение. Яко да Царя всех подымем, ангельскими невидимо дориносима чинми: аллилуйя, аллилуйя». (Здесь говорится об ангелах – невидимых копьеносцах, охраняющих святые дары. Насколько важна эта часть литургии, свидетельствует уже то, что по вопросу: единожды или трижды пропевать в конце херувимской песни «аллилуйя», в XVII столетии начался яростный спор староверческой и никонианской церквей.) Именно в этот торжественный миг Варфоломей прокричал вторично, нарушая пристойность обряда.
Третий крик ребенка раздался уже после самого претворения, перед причастием, когда дьякон возглашает: «Вонмем!» А иерей, вознося дары, отвечает ему: «Святая святым!»
Что означал этот троекратный крик, нарушивший благочиние службы? Был ли то крик радости и веры во время происходившего таинства или, наоборот, вмешательство злой силы, стремящейся нарушить стройное течение литургии? Ведь еще и так при желании можно было повернуть событие!
Бабы окружили смущенную боярыню.
– Покажь ребеночка-то! – требовательно приказывали ей.
Под широким боярским опашнем, что скрывал вздетый живот беременной, можно бы было и новорожденного спрятать. Еще что нам дивно и что следует объяснить, это женская, бабья бесцеремонность, с коей обступили великую боярыню посадские и купеческие женки. Но тогда, в те века, церковь действительно уравнивала, и тут были все – молящиеся, и все бабы – бабы, и не было лакея с дрожками у паперти, и одежда была похожей. (И не было, еще не было крепостного права! Того тоже не забудем днесь!) Мы же отравлены воспоминаниями о надругательствах барских над бесправною дворней в восемнадцатом-девятнадцатом столетиях, мы же и боярина представляем в виде барина пушкинской или хоть екатерининской поры, во французском платье, в пудреном парике, с тростью и лакеями за спиной. А этого не было. Еще не было. В церковь шли пешком, все и всегда. Тем паче женщины. Даже и много позже, даже и века спустя (царицы уже!) шли пешком из Москвы в Сергиеву лавру на поклонение. Шли с толпами молящихся, в одно, так что же говорить про четырнадцатый век!
Бабы теребили, ощупывали даже беременную боярыню:
– Где ребеночек-то? Детский же был крик-от!
А она краснела, тупилась и повторяла, отпихивая слишком бесцеремонные руки, что нет, не прячет она дитятю где под опашнем, что дитя в ней, самой, еще не рожденное… И тут-то чьи-то круглые глаза, кто-то громко охнул, кто-то всплеснул руками:
– Ба-а-абы! Ребеночек-то во утробе прокричал! Анделы! Не простой, видно! Да уж не черт ли тут подводит, не нечистая ли женка, жена боярская, что приперлась в церкву на сносях, уж чего у ней во черевах-то?!
Про то, что ребеночек святой, не вдруг подумают, из зависти бабьей сперва про худое скажут. Тем паче боярыня все-таки, боярыня великая, а уж и знают, что нынче, по нонешним временам, обедневшая боярыня-то! Что уже нет той силы, и славы, и богатства того, и уже не робкая зависть, а глумливое насмешничанье порой послышится ей вслед. Тем паче тут, среди народа, в церкви, где она одна среди прочих нарочно на хоры не пошла, стояла в толпе внизу, смиряла себя. Самой разве легко видеть ежеден заботно хмурое лицо супруга, и скудость наступающую, и небрежничанье холопов, тех, что прежде стремглав кидались по первому знаку…
И вот теперь новая забота, новое горе, новое трудное испытание – этот вот ребенок, второй сын (чуялось как-то, что сына дает ей опять Господь). Старшенький, Стефан, уже и грамоту начал постигать, а этот какой-то будет еще?! И вот тут, воротясь из церкви, в слезах, повестила она супругу своему про наваждение – чудо ли? – случившееся с нею на обедне… И священника призывали, и, отслужив молебен, а после отведав обильной трапезы и прилично отрыгнув, успокаивал родителей отец Михаил, толковал от писаний, от текстов… А неуверенность осталась, и, борясь с нею, строже и строже блюла беременная весь чин христианского жития, молилась часами, постилась по средам и пятницам, содержала себя в чистоте телесной и духовной. К тому часу, как родить, лицо истончилось, стало прозрачным до голубизны, и глаза – огромными. Уже и супруг, коему хватало своих забот, стал взаболь бояться за нее – не скинула бы плод, не умерла бы сама от добровольно наложенной на себя тяготы!
Но не беспредельна труднота бабьей тягости. Срок родин подошел благополучно. И то еще скажем, что, к счастью великому, не в возке, не в пути, не в траве под кустом и не в придорожной курной избе, а дома, в своих хоромах боярских, довелось Марии произвести на свет второго, самого знаменитого сына своего.
Начислим
+16
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе