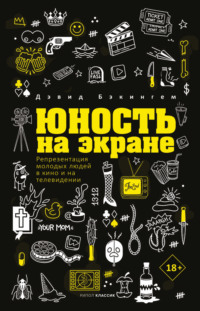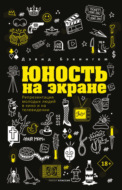Читать книгу: «Юность на экране. Репрезентация молодых людей в кино и на телевидении», страница 3
Как возникают правонарушения
Волна тревоги, которую JD фильмы пятидесятых годов и спровоцировали, и отобразили, была далеко не первой. История беспокойств по поводу дурного поведения молодежи насчитывает много веков [2]. Идея, что молодое поколение вышло из-под контроля, часто воспринимается как доказательство более общих утверждений о культурном или моральном упадке. Как я уже отмечал в главе 1, психологи начала XX века, которые определяли – и фактически изобрели – «подростковый возраст» как уникальный жизненный этап, явно считали его периодом хрупкости, уязвимости и риска. С приходом современности молодых людей все чаще считают проблемными и тревожными [3].
Однако поразительным – и требующим объяснения – остается тот факт, что эти волны тревоги зачастую мало связаны с реальным уровнем преступности среди молодежи. «Факты» преступлений среди молодежи трудно установить, потому что доказательства ненадежны. Официальная статистика преступности, а также другие данные, такие, как опросы жертв и исследования самоотчетов, существенно различаются в зависимости от того, какое именно поведение воспринимается как преступление, какие меры принимаются (например, сообщается ли о преступлениях, регистрируются ли они, приводят ли к аресту и осуждению), а также от того, как эти цифры интерпретируются [4].
Для современных криминалистов этот вопрос больше связан с навешиванием ярлыков – то есть с тем, каким образом виды поведения квалифицируются как преступные. В случае с молодежью возникает особая проблема статусного хулиганства: то есть поведения, которое считается преступлением для молодых людей, но не является таковым для взрослых. У молодежных преступлений своя особая история: часто даже очень незначительные проступки «закреплялись законодательно», и для решения этой проблемы были разработаны альтернативные режимы вынесения приговоров и наказаний для несовершеннолетних – такие, как исправительные школы. Иными словами, общественные дебаты, а затем и правовая система фактически криминализируют определенные виды поведения молодых людей.
Термин «несовершеннолетний правонарушитель» прочно вошел в обиход только в послевоенный период, когда его стали определять как особую и новую социальную проблему. Тем не менее тревоги общества по поводу преступности странным образом не совпадали с ее очевидным распространением среди молодежи. Сразу после Второй мировой войны, а затем в середине пятидесятых годов (1953-1958) начали подниматься волны беспокойства. Общественные дебаты по поводу этого вопроса стали затухать в конце пятидесятых годов, хотя статистика (пусть и ненадежная) не говорит о том, что в это время преступность среди молодежи снизилась: по сути, пропала или, по крайней мере, стала реже употребляться формулировка «проблемы» – иными словами, ярлык «преступность среди несовершеннолетних» [5].
Тем не менее в этот период происходили глубинные социальные изменения, для которых понятие «малолетний преступник» стало своего рода эвфемизмом. Изменения семейного уклада в военное время (мужчины воевали, а женщины вышли на работу) привели к беспокойствам по поводу упадка внутрисемейной социализации и общения. Как и в конце фильма Олтмена «Правонарушители», многие комментаторы подчеркивали важность традиционных понятий семьи и общины для предотвращения надвигающегося социального коллапса. Между тем 1950-е годы были периодом растущего благосостояния и большей автономии молодежи: уже начали назревать социальные и поколенческие изменения, которые в итоге произошли в 1960-е. В этом контексте «преступность» стало кодовым словом для обозначения гораздо более широких изменений в поведении молодых людей. Отчасти это было спровоцировано постепенной интеграцией отдельных расовых групп (афроамериканская ритмэнд-блюзовая группа в самом начале картины Олтмена – не случайность) и страхами, что белые американцы из среднего класса будут развращены модой и стилем поведения «низшего класса», не в последнюю очередь благодаря институту средней школы. Все опасались, что из-за таких изменений молодые люди не смогут вырасти в полноценных взрослых.
Противоречивый взгляд на проблему преступности среди несовершеннолетних, возможно, просто отражал тот факт, что общество медленно реагировало на эти изменения [6]. Однако многие комментаторы взяли на себя труд определить и объяснить этот феномен: журналисты, участники кампаний и лоббистских групп, амбициозные политики, благотворительные фонды, ученые, социальные работники и правоохранительные органы – у всех были разные мотивы говорить о проблеме преступности среди несовершеннолетних. В то время было предложено много объяснений очевидной эпидемии преступности, и к каждой новой формулировке проблемы обязательно прилагались конкретные решения. Если социологи склонны были подчеркивать разрушение механизмов социального контроля (особенно среди мигрантов) или роль классового неравенства и бедности, то психологи были склонны рассматривать хрупкость современной семьи или трудности социальной адаптации в подростковом возрасте. Однако по мере развития дискуссии большая часть внимания стала уделяться влиянию медиа и массовой культуры.
Преступники и кино
В 1954 году психолог Фредрик Вертам в своей книге «Соблазнение невинных», оказавшей огромное влияние на читателей того времени, обратил внимание на воздействие комиксов, особенно так называемых хоррор-комиксов, на поведение подростков. Это повлекло за собой общественные кампании, в ходе которых детей заставляли сжигать коллекции комиксов, а также привело к появлению новых нормативных актов в отрасли [7]. Тогда же амбициозный сенатор Эстес Кефовер создал и возглавил подкомитет Сената по расследованию преступлений среди несовершеннолетних, и слушания там продолжались несколько лет – с 1953 года до конца десятилетия (хотя он существовал еще много лет спустя). Под пристальным вниманием снова оказались комиксы, но все большее беспокойство вызывали фильмы.
Киноиндустрия реагировала на это по-разному. В официальных материалах, представленных Кефоверу в рамках сенатского расследования, влияние фильмов стремились преуменьшить – и в этом отношении многие ученые, а также профессиональные эксперты (например, социальные работники) выражали солидарность. Как и многие участники дебатов, Кефовер опасался обвинений в цензуре в тот период, когда власть Комитета по антиамериканской деятельности палаты представителей Джозефа Маккарти начала ослабевать.
Впрочем, индустрия была готова к самоцензуре или, по крайней мере, к усилению регулирующих норм. Все голливудские фильмы, которые я рассматриваю ниже, а также многие другие подвергались детальному изучению со стороны отраслевой Администрации производственного кодекса. Например, оригинальный сценарий фильма «Дикарь» был отклонен на том основании, что он поощряет бандитизм: продюсеры сократили количество явного насилия и усилили морализаторскую линию, сыграв на раскаянии главного героя [8]. Точно так же адаптировали сценарий «Школьных джунглей»: были сокращены сцены секса, насилия и вырезана ненормативная лексика, хотя фильм все равно не избежал критики (и был запрещен к показу в некоторых городах). Другие стратегии такого рода включали «предупреждения о вреде для здоровья» в начальных титрах, но они редко бывали такими же продуманными, как в фильме Олтмена «Правонарушители». В иных случаях «голоса авторитетов» в фильме – например, шерифа в «Дикаре» – усиливались, а моральная двусмысленность или сложность устранялись. Несмотря на это, критики в индустрии и за ее пределами не были полностью убеждены в эффективности таких стратегий: продолжали высказываться опасения по поводу «отождествления» юных зрителей с героями-правонарушителями, каким бы болезненным ни был их провал или искупление вины.
В то же время индустрия столкнулась с более фундаментальной дилеммой. До пятидесятых годов кино было настоящим средством массовой информации: поход в кинотеатр был опытом общения поколений, в кинотеатр ходили семьями. К концу десятилетия практика сокращалась. Отчасти это объясняется появлением телевидения, но помимо этого произошли изменения в производстве и показе кинофильмов (распалась студийная система и вышел закон, который не давал студиям удерживать контроль над местным кинопрокатом). Индустрия постепенно осознала, что ориентируется на достаточно зрелую публику, которая уже не так часто ходит в кинотеатры, и запоздало и неуверенно начала примеряться ко все более прибыльной и доступной аудитории – подросткам и «молодым взрослым».
В конце 1950-х годов в журнале Time подсчитали, что совокупные расходы американских подростков составили десять миллиардов долларов в год, из которых 16 % тратятся на «развлечения». Это привело к тому, что Томас Доэрти12 назвал омоложением американского кино: ориентация на молодежь при помощи приглашенных звезд. Изменилась и культура кинопоказов: подросткам нравились автокинотеатры под открытым небом и двойные сеансы, где можно было проводить больше времени, болтать и обжиматься [9]. JD фильмы появились как следствие – хотя некоторые из них все еще кажутся ориентированными на более взрослую аудиторию. Продажа образов подростковой преступности как формы развлечения вполне могла дарить юным зрителям, имевшим не так много прав в повседневной жизни, мнимое (и, возможно, весьма поверхностное) ощущение власти.
Перед индустрией встала дилемма. С одной стороны, ставки делались на подростков, не в последнюю очередь за счет обещания фильмов явно непристойного содержания, но с другой стороны, нужно было убедить взрослых в достаточно моральном облике этих картин. Тревога по поводу подростковой преступности обеспечивала хорошие кассовые сборы, но и увеличивала риск критики индустрии за безответственность. Таким образом, очевидные морализаторские посылы рядом с сенсационными изображениями девиантности были рискованной, но экономически выгодной стратегией. Как мы увидим, эти дебаты (и, конечно, сами фильмы) возникали по всей Великобритании. Дилеммы индустрии здесь были точно такими же, хотя стали очевидны не сразу. Британия тоже пережила период паники по поводу морального воздействия комиксов [10], однако здесь было куда меньше тревоги относительно тлетворного влияния кино. Тем не менее выход на экраны фильма «Школьные джунгли» в 1956 году был встречен «беспорядками» в некоторых британских кинотеатрах, а фильм «Дикарь» (что удивительно) был запрещен Британским советом киноцензоров вплоть до 1967 года. Между тем по эту сторону Атлантики благополучные подростки появились несколько позже, став очевидными для исследователей и социальных комментаторов только к концу 1950-х годов. Вероятно, по некоторым из этих причин реакция британской киноиндустрии на проблему подростковой преступности была в целом более сдержанной и, возможно, даже спокойной, хотя ни в коем случае не менее противоречивой.
Экранизация преступности
Как озвученные противоречия проявлялись в конкретных фильмах? Я рассмотрю три голливудские картины, которые фактически положили начало циклу JD фильмов: «Дикарь», «Школьные джунгли» и «Бунтарь без причины». Все они очень хорошо известны и стали объектом множества критических комментариев [11]. Я не предлагаю подробного анализа, моя цель – сравнить фильмы с точки зрения их перспективы и того, как они формируют образ «хулигана». В свете этих картин интересно рассматривать британские фильмы, о которых мы поговорим далее.
Фильм «Дикарь», снятый режиссером Ласло Бенедеком и продюсером Стэнли Крамером, вышел на экраны в 1953 году. В нем Марлон Брандо, которому на момент съемок было двадцать восемь лет, сыграл роль Джонни Стрэблера, лидера банды мотоциклистов The Black Rebels Motorcycle Club. Фильм основан на реальной истории, произошедшей в небольшом калифорнийском городке Холлистер, который, по всей видимости, терроризировала подобная банда. Об инциденте писал журналист Фрэнк Руни в журнале Harper’s в 1951 году. Несмотря на то что фильм основан на реальных событиях, вступительные титры призваны успокоить зрителей.
Это шокирующая история. Она никогда не могла бы произойти в большинстве американских городов, но так случилось, что произошла в этом. Задача общества – не допустить ее повторения.
В самом начале фильма Джонни говорит за кадром то же самое: «Такое вряд ли увидишь даже раз в миллион лет». Но его слова проливают свет на концовку: после упоминания «всей этой неразберихи» и «неприятностей» он говорит нам: «Лучше всего я помню девочку. Я не могу это объяснить, такая грустная девчонка. Но что-то во мне переменилось, она зацепила меня…»
Получается, «Дикарь», как и многие JD фильмы, – это история искупления. С одной стороны, Джонни в исполнении Брандо – крутой, сексуальный харизматик. Кажется, что он проводит жизнь (или, по крайней мере, выходные), бесцельно путешествуя со своей бандой с места на место. «Просто едешь, и все», – говорит он. Джонни – прирожденный лидер, его авторитет непререкаем, и он легко побеждает лидера конкурирующей банды. Он разговаривает на сленге, и его тягучие фразы похожи на комические эпиграммы – самыми известными стали его диалоги с местной девушкой. «Против чего ты воюешь?» – спрашивает она. «А что у тебя есть?» – спрашивает он в ответ.
Борьба с авторитетами – это явно часть образа Джонни. Он считает себя «вне закона» и отказывается договориться с шерифом и по-тихому уехать из города: «Никто не смеет указывать мне, что делать». Шериф показан слабым и бездеятельным: другие жители города призывают его выгнать банду из города и обвиняют в «бесхребетности». В конце концов они берут дело в свои руки и избивают Джонни, когда тот собирается уехать. «Кто-то же должен был вколотить в него уважение к закону и власти», – говорит один из них. Однако такой авторитарный подход заканчивается катастрофой: они сбивают Джонни с мотоцикла, что приводит к гибели пожилого жителя.
В любом случае окончательный приговор Джонни выносит Кэти – девушка, которую он встречает в городском баре (она оказывается дочерью шерифа). Несмотря на обычную внешность, она нравится Джонни гораздо больше, чем доступные девушки-байкерши, которые его преследуют. Вначале она отвергает его, называя фальшивым. В какой-то момент Джонни спасает Кэти от нападения других членов банды, но его первые романтические поползновения неуклюжи и жестоки. Между тем на протяжении всего фильма он держит в руках статуэтку, которую, как верят горожане, он выиграл на соревновании мотоциклистов, а на самом деле украл: это своего рода знак его фальшивости. Ближе к концу фильма шериф наконец заявляет о себе и говорит Джонни: «Я совсем не понимаю твоего поведения. И ты сам, кажется, тоже. Ты понятия не имеешь ни что нужно делать, ни как поступать».
В финальной сцене Джонни возвращается в бар, где дарит Кэти украденный трофей, а затем уезжает. Это не очень убедительное доказательство искупления Джонни своей вины: авторитет шерифа уже подорван, статуэтка украдена, и мы не видим никакого романтического финала в истории Джонни и Кэти. Все это подрывает возможность идентифицироваться с Джонни: он, бесспорно, крут, но в то же время – абсолютная пустышка.
В конечном счете причины «хулиганства» Джонни никак не объясняются. В игровом арсенале Брандо есть только озабоченное хмурое лицо, отстраненный взгляд и бормотание, но нет никаких указаний на психологические или социальные причины его поведения. Авторитарную реакцию горожан он явно отвергает, но и «бесхребетный», либеральный подход шерифа тоже не слишком эффективен. В конце концов кажется, что лишь романтическая любовь может помочь Джонни искупить вину – хотя и это неправдоподобно.
Напротив, «Школьные джунгли» (режиссер Ричард Брукс, по роману Эвана Хантера) – гораздо более «социальный» фильм. Перед начальными титрами, под ритм военных барабанов, появляется следующее сообщение.
Нам, жителям Соединенных Штатов, повезло иметь школьную систему, которая является данью уважения нашему обществу и нашей вере в американскую молодежь.
Сегодня нас волнует проблема преступности среди несовершеннолетних – ее причины и последствия. Нас особенно беспокоит то, что преступность проникает в наши школы.
Изображенные здесь события являются вымышленными. Однако мы считаем, что информирование общественности – это первый шаг к решению любой проблемы.
Фильм «Школьные джунгли» снят именно в таком ключе.
Впрочем, когда сообщение сменяется начальными титрами, барабанная дробь уступает место песне Билла Хейли Rock Around the Clock – похоже, ее включили в фильм, чтобы сделать его привлекательным для молодой аудитории. (Вполне возможно, что именно это, а не что-либо в самом фильме стало причиной беспорядков, которые произошли после его выхода в Великобритании.)
В отличие от двух других фильмов, которые мы разберем в этой главе, в центре внимания «Школьных джунглей» находятся не преступники, а их учитель Ричард Дадье (в исполнении Гленна Форда). Камера следует за Дадье, когда он противостоит непокорному классу средней школы в расово смешанном, рабочем районе города; потом мы идем за ним в учительскую и домой. Нам рассказывают о домашней обстановке его учеников, но мы ее не видим. Повествование строится вокруг вопроса, насколько Дадье предан своему делу: разочаруется ли он и оставит профессию учителя или же перейдет в более комфортную школу среднего класса, «где дети хотят учиться» (эту возможность ему предлагает его бывший профессор)? Параллельно с этим в самом начале фильма появляется элемент саспенса. Жена Дадье беременна, но ранее у нее уже был выкидыш. Она едва не попадает в автокатастрофу, а затем оказывается под давлением: одна из учениц Дадье посылает ей анонимные письма, утверждая, что у ее мужа роман с учительницей. Дадье боится, что жена еще раз потеряет ребенка.
Все повествование в фильме – это своего рода испытание преданности Дадье. Он спасает от покушения учительницу, на него и его коллегу нападают на улице, он становится свидетелем того, как несколько учеников угоняют грузовик с газетами, а ребята из его класса разбивают заветную коллекцию джазовых пластинок учителя математики. Все это заставляет его усомниться в себе, но он не сдается. Он применяет современные методы преподавания, используя магнитофон для записи рассказов своих учеников, и, кажется, добивается некоторого успеха во время обсуждении мультфильма «Джек и бобовый стебель» – такой подход, похоже, впечатляет даже одного из самых циничных его коллег. При этом Дадье переживает за судьбы учителей, сравнивает их низкие зарплаты с окладом других работников.
В конце концов, когда в тяжелых родах рождается его сын, жена уговаривает его продолжить работу, и под новогодние мелодии, звучащие из радиоприемника, Дадье вновь решает посвятить всего себя профессии. Как ни сентиментально, фильм дает мощное подтверждение идеалистической миссии преподавания в городе. С одной стороны, Дадье – типичный учитель-герой. Он утверждает, что хочет «сформировать молодые умы», «вылепить им судьбу», он изо всех сил старается чего-то добиться; однако его преданность делу не воспринимается как самодовольство, а трудовая жизнь учителей ни в коем случае не приукрашивается. Все это подразумевает, что фильм построен с точки зрения Дадье. Некоторые его ученики транслируют молчаливые угрозы, как Джонни Стрэблер в исполнении Брандо, особенно главный злодей – Арти Уэст (в исполнении Вика Морроу). В одном случае Уэст оправдывается тем, что у него нет надежды на будущее, но, как и его соучастники, он в итоге предстает трусом. «Ты не такой уж крутой, когда тебя не поддерживает банда», – говорит ему Дадье. В финальной стычке в классе его сторонник Белази получает тычок в грудь древком американского флага, после чего их обоих уводят вниз по лестнице для наказания, которого они явно заслуживают.
Однако, за исключением Грегори Миллера (его играет Сидни Пуатье), мы очень мало знаем о мотивациях учеников. Дискуссия о причинах преступности и возможных методах ее предотвращения вложена в уста взрослых персонажей. Профессор Дадье предлагает mea culpa13: «Мы в университете виноваты – мы не подготовили учителей к обучению детей этого поколения…» Позже офицер полиции дает более развернутый комментарий.
В свое время у меня было много проблемных детей по обе стороны баррикад. Им было по пять или шесть лет во время последней войны. Отец в армии, мать на оборонном заводе. Ни дома, ни церкви, некуда пойти. Они собирались в уличные банды… Может быть, сегодняшние дети такие же, как и все остальные: запутавшиеся, подозрительные, напуганные. Я не могу знать точно, но скажу вот что: лидеры банд заняли место родителей, и если вы их не остановите…
Полицейского прерывают, прежде чем он успевает договорить, но на место родителей, очевидно, должны встать преданные своему делу учителя. Проблема не столько в бедности семей, сколько в их несостоятельности.
Отказываясь от классовых объяснений поведения молодежи (такие вещи случаются по «обе стороны баррикад»), фильм «Школьные джунгли» поднимает расовый вопрос. Один из первых шагов Дадье в попытке взять контроль над классом – обращение за поддержкой к Грегори Миллеру. Если Арти Уэст – «плохой преступник», который в итоге оказывается неисправимым, то Миллер – «хороший преступник», которого можно спасти. Дадье говорит ему, что черный цвет кожи не служит оправданием неуспеваемости в школе, и в конце фильма Миллер соглашается остаться на второй год. Однако у Дадье возникают проблемы, когда он прибегает к расовым оскорблениям, пытаясь противостоять предрассудкам и оскорблениям, которые он видит в своем классе, и получает нагоняй от директора школы. Хотя в этом случае он не виноват, позже Дадье вступает в конфронтацию с Миллером и необдуманно называет его «черным», после чего его охватывает раскаяние. Особенно поражает сцена, где он наблюдает за Миллером и его чернокожими друзьями, которые исполняют духовную песню «Go Down Moses» в рамках подготовки к школьному рождественскому концерту. Важно отметить, что Миллер призывает их не синкопировать (или «превращать в джаз») мелодию, подразумевая необходимость «респектабельной» подачи афроамериканской культуры. Во всех этих смыслах отношение к расовым вопросам в фильме определенно либеральное, хотя его нужно воспринимать с учетом своего времени: решение по делу «Брауна против Совета по образованию», положившее конец расовой сегрегации в школах США, было принято за год до выхода фильма и все еще вызывало массовое сопротивление во многих южных штатах.
Как и «Дикарь», «Школьные джунгли» был весьма спорным фильмом и подвергался тщательному контролю со стороны Администрации производственного кодекса. Хотя сцены насилия (особенно избиение Дадье и его коллеги), возможно, были слишком откровенными для того времени, основное беспокойство вызывало то, что молодые зрители могли подражать героям-правонарушителям, особенно Арти Уэсту. В то время как Брандо был явно старше (так и задумывалось), Арти и его банда оставались еще подростками (хотя на самом деле на момент выхода фильма Морроу было двадцать шесть лет). Директор Администрации, Джеффри Шерлок, также беспокоился, что фильм может создать негативный образ американских школ у международной аудитории, хотя в итоге прямая цензура практически не применялась. Тем не менее Шерлок получил больше претензий за допуск этого фильма к показу, чем за любой другой, который он одобрил в течение первых пяти лет работы на посту директора. Наряду с «Дикарем», этот фильм цитировался в материалах, представленных в Сенатский комитет Кефовера, как доказательство вредного влияния кино, хотя, судя по всему, сам Кефовер не был в этом убежден. Такое беспокойство кажется особенно странным, учитывая взрослую направленность и перспективу фильма: оно говорит гораздо больше о мотивах тех, кто участвовал в дебатах, чем о самом фильме [12].
Фильм «Бунтарь без причины», также вышедший в 1955 году (режиссер Николас Рэй), – вероятно, самый известный из вышеупомянутых картин, но он разительно отличается от них [13]. Цветной, снятый в широкоэкранном формате, он кажется довольно мелодраматичным по сравнению с двумя другими черно-белыми фильмами. В отличие от Джонни Стрэблера и преподавателя Ричарда Дадье, центральный персонаж Джим Старк (его играет Джеймс Дин) явно принадлежит к среднему классу, а действие происходит в пригороде. В первой сцене нас знакомят с Джимом и двумя его товарищами по новой средней школе, Джуди и Джоном (также известным как Платон): они все были задержаны полицией за различные нарушения. Позже происходит драка на ножах и знаменитая сцена chickie run14 («куриные бега»), в которой автомобиль съезжает с обрыва, что приводит к фатальным последствиям. Однако этим формам правонарушений в фильме дано психологическое, а не социологическое объяснение.
Проблемы Джима, четко обозначающиеся по ходу фильма, в основном проистекают из напряженных отношений его родителей. Его отец показан человеком бесхарактерным, и в одной из последующих сцен на нем надет домашний фартук. «Вы думали, что я мама?» – спрашивает он, как будто мы не вполне уловили смысл. По словам Джима, его мать и бабушка «делают из него тряпку», а у отца не хватает мужества противостоять им. Тем временем Джуди (Натали Вуд) становится жертвой противоречивых сигналов своего отца: он называет ее «грязной потаскушкой» за то, что она носит сексуальную одежду, при этом хочет, чтобы она была его «малышкой», однако отвергает ее (и даже бьет), когда она добивается от него ласки. Платон (Сэл Минео), возможно, самый тревожный из всех троих: его родители развелись после многолетних ссор, и, хотя он должен жить с матерью, она редко бывает рядом. В ответ на свою брошенность он мучает и убивает животных; помимо этого есть признаки, которые привлекли внимание цензоров, что он может быть геем (у него в школьном шкафчике висит фотография Алана Лэдда15!)
Хулиганство в этом квазифрейдистском изложении, по сути, является следствием дисфункции семьи – а точнее, родителей. Джим, Джуди и Платон изо всех сил пытаются общаться с родителями; Джим неоднократно кричит на них в гневе: «Вы разрываете меня на части!», «Вы не слышите меня!»; Джуди бродит одна по ночам, видимо, потому что ищет внимания, а Платон утверждает: «Никто не может мне помочь». Платон получил психиатрическую помощь от «мозгоправа», а вот родителям Джима пришлось несколько раз переезжать, когда у него были проблемы в школе. Казалось бы, все они в глубине души нуждаются в любви, хотя Джиму необходимо обрести еще и мужество – качество, которого так не хватает его отцу. Он неоднократно призывает отца «заступиться» и дать «прямой ответ» на его вопросы, но тот не делает этого до самого конца.
В итоге три героя объединяются и образуют своего рода «семью». Джим и Джуди понимают, что любят друг друга, на следующие сутки после знакомства, а Платон явно хочет заменить ими родителей. В заключительных сценах Джим одевает Платона в свой культовый красный пиджак, а вскоре после этого отец Джима (обнаружив потребность быть «сильным») надевает на сына свой собственный пиджак. В какой-то степени Джим и Джуди снова интегрируются в нормальную семью среднего класса, но они уходят вместе, без родителей, и нет никакого успокаивающего авторитетного, взрослого голоса, чтобы восстановить порядок в самом конце фильма. Как утверждает Джеймс Гилберт16, финал, в котором взрослые внезапно осознают свои собственные недостатки, слишком надуман, чтобы быть правдоподобным [14].
Наряду с этим смутно психоаналитическим объяснением преступности в фильме иногда появляются признаки более модного, экзистенциалистского взгляда на вещи. Джуди, в частности, любит холодные, нигилистические высказывания: когда Джим спрашивает ее, где она живет, она отвечает: «Кто живет?», а позже в фильме она называет себя «просто бесчувственной». Когда Джим спрашивает своего соперника Базза о «куриных бегах»: «Зачем мы это делаем?» – Базз отвечает в стиле Брандо: «Ты ведь должен что-то делать, не так ли?» Ключевая сцена происходит во время школьного посещения планетария, где детям рассказывают о вероятном и неизбежном крушении Вселенной и о том, что люди по сути своей одиноки – эта тема вновь звучит в заключительных сценах, которые разыгрываются в пустом планетарии.
У «Бунтаря без причины» есть несколько точек пересечения с двумя другими фильмами, которые я здесь рассматривал. Как и в «Дикаре», именно романтическая любовь становится для Джима искуплением, хотя здесь она также ведет к восстановлению семьи – семьи, в которой Джим научился быть настоящим мужчиной, в отличие от своего отца. Как и в «Школьных джунглях», здесь присутствует благожелательный, либеральный авторитет – полицейский по имени Рэй (конечно, не случайно его зовут так же, как режиссера). Перед нами снова образ «хорошего преступника», способного искупить вину, противопоставленный образу «плохого преступника», который должен быть наказан или в данном случае просто убит (как это происходит с Платоном, чьи травмы несовместимы с жизнью, и с Баззом, кому, кажется, не хватает «оправдывающих» черт характера, которые могли бы удержать его от падения с обрыва).
Тем не менее основная перспектива фильма совершенно иная. Кроме Рэя, все взрослые в фильме представлены в крайне негативном ключе – они не выполнили свои обязательства по отношению к детям. Даже Рэй в решающий момент, когда Джим приходит за ним в конце фильма, отсутствует. В центре внимания, безусловно, находятся три юных героя. Мы видим мир с их точки зрения, и в некоторых аспектах – в розовом цвете.
Каждый из этих фильмов имел огромный успех в прокате и породил легион подражаний. Благодаря им в последующие годы были сформированы более взвешенные представления о преступности. Одни названия отражают элемент «эксплуатации»: спорные темы снимались с небольшим бюджетом, сопровождались сенсационной рекламой, очевидно нацеленной на подростковую аудиторию. Фильмы «Волна подростковой преступности», «Подростковая буря», «Мятежный подросток» и «Кукла-подросток» появились в течение года или двух, за ними сразу последовали «Подростки из космоса», «Бунт на драгрейсинге», «Подростковые джунгли», «Бунт в тюрьме для несовершеннолетних», «Живи быстро – умри молодым», «Эта бунтарская порода», «Крутые и чокнутые», «Тайна средней школы», «Исчадия ада из средней школы», «Мотоциклетный гром», «Девушка на мотоцикле», «Неукротимая молодежь», «Юные и дикие» и многие, многие другие, вышедшие до конца десятилетия [15]. Однако я бы хотел сделать шаг в сторону и рассмотреть подборку британских фильмов, которые стремились решать те же проблемы.
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе