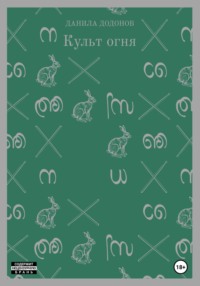Читать книгу: «Культ огня», страница 2
– ВИЧ! Вот что распространяют эти «студенты»… Да, от них шума, конечно… Неуместные дети, как я их называю! Прожигатели жизни. Приходится бороться периодически. Но это, что характерно, ведь был не смех, не музыка. Проживающий сказал, что голос был один, тихий, почти шёпот, но… как будто не на нашем. В смысле, не на русском, не на английском, вряд ли это был какой-то индоевропейский вообще. Слов не разобрать, но интонации какие-то странные. Вы точно ничего не слышали?
Антон покачал головой, машинально поправляя край халата. Он был в пятнышках и едва заметных следах кулинарной борьбы. На правом рукаве до сих пор сохранились две почти выцветшие капли говяжьего бульона, оставшиеся от одного из его экспериментов пять дней назад, когда он готовил австралийский мясной чизкейк. Но воспоминания о том дне были связаны не только с этим странным десертом, но и с самим бульоном – густым, насыщенным, ароматным… этот вкус ни с чем не спутаешь!
В тот день Антон проснулся рано, еще до рассвета. Он тогда почувствовал непреодолимое желание приготовить что-нибудь тёплое, домашнее, согревающее не только желудок, но и мысли. Начал искать интересные рецепты в интернете. Пока листал, идея говяжьего бульона возникла в его голове внезапно – воспоминанием из детства, когда его дорогая мама стояла у плиты, и воздух был пропитан ароматом корня петрушки, лаврового листа и медленно томящегося мяса.
Антон тогда достал эмалированную кастрюлю, подаренную ему на день рождения его тётей, которую он так и не удосужился поблагодарить как следует. Кастрюля была глубокой, с ровными стенками и толстым дном – как ему казалось, идеальной для приготовления бульона. Антон аккуратно помыл её, протёр насухо вафельным полотенцем, чтобы не осталось ни единой капли воды. По горькому опыту ему было известно, что даже малейшая примесь может повлиять на вкус, и придётся всё варево выливать в унитаз. Было бы обидно!
Мясо он выбрал заранее – говяжья лопатка с прожилками жира, немного костей – для навара. Каждый кусок он осмотрел, как хирург перед операцией, удаляя лишний жир ножичком, если тот был слишком толстым, или оставляя его, если видел, что он придаст бульону нужный насыщенный вкус. Он сполоснул мясо холодной водой, потом горячей, потом снова холодной, слегка обсушил самыми обыкновенными салфетками, которые и сейчас продаются в любом универмаге, и положил в кастрюлю.
На очереди была подготовка овощей. Антон любил готовить медленно, с чувством. Он достал из холодильника крупную морковь, которая осталась у него от готовки морковного торта, осторожно соскоблил кожуру, чтобы сохранить максимум полезных веществ из этого чудного, оранжевого, продолговатого, как гагаринская ракета, овоща, и разрезал её на толстые кружки. Лук тоже нашёлся, он был среднего размера – бело-жёлтый, чуть суховатый, но именно такой, как он предпочитал: он слегка обуглил его на сковороде, чтобы придать бульону тёмный, чуть карамельный вкусовой оттенок. Корень петрушки он очищал особенно бережно – каждый миллиметр важен, каждая щепоточка. А иначе выйдет фигня, которую придётся слить куда? Правильно! В одно очень несмешное место!
Чеснок Антон добавил в самом конце – два зубчика, раздавленных плоской стороной ножа. Вообще, у Антона для этого был специальный топорик, но он лежал где-то на самой дальней полке, и ему было впадлу его доставать, поэтому обошёлся самым обычным ножом, ничем не примечательным, разве что надписью «Кавказ» на ручке. Затем пошли специи: лавровый лист, чёрный перец горошком, пара веточек свежего розмарина, который, к счастью, нашёлся в морозильнике. Соль он всегда добавлял в самый последний момент – знал, что она может вытянуть белок слишком рано, сделав бульон мутным и менее сочным. А ему это надо? Потому что, если бульон станет менее сочным, что с ним надо будет сделать? А? Кто даст правильный ответ?
Когда все ингредиенты были в кастрюле, Антон аккуратно залил мясо и овощи холодной водой – ровно столько, чтобы покрыло содержимое на пару пальцев. Антон знал совершенно точно, что вода для бульона должна быть холодной – именно тогда мясо отдаёт все свои соки постепенно, равномерно, а не как попало. Он поставил кастрюлю на средний огонь и стал ждать, пока закипит. Как только появились первые пузыри, он убавил пламя до минимума, снял пенку деревянной ложкой и оставил бульон томиться.
Четыре часа. Целых четыре часа он не отходил далеко от плиты, время от времени заглядывая в кастрюлю, пробуя, поправляя огонь, иногда просто вдыхая этот потрясающий, ни с чем не сравнимый, неповторимый, абсолютно уникальный аромат, который заполнил всю кухню, потом комнату, и казалось, даже проник сквозь стены в соседние квартиры.
Когда бульон был готов, Антон аккуратно процедил его через стерильную марлю, сложенную в несколько слоев, чтобы добиться максимальной прозрачности. Жир собрался на поверхности, и Антон убрал его половником, оставив лишь тонкую золотистую плёнку – для вкуса. Получилось около двух литров янтарного отвара, который блестел на свету и источал аромат, способный разбудить любого неравнодушного к этой прекрасной пище.
Этот бульон использовался и для чизкейка, и для других блюд в те дни, но одна капля случайно упала на халат, оставив свой след в виде маленького пятнышка. Теперь, спустя пять дней, Антон снова вспомнил тот момент – как он стоял у плиты, глядел на бульон и, что самое главное, чувствовал его вкус. Антон подумал: «Надо будет ещё сварить на днях». Потом опомнился. На него всё ещё смотрел участковый.
– Нет. Простите. Могу даже сказать, вчера я лёг рано, часов в десять. Сильно на работе утомился, с учёбы поздно вернулся, и вот как-то всё завертелось и… Так что, скорее всего, проспал всё.
– Угу, – участковый задумчиво почесал щетину на подбородке. – Ладно. Тогда извините, что побеспокоил. Просто был обязан проверить. Всякое ж бывает. Особенно после того, что произошло с квартирой напротив вашей…
Антон нахмурился. Там не жил никто лет пять.
– А что с квартирой напротив?
– Да так, мелочь. Дверь обнаружили открытой, вещи не тронуты. Хозяев нет. Внутри – какой-то запах странный, как будто спёртого воздуха. Возможно, просто забыли закрыть. Но, знаете, лучше перестраховаться. В последнее время… ну, вы же сами видите – вокруг всякое творится. – Участковый сделал такой жест: скосил глаза, подержал так их секунду-две, потом вернул обратно в нормальное положение. Антон только сейчас обратил внимание, что у него штаны вельветовые. Это у них форма такая уставная?
– Да уж, – кивнул Антон, стараясь держать лицо нейтральным. – Спасибо за предупреждение.
– Не за что. Если вдруг услышите что-то подобное – сразу звоните. Вот номер. А ещё заявку можно через госуслуги оставить, там и фото можно приложить, если увидите что-нибудь.
Антон взял кривенький листочек бумаги в клеточку, на котором были какие-то цифры и буквы, написанные как будто задом наперёд, коротко поблагодарил участкового и закрыл дверь. Только тогда он глубоко выдохнул и прошлёпал обратно к компьютеру.
II
Состояние покоя в безвремении лет,
Состояние прострации день ото дня.
Сонной одури натиск и страха гнёт:
Отгороженный мир,
отгороженный свет!
– Восточный синдром (1987)
У Антона дома был очень старый чёрно-белый лазерный принтер от фирмы «Хьюлетт-Паккард». Такой старый, что аж пожелтел, а со стороны стены так вообще покрылся плесенью, которую уже было не отодрать за давностью лет. Печатал он очень плохо, потому что вместо тонера Антон с завидной регулярностью засыпал туда молотый кофе, остатки детского сухого шампуня и одну чайную ложку пыли из-под дивана – в общем, то, чего дома было навалом. Он не мог позволить себе купить настоящий тонер, потому что был бедным студентом, а стипендия и деньги с левых подработок уходили на оплату интернета, подписки на стриминги, которыми он не пользовался, и импульсивные покупки на «Озоне», например, как та шумоподавляющая маска для сна, которая вместо того, чтобы помогать спать, генерировала какие-то непонятные ультразвуковые сигналы, из-за которых Антон медленно сходил с ума. Или чайник с пропеллером – по словам Антона, «просто чтобы был».
Принтер работал, несмотря на свой несвежий внешний вид. Хотя, правильней будет сказать, что принтер выживал. Каждый день он начинал с хрипящего старта, потом издавал звуки, будто кто-то запустил стиральную машину с полным комплектом человеческих костей внутри барабана, и где-то после получаса таких звуков начинал печатать. Минута – и сквозь облако пыли вылетал пожёванный лист бумаги с, вроде как, читаемым текстом. И ладно.
Самое странное происходило по ночам. Пока Антон спал, принтер работал сам по себе – не очень громко, спать не мешал. Утром Антон находил на полу страницы с текстами, которые он точно не отправлял в печать. Это были абстрактные стихи на совершенно разные темы, списки имен и фамилий незнакомых ему людей с годами жизни, один раз он обнаружил на мятой бумажке точную копию собственного завещания, написанного его же почерком, только чуть более аккуратно. Было и ещё кое-что – карты известных ему мест, будь то аудиторий в университете или комнат его собственной квартиры, где были обозначены точки, помеченные восклицательными знаками и надписями вроде «ЗДЕСЬ» или «СЮДА».
На летнее солнцестояние принтер напечатал длиннющий список вопросов (листов эдак двадцать мелким шрифтом, потом закончилась бумага и Антону пришлось идти за новой пачкой). Вопросы были совершенно бестолковые, как например:
«Ты помнишь вкус первого дождя?»
«Что ты сделал с тем ключом, который нашёл под плиткой в ванной?»
«Кто тебя видел, когда тебе было семь лет и ты плакал под кроватью?»
Некоторые вопросы совпадали с мыслями, которые Антон никогда никому не говорил. Но относился он к этому как-то очень просто, как к чему-то само собой разумеющемуся. По крайней мере, думал он, есть как себя отвлечь от беспросветного одиночества, которое наступило в его жизни после ухода Кати. У Антона не было близких друзей, а кто был – спились, скурились, уехали за границу, порвали связи. Сергей так вообще его предал.
Один раз, на его день рождения, принтер напечатал всего три слова:
«Завтра будет солнце.»
Для Антона эти слова почти ничего не значили. Он вообще на счёт всего этого думал так: «Хьюлетт-Паккард – это что-то типа Филлип Моррис».
Пару лет назад Сергей сильно заболел – слёг с температурой под тридцать девять. Антон тогда к нему пришёл с мандаринами, огурцами, букетом каких-то цветов (точно – и грибов! он же обожал грибы!), чтобы поддержать товарища. До того, как снести все записи со стены в ВК, Сергей вёл там что-то вроде блога, и отозвался о той встрече он примерно так: «Мой друг Антон хоть и не блещет умом, зато я могу назвать его искренне добрым человеком, который готов поддержать в тяжёлую минуту, и предложить не только руку помощи, но и гриб помощи».
У Сергея очень болел затылок от удара об асфальт. Удар был настолько сильным, что должен был вышибить ему мозги насквозь, но он как-то выжил и даже остался в сознании. Он поднялся с грязной земли, огляделся по сторонам – уже никого не было, разве что вечер. Стряхнув с себя окурки, которые к нему наприлипали, Сергей побрёл домой, недоумевая, как за пару лет его хороший друг мог сойти с ума. Конечно, Антон и прежде верил во всякую чепуху, но до насилия – тем более настолько неоправданного – это прежде не доводило. Сергею искренне хотелось помириться в тот момент, но после того, что произошло…
В одном из личных сообщений неназванной подруге Катя вспоминает: «Я однажды прихожу к нему домой, а этот кретин с принтером (!) разговаривает. Причём так непосредственно разговаривает, чай предлагает, конфеты. Ему, не мне! Я тогда ему говорю: «Антош, ты чего?» – а он ни в какую, пытается и меня в этот диалог ввязать, мол, вот, знакомься, это Катя. Катя, это принтер. Фрэндшип ‘с мэджик. Я тогда ещё подумала: разве это не то, что сейчас некоторые называют иллюзией свободы?»
Катя не обладала классической красотой, но в ней было что-то завораживающее, чем она привлекала парней. её лицо имело резкие, геометрические черты: высокие скулы, узкий подбородок, острый, как лезвие. Зелёные глаза давно перестали замечать мир вокруг. Волосы – тёмно-русые, с лёгким отливом, похожим на старую бронзу. Она носила короткое каре, чуть ниже ушей. Волосы никогда не красила – её мать была очень строгой и не разрешала.
Носила Катя в основном классические тёмно-синие джинсы, чёрные футболки в стиле харадзюку, ничем не выдающиеся синтепоновые куртки. Всё в её образе говорило о том, что ей не нужно внимание, что она его терпеть не может.
Что до характера, то Катя была холодная, рассудительная, рациональная до болезненности, она смотрела на мир с позиции аналитика, без эмоций, чувств, без ничего. Она ценила практичность, логику, чистоту мысли – и всячески презирала романтику, интуицию, чувствительность. Антон, с его вечным беспорядком в голове, его верой в интернет-теории заговора и дурацкими подарками, был для неё чем-то вроде живого напоминания о том, что такое человеческая глупость.
Её голос был резким, как лопнувшая струна. Каждое слово она отчеканивала так, что создавала о себе ощущение «Я говорю, потому что мне это нужно, а не потому, что ты этого хочешь». Когда она смотрела на кого-то, это больше походило на осмотр экспоната, будто у себя в голове она пыталась понять, стоит ли тратить время на этот “объект”, или он уже сам себя дискредитировал.
Внутри Кати, возможно, таилась боль, но если и так, то она была хорошо спрятана. Она не доверяла никому полностью, даже самой себе. И всё же, где-то глубоко внутри, Катя хранила воспоминания о подарках, которые ей делал Антон. Не потому, что они ей действительно нравились, а потому, что они были символом искренней, необдуманной любви, какой любил её Антон, которую она не понимала и завидовала ему, что не может любить так же.
Но она никогда в этом не признается: ни себе, ни другим.
Антон верил, что у каждого человека есть невидимый, но вполне материальный двойник. Точно такой же, как сам человек, только невидимый. Такой двойник был и у Антона, и у Сергея, и у Кати. А ещё он был полностью уверен в том, что если посмотреть в зеркало на географическую карту, то увидишь карту Зеркального мира, в котором живут эти двойники. Поэтому он называл их «Отражениями».
Однажды домой к Антону пришло Отражение Кати. Он его (или всё-таки её?) не увидел, потому что оно было невидимым, но почувствовал его присутствие, потому что оно было абсолютно материальным. К ней можно было прикоснуться, почувствовать запах (точно такой же, как у Кати), услышать её голос, разве что увидеть было нельзя. Отражение Кати в тот день поздоровалась с Антоном, пожало ему руку. Он старался ориентироваться на звук, хотя и до конца не понимал, где точно находится существо, так сильно напоминавшее его девушку.
Через пару секунд, судя по звуку, Отражение с разбегу прыгнуло в ближайшее зеркало и исчезло. Ему было нужно всего лишь как-то вернуться в свой мир, и у Антона, по всей видимости, было самое доступное зеркало из ближайших в округе. После этого случая Антона накрыло чувство внутренней опустошённости, которое оставалось с ним ещё где-то недельку.
Про Рому Базаровича, кроме того, что он заядлый любитель выпить, ходило немало слухов, что он долгое время является членом некого деструктивного культа. Так говорили люди в барах. Говорили, что он приглашал кого-то на какие-то собрания, просто послушать, а потом эти люди пропадали с концами – что-то в таком духе. Хотя по нему и не скажешь. А вот что можно сказать наверняка, что по субботам его никогда в барах не видели, да и в принципе где-либо. Однажды Рома сказал: “Если я никогда ничего не значил для Оливера Сакса (1933), почему он должен для меня что-то значить?”
А ещё у него было странное хобби: иногда он изрядно напивался, приходил в библиотеку (и как его только пускали в таком виде?), брал какой-нибудь толстенный томик и начинал оттуда выписывать все эпитеты, которые ему только попадались, каждый раз произнося их вслух, громко, отчётливо, с выражением. «Красивый… тонкий… жизнерадостный… бриллиантовый… невзрачный… кривой… воздушный… комфортный…». Он мешал всем читать, но выгнать его не могли – у него был продлённый читательский билет. В ту библиотеку, в которую он ходил, нормально сходить почитать можно было только в субботу, когда его там не бывало наверняка. Любой другой день – русская рулетка.
Кстати, любимой книгой для подобного развлечения у Ромы была “Номография для школьника” А. А. Глаголева (1959). Почитайте на досуге, поймёте, почему.
В университете активно готовились к выпускному истфака. Некоторые подгруппы отпустили с пар, чтобы они могли помогать украшать лофт, тем более к приезду высоких гостей. Сергей тоже подоспел туда, разве что на пару часов позже, чем предполагалось, – очень болел затылок. Боль в затылке отдавала в позвоночник, плечи, всё ныло, стреляло, но отказать в помощи сокурсникам он никак не мог. Это ведь его родной факультет, с ним связано столько воспоминаний: на истфаке он впервые услышал голос старого профессора Кузьмина – глубокий, загадочный бас, и что когда он рассказывает о Смутном времени, создаётся стойкое ощущение, будто он сам был там, среди развалин Кремля, и оттуда телепортировался в аудиторию; узнал, каково это – стоять у витрины с подлинным указом Петра I из университетского музея, чувствуя, как время сжимается в какой-то миг между пальцами ног… Он вот-вот получит высшее образование, и, если повезёт, под аккомпанемент легенд русского рока – под аккомпанемент песен своей юности. Лишь бы этот придурок Антон не испортил всё веселье своим помешательством. Дед Сергея, старый офицер, говорил: “Косой кривого не поймёт, а кривой косому – рознь”.
У «Однокластера Бобика» на втором альбоме есть песня, не сказать, что известная, называется «Полуночное помешательство». Её определённо можно было назвать очень характерным примером их совсем раннего творчества – неотёсанного, ещё “допродюсерского” инди-периода начала нулевых. В ней по сюжету старый больной актер провинциального драматического театра, в который уже давно никто не ходит, видит сон, в котором его преследует собственная рука и шепчет ему слова на непонятном языке, а тот не может от неё убежать. Песня об одиночестве, о страхе быть непонятым очень отзывалась в душе Сергея, особенно в подростковые годы. Он и сам пытался писать песни под гитару в старшей школе, но одноклассники называли его песни «дебильными», что оставило на его небольшом сердце очень серьёзную рану, после которой он уже не брался за перо совсем. Но эта песня иногда ему об этом напоминала, и он думал: «Столько времени прошло, может, стоит начать заново?»
Антон однажды подсчитал, что все подарки Кате ему обошлись в сумму около ста тысяч рублей. Серьёзнейшие деньги, которые он никогда и в руках-то не держал, но откуда-то они же брались! Хотя, опять же, смотря как считать. Для Кати они могли быть и в разы дороже, например, блокнот с признанием в любви не имел цены в денежном выражении. Многие подарки имеют символическую цену, но колоссальную эмоциональную значимость. Как сказал бы сам Вячеслав Иннокентьевич Ши: “Не красотой единой жив человек, но памятью о своей небрежности”.
Не найдя действительно достойной его внимания информации на прослушанном дважды альбоме “Шершней”, Антон решил действовать сгоряча. Пришёл в вуз глубоким вечером, охраннику сказал, что забыл в какой-то аудитории рюкзак, а там якобы были документы, которые уж очень ему были нужны. Широкомордый охранник Антону поверил, потому что часто видел его с профсоюзом во время сбора макулатуры, и подумал, что парень надёжный, дел не натворит. Антон поблагодарил охранника, натянул поддельную улыбку и пошёл к центру здания, где была развилка, ведущая в лофт.
Антон часто думал: зачем мыть руки перед едой, если намного более логично мыть их после еды? Ну, ему так казалось, по крайней мере. Ведь еда, особенно жирная, явно грязнее, чем руки. В таком случае, давайте уж мыть еду перед едой, но никак не руки!
Проход к центру корпуса был в форме толстой кишки, расширяющейся к концу. Окошек не было, поэтому было очень темно. Единственным источником света был зелёная табличка с надписью “ВЫХОД”. её света было достаточно, чтобы можно было рассмотреть висевшие по обе стороны портреты именитых выпускников НижГИУ.
Студенты называли этот коридор “коридор невыносимого равновесия”, потому что его сделали совершенно невыгодно с точки зрения удобства пользования им: никто не мешал сделать его прямым, архитектура здания это позволяла, но какому-то гению пришло в голову сделать его извилистым, причём так, что человеку, чтобы по нему пройти, нужно было повернуть двенадцать раз налево и двенадцать раз направо за весь путь, который ещё и занимал около десяти-двадцати минут, что на первый взгляд может показаться не таким долгим маршрутом, но если представить, что многим студентам и преподавателям нужно было проходить по нему десятки раз за день… Да, лучше бы его сделали просто прямым. Сергей с друзьями на первом курсе даже составили план этого коридора, заблаговременно измерив его длину и отметив места поворотов, и посчитали, что будь коридор прямым – путь занимал бы не больше тридцати секунд в одну сторону.
Вообще-то, в НижГИУ было достаточно странных архитектурных решений, начиная хотя бы с того, что новое руководство вместо водонапорной башни (которая была советским наследием и очень нравилась студентам) установило огромное гипсовое перо, которое должно было символизировать “знания”. Некоторые входы почему-то были только через люки, что доставляло сплошные неудобства как преподавателям, так и студентам, ну а дальше – классика: лестницы, ведущие в никуда, окна, раскрашенные средневековыми витражами (звучит, может, и красиво, но вы бы видели эту безвкусицу!), заказанная по обмену из Белоруссии гибкая крыша, меняющая форму в зависимости от погоды, коридоры с зеркальными потолками, чтобы студенты "смотрели в себя", туалеты на каждом этаже разного дизайна – от античного до футуристического, стены из шотландского шоколадного кирпича для "ассоциации с наукой" (вроде и приятная мелочь, но они только на этаже, где заседает руководство), внутренний дворик с мини-зоопарком из говорящих попугаев, которые тоже изначально были хорошей идеей на бумаге, но в конце концов привели к тому, что их разговоры начали сильно отвлекать от лекций и семинаров. Разумеется, главная достопримечательность вуза – актовый зал, построенный в форме черепахи, по краям которого стояли скамейки на пружинках (как и многое другое в вузе, да и вообще как почти что все скамейки в Нижневартовске), а на стенах на высоте примерно трёх-четырёх метров висели светильники в форме голов всех ректоров прошлых лет. Над каждым светильником – самая известная цитата каждого ректора, как например над Р. Т. Ягодкиным: “Не знаешь историю – отруби себе голову и умри, потому что лучше знать историю, чем быть невеждой”, а над Ш. Е. Заботливым: “Я родился для истории, я умер для истории” и так далее.
В этом зале не одно поколение студентов получало свои дипломы из рук деканов. Но выпускной истфака проходил совсем не здесь. По старой традиции, тянущейся ещё с конца XIX века, истфак выпускался не летом, а в начале осени – значительно позже всех остальных. И происходило это на другом конце главного корпуса, там, где последние двести лет была кафедра истории. Лет пять назад, когда сменилось руководство, кафедру переместили на четвёртый этаж правого крыла, поближе к женскому туалету, а на её месте построили модный лофт по образцу Бауманки – брюзжащий, как соловецкий макаронный суп-трансформер, оплот самодержавия. Это было одно из немногих мест, где на территории вуза можно было легально пить и курить, так как окна были выдолблены настолько широкие, что казалось, будто ты вышел на улицу, а соответственно находишься не на территории учебного заведения. Благодаря одному этому факту последние пять лет выпускные вечера исторического факультета проходили интересно и весело. Ко всему прочему там же была и лошадиная ферма, и Зай-Зай-Зайчик™ (известный игровой автомат, в котором можно было выиграть ВСЁ, если проявить сноровку) и кофейный аппарат, который делал отвратительный кофе.
Антону нужно было добраться именно туда, к этому моднявому лофту, потому что именно там, как он думал, уже ставят сцену и звуковое оборудование. В этот момент, когда он уже прошёл центральную развилку, он начал подозревать, что заплутал в темноте, и идёт куда-то не туда. Он никак не мог понять, где он находится, потому что привык видеть все эти коридоры и переходы при солнечном свете. В потёмках они все выглядели иначе, и чем дальше он шёл, тем всё становилось каким-то инородным и незнакомым.
Антон остановился, прислонившись спиной к холодной бетонной стене, с которой на него смотрели будто бы бесконечные однообразные портреты. Воздух пах плесенью и старым металлом, как в старом эстонском подвале, в котором никто не убирался годами. Антон хотел было достать телефон, позвонить кому-нибудь – а тот не включался. По всей видимости, успел разрядиться за день. Даже наручные часы с монохромным экранчиком показывали какую-то ерунду. Вместо цифр – буквы!
Антон глубоко вздохнул, пытаясь собраться с мыслями. Лофт должен быть где-то рядом. Он помнил этот маршрут (точнее, думал, что помнил): от центра – в левое крыло, до конца по коридору, два пролёта вверх по лестнице, потом поворот направо… или налево? Антон нахмурился. Всё казалось совсем неправильным. Теперь уже ни одна из развилок не выглядела знакомо.
Сергей уже часа два как был дома, измученный не только болью в затылке, но и утомительным процессом украшения лофта – хлопотным и нудным занятием, но необходимым, выпускной же. Он чувствовал тупую пульсацию в голове, будто внутри кто-то аккуратно, но настойчиво стучал молоточком по внутренним стенкам черепа. В надежде облегчить свое состояние, он принял пару таблеток «Баралгина», запил их водой и, даже не раздеваясь толком, рухнул на кровать, где почти сразу же погрузился в сон.
Спалось ему очень плохо: его мучил странный и жуткий кошмар, в котором он оказался на сцене с гитарой в руках перед огромной толпой своих озверевших одноклассников. Те кричали и свистели, швыряли что-то в его сторону, какие-то помидоры, носки, трусы, ботинки, и поносили его самыми ужасными словами. Многие из этих слов Сергей даже никогда раньше не слышал – они звучали чуждо и дико, но их смысл был до боли понятен: его музыка никому не нужна, она глупа, бесполезна и смешна. Он хотел прекратить играть, бросить все, убежать, но пальцы будто прилипли к струнам, а рот сам, без его воли, выводил слова песни, которую он вовсе не хотел петь. Сознание сопротивлялось, но тело не слушалось, продолжая этот мучительный ритуал унижения под одобрительный вой толпы…
Проснулся Сергей часа в четыре утра, когда вокруг ещё царила глубокая тишина, нарушаемая лишь редкими звуками, доносившимися издалека. Затылок побаливал, но было уже значительно легче, чем вчера – будто внутри головы каким-то чудом убрали это гадкое, жуткое существо, которое мучило его целый день. Казалось, что из черепа вытащили какого-то жука, пожирающего мозги: дырка осталась, но теперь её никто не жрет, и слава Богу! Сергей, чувствуя себя чуть лучше, решил не лежать в постели и, чтобы окончательно прийти в себя, принял душ, смыв с себя следы усталости и тревоги. Стало ещё полегче. После этого он оделся потеплее, накинув свитер и плотную куртку, и вышел на улицу. Небо было тёмно-синим, почти черным, а над городом стоял густой, плотный туман, который скрывал все вокруг в радиусе метров двухсот. Воздух был свежим и немного влажным, а запах был очень особенный – это был утренний запах, который Сергей ни с чем не мог спутать: сочетание прохладной сырости, аромата утренней росы и влажной земли. Наступила суббота.
Катя однажды сказала Сергею: «Зря ты общаешься с этим бестолковым вислоухим маракасом – жалкой пародией на человека. Он и тебя предаст однажды». А Сергей ей не верил, говорил: «Вот увидишь, настоящую дружбу проверят живые обстоятельства, как живое пиво».
На улицах было очень спокойно и тихо, город ещё спал. Даже машин почти что не было – только редкие фары-призраки пробегали вдалеке. Сергей знал, что движение разгонится только через час-два, если вообще разгонится: субботние утра часто бывают такими – безмятежными, люди ещё лежат под одеялами, а время густой слизью тянется медленно-медленно. Пальцы на ногах Сергея немного замёрзли, кожа слегка покалывала от холода, но он решил пока не возвращаться домой, а выйти на привычную ему утреннюю пробежку в ближайший парк культуры и отдыха. Нужно было освежить мозги, разогнать остатки ночных кошмаров и, может быть, хотя бы частично очистить голову от этой жуткой пульсации, которая всё ещё не давала ему покоя.
Добежав до парка, он остановился перед решётчатой калиткой, коричневеющей от времени и сырости, и, когда он толкнул её плечом, дверца с лёгким скрипом поддалась. Сергей чувствовал, что она совсем холодная, почти ледяная, а поверхность почему-то имела чуть заметную липкость – будто кто-то недавно протёр её чем-то вроде WD-40. А внутри парка было по-домашнему тихо. Не то чтобы пустынно – нет, чувствовалось присутствие чего-то живого, возможно, где-то за деревьями или между скамейками, но всё ещё спало или просто не торопилось показываться, как на кладбище. Трава сверху покрылась туманом, который не шевелился и сам по себе был частью этого странного утреннего состояния. И Сергей, ступая осторожно, не желая нарушать этот особенный покой, шагал дальше внутрь парка, оставляя следы на влажной земле, которые уже через секунду исчезали под плотным облаком тумана.
Утро висело в воздухе лёгкой пеленой. Легко запахло хвойным холодком – ели и сосны, высаженные аккуратными рядами вдоль дорожек, держали на себе росу и глубокий, завлекающий в себя утренний туман, который ещё не скоро испарится.
Парк был простой, без выдумок и придумок. Никаких фонтанов, никаких ярких цветников, не было и идиотских надувных батутов в виде клоунов, буратин, вампиров, скорпионов из «Мортал Комбата» и всякой прочей нечисти. Ранняя осень уже давно напоминала о себе появляющейся пожелтевшей листвой и осторожным холодом, особенно по утрам. Скамейки (по примеру вузовских, на ржавых пружинках) стояли на своих местах, покрытые слоем влажного конденсата. Кое-где виднелись детские площадки, но дети на них не играли, в основном там ночевали бомжи. Сегодня там уже не было никого. Только качели слегка покачивались от ветра, будто кто-то с них только что встал и ушёл.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+9
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе