Неидеальная медицина. Кто виноват, когда в больнице что-то идет не так, и как пациенту при этом не пострадать
Текст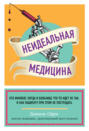


Перейти к аудиокниге
Ваш доход с одной покупки друга: 44,90 ₽
- Объем: 480 стр. 1 иллюстрация
- Жанр: зарубежная публицистика, здоровье и медицина, популярно о медицине
4
Жар
Через три дня после госпитализации для проведения индукционной химиотерапии у Джея был назначен прием у доктора Эверетта. Пока он его ждал, пришла медсестра, чтобы взять кровь на анализ из постоянного катетера, который был установлен у пациента прямо под ключицей. Она представилась, однако к тому моменту Джей и Тара познакомились с таким количеством медработников, ухаживавших за ним, что не запомнили, как ее зовут. Девушка была молодой – лет 20 с небольшим, – с длинными, собранными в хвост каштановыми волосами.
Для тяжелобольных пациентов эти постоянные катетеры – настоящая находка, так как устраняют необходимость в постоянных уколах для забора крови на анализ и могут служить по нескольку недель, а то и месяцев (в то время как обычные внутривенные катетеры приходится менять каждые несколько дней, в результате чего быстро все вены быстро становятся непригодными).
Медсестра промыла порты постоянного катетера, после чего подготовила вакутейнер – пластиковую насадку, с помощью которой кровь извлекается из катетера напрямую в пробирку. Джей сидел на кушетке, болтая с медсестрой, в то время как Тара, откинувшись на спинку стула напротив него, листала медицинский журнал. «Этот катетер никак не поддается», – сказала медсестра Джею. Тара подняла глаза и увидела, как она отчаянно пытается прикрепить вакутейнер к одному из трех выходных портов катетера. Женщина обратила внимание, что крепления были синего цвета. Должно быть, медсестра их поменяла, так как дома они были белыми. Вакутейнер, который она пыталась вставить в крепления порта, туда никак не входил и в итоге выскочил прямо в ее руку в перчатке.
Джей продолжал дружелюбно болтать, как делал это со всеми медиками, попадавшимися ему на пути. Он спросил, как давно девушка этим занимается, нравится ли ей работа, откуда она родом. Вакутейнер опять выскочил, и медсестра снова поймала его рукой. Тара почувствовала, что медсестра начинает нервничать из-за несговорчивости катетера Джея. Со всеми этим портами, креплениями, пробирками и вакутейнером было очень много возни.
Медсестра предприняла третью попытку, попробовав ввернуть вакутейнер в порт, словно штопор. Он выскочил с еще большей скоростью, приземлившись рядом с Джеем на кушетку, застеленную белой бумажной подстилкой, которую меняют после каждого пациента. Медсестра подняла его и снова попыталась подсоединить к порту. На этот раз, к счастью, успешно.
Тара смотрела, как девушка вставляет знакомые пробирки, одну за другой, в вакутейнер: пробирку с синей крышкой, с красной, с разноцветной, с фиолетовой, с черной. Эту процедуру она уже могла делать на автомате. Ей были до боли знакомы эти пластиковые пробирки, и она наизусть знала, какие нужны для каждого анализа крови и какого давления достаточно, чтобы пробить резиновые крышки скрытой внутренней иглой вакутейнера. К этому моменту карьеры медсестры Тара, пожалуй, заполняла пробирки кровью уже больше раз, чем почистила зубы за всю жизнь.
И тем не менее она не верила глазам, видя, как в эти пробирки стекает алая кровь Джея. Все столь знакомые вещи теперь казались ей до жути чужими, подобно тому, как видео с низким разрешением является лишь жалкой тенью реальности. Сколько бы пикселей ни было на экране, перед ней на кушетке просто не мог сидеть Джей с 30-сантиметровым катетером, соединяющим его внутренности с внешним миром. Ее супруг не мог сидеть напротив, свесив ноги с кушетки, бумажная подстилка на которой сморщивалась от малейшего движения. Это не мог быть Джей – ее муж, – в котором уже чувствовалась усталость «профессионального» пациента, несмотря на то что у него всегда наготове было доброе слово даже для уборщиков. Не прошло и двух месяцев с тех пор, как он крутил в подвале обруч, однако морщины усталости уже успели так глубоко отпечататься на его лице, словно были там десятилетиями.
Любой постоянный катетер – это потенциальный источник заражения. И вместе с необходимыми лекарствами через брешь в коже могут попадать совершенно ненужные инфекции.
Таре все хотелось настроить фокус, поправить провода, накрутить на антенну побольше фольги – в общем, попробовать все, лишь бы восстановить прежнюю четкость картинки, снова сделав ее такой, какой она должна была быть. Они с Джеем должны были ныть о том, что им стукнуло сорок, жаловаться на бесконечные подростковые проблемы детей. Супруги должны были переживать о том, смогут ли получить ипотеку на дом, который присматривали, и хватит ли их сбережений детям на колледж и им самим на старость. Дети должны были дразнить их по поводу редеющих волос, расширяющихся талий и нелепо выглядящих очков для чтения. Они не должны были смотреть, как кровь Джея наполняет одну пробирку за другой.
Закончив, медсестра промыла порты катетера физраствором (для предотвращения свертывания крови в узкой трубке). Она отсоединила вакутейнер, выбросила его в контейнер для острых предметов и забрала пробирки, чтобы отправить их на анализ в лабораторию. Пришел доктор Эверетт и осмотрел Джея. Он сказал, что тот достаточно хорошо перенес индукционную химиотерапию. Тем не менее перед назначением следующего курса нужно было подождать несколько недель, чтобы Джей окончательно восстановился после этой взрывной порции. Супруги должны понимать, что лечение уничтожило костный мозг Джея. Теперь он был совершенно никак не защищен от необъятного количества всевозможных патогенов. К счастью, в организме человека имеется удобная сигнализация, извещающая о заражении, – температура тела. «Самое главное, – подчеркнул доктор Эверетт, – чтобы Джей вернулся в больницу, когда у него появится жар. Никаких „если”».
Как и предсказывал врач, это «когда» настало уже на следующий день, в субботу. «Что ж, молитвы не помешают, – написал тем утром Джей в своем блоге. – У меня температура 37,2, что выше моего обычного показателя 36,1–36,6. Если она подскочит до 37,8, то придется отправиться в больницу, чтобы мне поставили капельницу с антибиотиками. Я собираюсь помедитировать и помолиться, чтобы все обошлось и она спала».
Молитвы и медитация не смогли усмирить ртуть. К середине дня градусник показывал до 37,2. Вернувшись с ночной смены в приемном покое, Тара опросила Джея на предмет каких-либо признаков инфекции – кашля, сыпи, рвоты, усиливающегося поноса, жжения при мочеиспускании, – однако ничего из этого у него не наблюдалось.
Тара урывками дремала во второй половине дня, каждый час проверяя, как идут дела у Джея. Жар то усиливался, то спадал, однако к девяти вечера температура достигла отметки в 37,8 градусов. Супруги сели в машину и приехали в больницу. Казалось, приятное июльское тепло, согревающее тело и душу, обошло их стороной – Тара замерла за рулем, не отрывая глаз от дороги, в то время как Джей дрожал, несмотря на свитер.
При поступлении в отделение трансплантации костного мозга (ОТКМ) температура у Джея подскочила уже до 38,6, и теперь его сильно знобило. Медики провели стандартное обследование при жаре – рентген грудной клетки, лабораторные анализы, посевы крови и мочи – и поставили ему капельницу с антибиотиками широкого спектра действия и физраствором для восполнения потерянной жидкости. Тара попросила подключить мужа к телеметрическому кардиомонитору для непрерывного снятия ЭКГ – из-за предыдущих обмороков. Дежуривший ночью гематолог, доктор Амир, назначил ему демерол – сильный опиоид, – чтобы унять озноб.
«Почти всю ночь не спал, – написал Джей в три часа ночи. – Чувствую себя немного лучше, но никак не засну. Посмотрим, что из этого выйдет. В районе четырех у меня должны были снять основные жизненные показатели. Думаю, у меня понизился пульс, когда я ходил в туалет. Все это очень раздражает, но что есть, то есть. Похоже, легкий путь не для меня!»
На следующий день, однако, Джею стало хуже. Жар не отступал, а еще у него пропал аппетит. От боли в животе он никак не мог удобно улечься. «Ох, чувствую себя паршиво, – написал он в воскресенье утром. – Этот жар сводит меня с ума». У него резко упал уровень тромбоцитов, и, чтобы не допустить опасного кровотечения, ему сделали переливание.
«Такое ощущение, что живот битком набит», – признался он Таре. Окинув Джея профессиональным взглядом, она заметила, что живот действительно выглядит раздутым. Ступни, казалось, слегка распухли, а судно под кроватью наполнялся не так быстро, как предыдущей ночью. Вместе с тем, женщина прекрасно отдавала себе отчет, что находится в больнице в качестве члена семьи, а не медсестры. Ей уже неоднократно приходилось иметь дело с родственниками пациентов с медицинским опытом, которые вмешивались в уход за близким, и хорошего в этом было мало. Даже действия из самых лучших побуждений способны привести к катастрофическим последствиям.
Тара ограничилась тем, что просто поделилась наблюдениями с медбратом Джея, которым оказался пожилой белый мужчина, и она предположила, что медсестринское дело, возможно, стало его второй профессией. Казалось, ему недостает медицинской хватки, характерной для опытных медсестер. Его оценка состояния Джея казалась поверхностной, однако Тара не хотела вмешиваться. Больше всего ей не давал покоя катетер, который все еще находился в груди Джея, в то время как его тело горело.
Любой постоянный катетер является потенциальным источником инфекции. Обычно два квадратных метра кожи надежно ограждают нас от внешнего мира, однако это приспособление может стать высокоскоростной магистралью для проникновения внутрь бактерий, в связи с чем требует чрезвычайно щепетильного обращения. Тара поморщилась, вспомнив вакутейнер, соскочивший на кушетку два дня назад. Конечно, подстилка из белой бумаги была чистой… Но не стерильной.
По стандартному правилу при любых подозрениях на инфекцию катетер подлежит замене. Даже выглядя абсолютно чистым, он все равно может служить проводником для заражения. Вместе с тем удалять постоянный катетер без особой на то необходимости не стоит, так как его установка – не самая простая процедура. (В то время как типичные центральные катетеры, для которых в свое время создавались чек-листы, можно без труда вставить прямо в палате, постоянные катетеры для химиотерапии устанавливаются хирургическим путем в операционной.) Таким образом, лишний раз постоянный катетер лучше не вынимать. Тем не менее, если имеются все основания предполагать, что он стал источником инфекции, его необходимо извлечь, несмотря ни на что.
Все воскресенье Джей жаловался на боли в животе. Жар не проходил, и Тара никак не могла взять в толк, почему катетер оставили на месте. В полдень медсестра сообщила предварительные результаты посевов крови. «Чего там у тебя только нет», – сказала она. Когда в посеве обнаруживается смесь микроорганизмов, а не какой-то один, то это указывает на загрязнение. Нужно было оставить бактерии в пробах размножаться, чтобы понять, представляют ли они собой истинные патогены или же просто случайные загрязнители. Для этого требовалось прождать еще сутки.
Несмотря на антибиотики, Джея продолжало постоянно лихорадить. К тому же от костного мозга мало что осталось, так что защита от инфекции была минимальной. Таре казалось, что этих двух факторов должно было быть достаточно, чтобы удалить катетер. Тем не менее все воскресенье он оставался на месте и его активно использовали: для подачи физраствора, переливания и взятия образцов крови.
У тяжелобольного пациента необходимо следить за поступлением и выделением жидкости. Любые задержки и нарушения могут говорить о серьезных проблемах.
Как это делается для всех госпитализированных больных, Джею выдали стимулирующий спирометр для упражнений по увеличению жизненной емкости легких[24]. Пациенты дуют в трубку, стараясь как можно дольше удержать пластиковый шарик в воздухе. Джею едва удавалось хотя бы раз дунуть в трубку. Шарик не двигался с места. «Я не могу сделать глубокий вдох, – сказал он Таре. – Живот словно битком набит».
Ночью Джей так шумно дышал, что несколько раз разбудил жену. Она сказала об этом дежурившей ночью медсестре, которая объяснила, что все дело в жаре. Тара также отметила, что у Джея выделяется все меньше мочи. Медсестра ответила, что это тоже из-за температуры.
На следующее утро, в понедельник, у Джея еще сильнее опухли ступни и, как показалось Таре, ему стало еще труднее дышать. Кроме того, она все больше переживала о поступлении и выделении жидкости.
Медсестры тщательно следят за поступлением и выделением у пациентов, продолжая делать это, наверное, даже во сне. Необходимо тщательно измерять количество поступающей в организм и выходящей из него жидкости, и при этом должен соблюдаться определенный баланс. Если на входе будет слишком мало жидкости, пациенту грозит обезвоживание, в то время как ее избыток усиливает отечность. С другой стороны, недостаток жидкости на выходе может означать почечную недостаточность, в то время как ее избыток указывать на слишком высокую дозу диуретиков[25]. Отслеживание поступления и выделения – важнейшая задача для медсестры.
Тара наблюдала за судном Джея – в нем явно скопилось меньше жидкости, чем днем ранее. Через капельницу по-прежнему вливали огромное количество физраствора, однако, если почки не справлялись, жидкость могла начать скапливаться в ногах, легких и брюшной полости. Тара сообщила дневной медсестре о беспокойстве по поводу дисбаланса поступления и выделения, однако та, казалось, никак не отреагировала на это. Она не достала стетоскоп, чтобы прослушать легкие Джея, не пощупала икры, чтобы проверить, не отекли ли мягкие ткани. Тара вспоминала, что медсестра просто смотрела на нее, медленно моргая, «как персонажи мультфильмов».
Позже тем утром анализы показали наличие в крови Джея бактерий под названием МРЗС – метициллин-резистентного золотистого стафилококка. Это одновременно и ужаснуло, и успокоило Тару. Напугало потому, что инфекции, вызванные МРЗС, передающиеся через кровь, очень серьезные, а обнадежило потому, что теперь жару Джея наконец нашлось объяснение и можно было начать лечение.
После подтверждения МРЗС, разумеется, не оставалось другого выбора, кроме как вынимать катетер. Вместе с тем из-за все еще заниженного уровня тромбоцитов Джею требовалось их дополнительное переливание, чтобы не дать развиться кровотечению после удаления катетера. Кроме того, у него все еще была анемия, так что ему требовалась и регулярное переливание цельной (эритроцитарной) крови. На это могли уйти несколько часов.
Тара в душе кипела от злости, наблюдая, как медсестра в одиночку переливает компоненты крови. По правилам перед началом любой такой процедуры требуется присутствие двух медсестер для дополнительной проверки личности пациента и группы крови. К этому времени, однако, она была уже слишком уставшей, чтобы жаловаться. Вот уже 36 часов женщина почти не спала и чувствовала, что ухаживающие за Джеем медики перестают обращать на нее внимание. Они, вероятно, уже решили для себя, что она одна из тех «трудных» членов семьи, которые только усложняют им жизнь.
Доктор Чаудри, тот самый старший ординатор-гематолог, на обходе заглянула в палату Джея, и, увидев ее, Тара тут же почувствовала облегчение, вспомнив, какой внимательной она была, когда мужа госпитализировали неделей ранее. Тара вывалила на нее все переживания, которые держала в себе: по поводу затрудненного дыхания Джея, тяжести в животе, отека ступней, пониженного диуреза. Доктор Чаудри внимательно ее выслушала и осмотрела пациента. Джей показал на правую часть груди, сказав, что теперь у него болит здесь. Врач назначил рентген грудной клетки и брюшной полости.
На этой неделе в отделении работал другой гематолог – доктор Мюллер, – которая пришла вскоре после этого. Таре запомнились ее румяные щеки и дородное телосложение, как у Санта-Клауса в женском обличии. Только вот была она вовсе не такой веселой. Когда Тара снова выразила свое беспокойство, та ответила довольно резким тоном. Хотя доктор Чаудри и выслушала ее внимательно, Тара понимала, что именно Мюллер является лечащим врачом ее мужа, так что ее мнение имело первостепенную важность.
Прослушав легкие Джея, доктор Мюллер сказала, что слышит влажные хрипы у основания правого легкого. Это может указывать на пневмонию, однако также может быть следствием чрезмерного скопления жидкости в организме. Только рентген поможет разобраться, в чем именно дело. Тара обратила внимание, что доктор Мюллер не пальпировала живот Джея, хотя тот и жаловался на боль в правом боку. Всю свою жизнь Джей щеголял кубиками пресса, так что Тара знала: то, что другим могло показаться небольшой дряблостью, для него явно было ненормальным. У ее мужа явно раздуло живот.
Один и тот же симптом часто указывает на различные состояния организма: и одно может быть безвредно, а другое – смертельно опасно. Даже кашель.
Тара с нетерпением ждала результатов рентгена, однако они ничего не показали. Не было обнаружено ни пневмонии, ни скопления жидкости, которые могли бы объяснить затрудненное дыхание. Женщина знала, что диагностический процесс редко бывает гладким, особенно в случае пациентов с иммунной системой, пораженной лейкемией, а затем окончательно добитой химиотерапией. Тем не менее проблема была налицо, и нужно было что-то предпринять. Джей уже перешел на шепот: нормальная речь требовала слишком много усилий.
– Посмотрите, как ему тяжело говорить, – сказала медсестре Тара.
– Это все из-за химиотерапии, – ответила та.
– Пожалуйста, не могли бы вы дать ему кислород? – попросила Тара.
– Ему это не нужно, – ответила медсестра, указывая на пульсоксиметр, согласно показаниям которого уровень насыщения кислородом у Джея был в пределах нормы, хотя и ближе к нижнему порогу.
Тара начала терять терпение.
– У него частота дыхания уже за тридцать, – сказала она, показывая на вздымающуюся грудь Джея. – А пульс то за сто двадцать, то за сто тридцать. Постоянно! Так больше не может продолжаться.
Она вспоминала, как медсестра просто стояла и смотрела на нее все тем же пустым взглядом героя мультфильма. Тара поклялась не вмешиваться в лечение Джея, однако просто не могла больше терпеть. Посмотрев медсестре в глаза, она решительно сказала:
– Принесите носовую канюлю.
Медсестра подчинилась и вскоре вернулась с кислородным баллоном.
Позже в тот день они получили по электронной почте жизнерадостное письмо от своей дочери Саши из Китая: «Я ела грибы, немного говядины с рыбой и кучу вареного риса. А еще что-то зажаренное во фритюре (сегодня я научусь это готовить). На самом деле еда довольно неплохая, и я буду скучать по ней, а еще по чаю, когда вернусь домой». Она преподавала английский язык в детском доме, а также играла с детьми в баскетбол и фрисби. Она поднялась на покрытую ледником гору, до упада плясала тибетские танцы, а также изо всех сил пыталась следить за развитием событий в китайских мыльных операх, которые смотрели в семье, где она жила. Посещение монастыря произвело на нее такое впечатление, что она купила свиток с китайскими молитвами в подарок отцу и нарисовала погруженных в медитацию монахов. «Надеюсь, вы понимаете, что я буду совершенно измотана, когда вернусь домой. В конце концов, разница в 12 часовых поясов. Мне надо будет хороше-е-е-е-е-енько отоспаться. А еще съесть стейк. И папину картошку…»
Ее оптимизм и восторг били ключом, словно она стояла рядом с ними. Саша все еще не знала, что отца положили в больницу – ей даже не рассказали о лейкемии. Она не знала, что у Джея жар и что ему трудно дышать. Однако ее письмо стало лучиком света в серой больничной палате. У Джея по щекам текли слезы, пока жена читала письмо вслух. «Я так… горжусь ею», – прошептал он, хватая ртом воздух.
Тару и Джея все еще тяготило то, что они так и не рассказали Саше обо всем, с чем им приходилось иметь дело. Тем не менее они приняли на себя эту ношу, причем охотно, так как хотели дать дочери возможность в полной мере насладиться этим уникальным опытом. Боль еще придет – ее никак было не избежать, – однако родители могли защитить своего ребенка хотя бы ненадолго.
5
Диагностическое мышление
Телесериалы о больницах невероятно популярны: мы с восхищением наблюдаем, как гениальный врач, основываясь на каких-то невнятных клинических симптомах и взятых из памяти запутанных фактах, приходит к невероятно мудреному диагнозу. Вместе с тем, сами оказавшись пациентами, мы явно предпочитаем, чтобы все было намного проще. Нам хочется, чтобы диагноз был однозначным и скучным и тем самым нас успокаивал. В реальности никому не хочется, чтобы врачи ломали голову над его случаем, а серия с его участием заканчивалась на самом интересном месте, заставив зрителей томиться в неведении всю следующую неделю.
Как это наглядно демонстрирует пример Джея, медицинская реальность невероятно сложна. Азбучная логика постановки диагноза разваливается в хаотичном мире человеческой физиологии, что делает медицину еще менее похожей на авиацию. Даже когда, казалось бы, виновник у нас в руках – в случае Джея это бактерии МРЗС, размножающиеся в его крови, – все равно остается неопределенность. Состояние пациента ухудшалось, несмотря на антибиотики. В чем же была проблема? Неэффективная терапия? Задержка с лечением? Может, помимо инфекции, вызванной МРЗС, назревали и другие диагнозы.
Особенно примечательным было то, что у Джея была одышка и никак не проходил жар. У затрудненного дыхания было множество возможных объяснений, однако, если прибавить к нему лихорадку, главным кандидатом становилась пневмония. На рентгеновском снимке грудной клетки признаков воспаления легких обнаружено не было – исследование дало отрицательный результат на пневмонию, однако это лишь иллюстрирует одну из трудностей, связанных с постановкой точного диагноза. Означает ли отрицательный результат, что у пациента действительно нет заболевания?
Как всегда, все зависит от обстоятельств. С отрицательным результатом рентгена вполне разумно исключить наличие пневмонии у здорового человека с несильным кашлем, который без особого дискомфорта сидит в кабинете врача. Когда же речь идет о тяжелобольном с жаром и подорванным иммунитетом, который лежит в больничной палате и задыхается, то отрицательный результат рентгена грудной клетки приобретает уже несколько иной смысл, а то и несколько значений. Он может быть ложноотрицательным – то есть пневмония на самом деле имеется, просто рентген ее не показал. Или же отрицательный результат может быть следствием ошибки специалиста, который просматривал снимок, в то время как на нем присутствовали признаки воспаления легких. Могло быть и так, что рентген был неподходящей диагностической процедурой для выявления заболевания в данных обстоятельствах: возможно, он попросту не мог показать следы пневмонии у пациента, чья подавленная иммунная система не в состоянии отреагировать с помощью воспаления, которое и дает типичную картину для пневмонии на снимке.
Больные зачастую предполагают, будто такие диагностические процедуры, как рентген, точны, словно калькуляторы: достаточно ввести цифры, и будет получен единственно верный ответ. Вместе с тем анализ рентгеновских снимков – это приобретенный навык, и владеющим им людям приходится принимать субъективные решения о том, что является нормой, а что – патологией. Порой пневмония на рентгеновских снимках до боли очевидна: целый кусок легкого оказывается белым от воспаления. Зачастую, однако, рентгенологические признаки едва уловимы. Знали бы вы, сколько раз я до рези в глазах разглядывала расплывчатое пятнышко на снимке, обсуждая, пневмония ли это или же просто попавший на пленку мусор (и это официальный термин, используемый рентгенологами). Чтобы стать хорошим рентгенологом, нужно годами просматривать снимки, изучая всевозможные варианты, которыми могут быть представлены воспаление и инфекция легочной ткани.
Поскольку анализ рентгеновских снимков, по сути, построен на распознавании образов, современные технологии искусственного интеллекта добиваются в этой области небывалых успехов. Чтобы научить врача понимать рентгеновские снимки, ему в процессе подготовки показывают их в огромном количестве. Идея в том, что этому навыку можно научить и компьютерную систему, введя в нее достаточное количество образов. Методом проб и ошибок система должна научиться отличать патологию от мусора.
Часто люди думают, что медицинские анализы и диагностика точны и однозначны. На деле же самую главную роль играет интерпретатор результатов – человек со своим субъективным мнением.
Группа исследователей из Калифорнии предприняла попытку создать такую систему, загрузив в компьютер 112 120 рентгеновских снимков грудной клетки 1. Каждый из них был нормальным или демонстрирующим признаки одной из 14 патологий, включая пневмонию. Ученые создали алгоритм анализа изображений, и с помощью машинного обучения им удалось натренировать нейросеть подобно тому, как готовят ординаторов-рентгенологов. Затем они протестировали нейросеть с помощью 420 новых снимков, чтобы понять, как хорошо она справляется с диагностикой пневмонии. А ради забавы исследователи показали эти же 420 снимков девяти рентгенологам из престижных мединститутов, чтобы сравнить их результаты с заключениями искусственного интеллекта.
Нейросеть справилась с анализом не хуже живых специалистов для 10 из 14 легочных патологий, включая пневмонию, новообразования, а также скопление жидкости внутри и снаружи легких (рентгенологи оказывались эффективнее компьютеризированной системы в выявлении эмфиземы, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы и гипертрофии сердца). Кроме того, нейросеть смогла проанализировать 420 снимков за полторы минуты, в то время как у людей на это ушло в среднем четыре часа. Неудивительно, что компьютеризированная система справилась с этой задачей настолько хорошо – а также не нуждалась в кофе и перерывах на туалет, – так как точное распознавание образов строится на их огромном количестве, которые были увидены прежде. С нейросетью можно действовать по методу фуа-гра, скармливая компьютеру неограниченные массивы данных. В отличие от гуся – или, раз уж на то пошло, ординатора-рентгенолога, – вы не столкнетесь с воплями, разорванными кишками или «Ох, уже шесть вечера, мне нужно бежать».
Успех в области распознавания образов вызвал интерес к использованию нейросетей, чтобы повысить точность диагностики широкого спектра заболеваний. Для простых клинических ситуаций – например, когда при травме лодыжки нужно понять, требуется ли рентгеновский снимок, чтобы исключить перелом, – такой алгоритм создать относительно несложно. Вместе с тем совсем другое дело – научить компьютер ставить диагноз, когда у пациента такие расплывчатые жалобы, как «у меня болит живот» или «в последнее время я стал сильнее уставать».
Совершенствование глобального диагностического процесса – своего рода Святой Грааль для исследователей в этой области. Только представьте, как было бы здорово обзавестись нейросетью, которая по введенным симптомам проводила бы точную дифференциальную диагностику. Она бы учитывала все редкие болезни, о которых склонны забывать несовершенные люди, при этом, разумеется, исключая те, что совсем не подходят. И на выходе мы бы получали план обследования, которое было бы всесторонним, но при этом не предполагало бы ненужных диагностических процедур. Программа принимала бы во внимание экономическую эффективность и клинические обстоятельства, прилежно избегая как ложноположительных, так и ложноотрицательных результатов. Воистину, Святой Грааль!
Очень здорово, если изобретут искусственный интеллект, способный ставить диагноз и назначать лечение.
Вот только для этого нужно учесть столь много факторов и контекста, что чудо явно случится нескоро.
С этой целью был созданы ряд диагностических инструментов, причем некоторые из них уже активно применяются на практике: ISABEL, VisualDx и DXplain («Dx» – это медицинское сокращение от diagnosis, диагноз). Метаанализ всех опубликованных исследований, связанных с этими программами, дал противоречивые результаты 2. Ученые не нашли убедительных доказательств эффективности, чтобы рекомендовать всем врачам использовать их, однако согласились, что у них есть определенный потенциал. Я целый день тестировала эти системы в поликлинике вместе с ординаторами и студентами. В систему вводились симптомы каждого пациента. Прежде чем нажать кнопку «ввод», мы проводили собственную дифференциальную диагностику, после чего сравнивали наши результаты с предложенными компьютером. В простых случаях система слишком сильно мудрила – человеческий разум действовал намного быстрее и эффективней. Затем нам попался случай, представлявший собой диагностическую дилемму. Он идеально подходил для тестирования программы.
Пациентом была молодая здоровая женщина 20 с небольшим лет, которую периодически беспокоили приступы учащенного сердцебиения и одышки. Прежде она занималась игровыми видами спорта, однако из-за повышенной утомляемости забросила их. Из-за финансовых трудностей ее семье недавно пришлось переехать в тесную квартирку на цокольном этаже. Ей там ужасно не нравилось и было не по себе, когда она оставалась одна.
После обращения в приемный покой ее положили на ночь в больницу и серьезные проблемы с сердцем исключили. По мнению кардиолога, симптомы были вызваны чувством беспокойства, и после приема бета-блокаторов[26] для замедления сердечного ритма ей стало лучше, хотя и не полностью.
Едва начав забивать в компьютер симптомы, мы сразу же поняли, как трудно описать диагностический процесс количественно. Когда мы ввели «тахикардия» (учащенное сердцебиение) и «одышка», на экране появился длинный список возможных диагнозов. Система действовала наверняка, чтобы ничего не упустить. Так, список возглавлял «септический шок», который, конечно, может сопровождаться наблюдаемыми симптомами. Только вот когда перед тобой сидит здоровая на вид женщина, которая улыбается и ведет непринужденный разговор, этот вариант в жизни не придет в голову (в отличие от пациента вроде Джея, у которого также была тахикардия с одышкой). Равно как и обширное кровоизлияние и расслоение аневризмы аорты – еще два потенциальных диагноза из списка.
В программе не было графы для описания «сущности» этой девушки. Для учета обстоятельств попросту не было места. Некуда было ввести такие психологические факторы, как «вынужденный переезд в тесную подвальную квартиру из-за финансовых трудностей». Я не виню за это систему, однако эти ограничения в очередной раз подчеркивают, из какого огромного множества деталей состоит диагностический процесс. Кроме того, нейросеть не сможет учесть, что на цокольном этаже более благоприятные условия для развития плесени, чем на верхних. Она способна вызывать или усугублять ряд легочных заболеваний, от астмы и аспергиллеза до гиперчувствительного пневмонита, так что эти варианты нейросеть бы не учла.
Эта и ещё 2 книги за 399 ₽