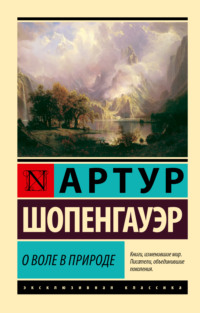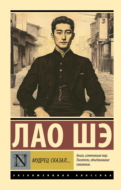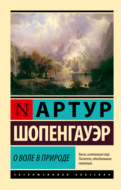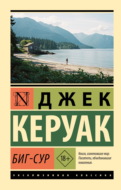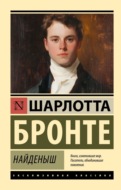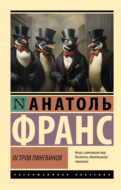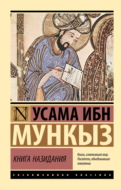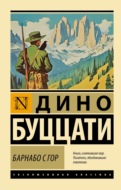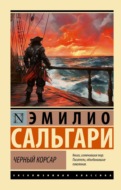Читать книгу: «О воле в природе», страница 3
Физиология и патология
Классифицируя вышеупомянутые эмпирические подтверждения моей теории по наукам, от которых они исходят, и пользуясь при этом в своих изысканиях как путеводной нитью, нисходящей постепенностью явлений природы, я должен прежде всего упомянуть о крайне замечательном подтверждении, которое получил мой основной тезис в последние годы со стороны физиологических и патологических воззрений ветерана медицины, датского лейб-медика И. Д. Брандиса, к сочинению которого «Опыт о жизненной силе» (1795) еще Рейль отнесся с особенной похвалой. В двух новейших его сочинениях: «Опыты применения холода к лечению болезней» (1833) и «Нозология и терапия худосочий» (1834) – он с поразительной настойчивостью выставляет бессознательную волю источником всех жизненных функций, выводит из нее все процессы в деятельности организма как больного, так и здорового, и указывает в ней primum mobile27 жизни. Я вынужден подтвердить это дословными выписками из его сочинений, так как в подлиннике они могут быть под руками разве только у читателя, причастного к медицине.
На стр. VIII первого из названных двух сочинений говорится: «Сущность всякого живого организма состоит в том, что он по возможности старается отстоять свое существование против макрокосма». На стр. X: «В один момент времени в известном органе может быть только одно живое бытие, только одна воля; поэтому если в кожных органах находится больная, не гармонирующая с единством организма воля, то холод в состоянии подавлять ее, т. е. волю, до тех пор, пока не вызовет зарождения теплоты – т. е. воли нормальной».
На стр. 1: «Если мы вынуждены убедиться, что в каждом жизненном акте должно быть, во‐первых, нечто определяющее – воля, посредством которой осуществляется целесообразный для всего организма процесс образования и обусловливается всякое видоизменение органов в соответствии с данной цельной индивидуальностью, – и, во‐вторых, определяемое, или образуемое» и т. д.
На стр. 11: «По отношению к индивидуальной жизни определяющее начало, органическая воля должна получить со стороны определяемого удовлетворение, для того чтобы она, эта воля, потом, удовлетворенная, остановилась. Это происходит даже при повышенном жизненном процессе, в воспалении: образуется нечто новое, изгоняется вредное; до тех пор чрез артерии больше вводится образуемого начала и больше выводится крови, пока воспалительный процесс не окончится и органическая воля не получит удовлетворения. Но эта воля может быть возбуждена и до такой степени, что удовлетворить ее не окажется возможным. Эта возбуждающая причина (раздражение) в подобном случае действует или непосредственно на какой-нибудь отдельный орган (яд, зараза), или аффицирует всю жизнь, и тогда эта жизнь вскоре напрягает все силы, чтобы удалить вредные элементы или пересоздать органическую волю, и с этой целью возбуждает в отдельных органах критические жизнедеятельности, воспаления, или падает жертвой неудовлетворенной воли».
На стр. 12: «Неудовлетворимая аномальная воля действует таким образом на организм разрушительно, если только а) жизнь в ее целом, стремящаяся к единству (тенденция к целесообразности), не вызовет других удовлетворимых жизнедеятельностей (Crises et Lyses), которые подавят аномальную волю, – причем если они вполне успевают в этом, то получают название решительных кризисов (Crises completae), если же только отчасти отклоняют волю, то называются crises incompletae, или б) если какое-нибудь другое раздражение (лекарство) не вызовет другой воли, которая пересилит волю больную. Если мы подведем все это под одну и ту же категорию с волей, сознанной нами посредством представлений, и убережемся от того, чтобы здесь могла идти речь о более или менее близких или далеких сравнениях, то мы убедимся, что мы установили основное понятие единой, неделимой в силу своей неограниченности жизни, которая может и произращать волос на человеческом теле, и создавать самые возвышенные комбинации представлений, смотря по тому, в каких различных органах она проявляется – в более или в менее одаренных и развитых. Мы видим, что сильнейший аффект – неудовлетворенная воля – может быть подавлен возбуждением более или менее сильным» и т. д.
На стр. 18: «Внешняя температура является тем побуждением, в силу которого определяющее начало – эта тенденция к сохранению единства организма, эта органическая воля, лишенная представления, – видоизменяет свою деятельность то в одном и том же органе, то в каком-нибудь отдаленном. Всякое проявление жизни есть, однако, манифестация органической воли, как больное, так и здоровое: эта воля определяет растительную жизнь; в здоровом состоянии она определяет ее в согласии с единством целого; в больном же состоянии воля… принуждается хотеть не в согласии с единством целого».
На стр. 23: «Внезапное соприкосновение кожи с холодом подавляет функцию последней (простуда); холодное питье подавляет органическую волю органов пищеварения и этим усиливает волю в коже и вызывает испарину; то же следует сказать и относительно больной органической воли: холод уничтожает сыпи и т. д.».
На стр. 33: «Лихорадка – это совокупное участие всего жизненного процесса в некоторой больной воле; следовательно, лихорадка представляет собою в совокупности жизненного процесса то же, что́ воспаление в отдельных органах, – именно, напряженное стремление жизни образовать нечто определенное, чтобы удовлетворить больную волю и удалить вредное. Если это определенное образуется, то происходит так называемый кризис или лизис. Первоначальная перцепция вреда, пробуждающего больную волю, действует на индивидуальность совершенно так же, как вред, апперципируемый нами посредством органов чувств, прежде чем мы образовали себе представление о всем его отношении к нашей индивидуальности и о средствах его удаления. Оно, вредное, порождает испуг и его последствия, остановку жизненного процесса в паренхиме (и прежде всего – в тех частях ее, которые обращены ко внешнему миру), в коже и двигающих всю индивидуальность (т. е. внешнее тело) мускулах, порождает озноб, холод, дрожь, боль в членах и т. д. Различие между обоими этими видами вредного заключается в следующем: в последнем случае сознание вреда сразу или же мало-помалу достигает степени отчетливых представлений, потому что вредное равномерно распространяется через все чувства по данной индивидуальности и этим ясно определяет свое отношение к ней, так что средство охранить ее от вреда (пренебречь, уклониться, отразить) может быть доведено здесь до степени некоторой сознательной воли; в первом же случае наоборот: вред не достигает сознания, и жизнь одна (здесь – целительная сила природы) напрягает свои силы для того, чтобы удалить вредное и этим удовлетворить больную волю. Все сказанное не следует считать простой метафорой: нет, это соответствующее истине описание манифестации жизни»…
На стр. 58: «Следует, однако, всегда иметь в виду, что холод в данном случае действует как сильно возбуждающее средство для того, чтобы подавить или умерить больную волю и пробудить вместо нее какую-нибудь естественную волю всеобщего зарождения теплоты».
Выражения такого рода можно найти почти на каждой странице книги г. Брандиса. Во втором из его названных сочинений он уже не до такой степени сплошь вплетает в свои отдельные толкования теорию воли – вероятно, исходя из тех соображений, что она, эта теория, в сущности метафизична; однако он вполне ее удерживает и даже, в тех случаях, где на нее ссылается, высказывает ее тем определеннее и яснее. Так, в § 68 и след. он говорит о «бессознательной воле, которая неотделима от воли сознательной» и которая служит primum mobile всякой жизни, как растения, так и животного, поскольку у них определяющим началом всех жизненных процессов, выделений и т. п. являются обнаруживающиеся во всех органах влечение и отвращение. § 71: «Все судороги доказывают, что проявление воли может совершаться и помимо отчетливой способности представления». § 72: «Повсюду мы наталкиваемся на изначальную таинственную деятельность, которая, подчиняясь то возвышенной и гуманной свободной воле, то животному влечению и отвращению, то простым, скорее растительным, потребностям, пробуждает в единстве индивидуума различные виды деятельности, для того чтобы проявить себя». На стр. 96: «Какое-то творчество, какая-то изначальная таинственная деятельность сказывается в каждом проявлении жизни»… «Третьим фактором этого индивидуального творчества является воля, самая жизнь индивидуума»… Нервы служат проводниками такого индивидуального творчества: чрез их посредство изменяется форма и состав соков – сообразно с тем, что́ испытывается: влечение или отвращение. На стр. 97: «Ассимиляция поступающей извне материи… образует кровь… это не есть ни всасывание, ни просачивание органической материи… нет, повсюду единственным фактором явления оказывается творческая воля, жизнь, несводимая ни к какому роду известного нам движения».
Когда я писал это в 1835 году, я был достаточно простодушен для того, чтобы серьезно верить незнакомству г. Брандиса с моим сочинением: иначе я не стал бы упоминать здесь его писаний, потому что в таком случае они представляли бы собою не подтверждение, а только повторение, частное применение или развитие моего учения в данном пункте. Но я думал, что смело могу положиться на его незнакомство со мною: он нигде обо мне не упоминает – а если бы он меня знал, то литературная честность обязывала бы его не умалчивать о человеке, у которого он заимствовал свою главную и основную мысль, тем более что он видел тогда, как этот человек, вследствие огульного замалчивания его книги, терпел незаслуженное пренебрежение, которое легко могло быть истолковано как благоприятное для плагиата. К тому же ссылка на меня была бы в собственных литературных интересах г. Брандиса и делала бы честь его уму: ведь его основное положение до такой степени поражает своей парадоксальностью, что уже геттингенский рецензент г. Брандиса немало на него диву давался и недоумевал, как с ним быть; между тем г. Брандис, собственно, не подкрепил такого тезиса доказательствами или индукцией и не установил его отношения к совокупности наших знаний о природе, а просто-напросто догматически выставил его. Вот почему я и вообразил себе, что он дошел до своего научного положения тем своеобразным даром догадки, который позволяет замечательным врачам распознавать и схватывать истинное положение дела у постели больного, – пусть и не мог он дать строгого и методического отчета об основаниях этой, в своем существе метафизической истины; впрочем, должен же он был видеть, до какой степени шла она вразрез с установившимися воззрениями. Если бы, думал я, он был знаком с моей философией, которая устанавливает ту же самую истину в несравненно более широком объеме и распространяет ее значение на всю природу, обосновывает ее доказательствами и индукцией, в связи с кантовским учением, последовательным и конечным выводом которого она только и является, то как приятно и кстати было бы для него сослаться на эту мою философию и на нее опереться, для того чтобы не стоять одиноко со своим неслыханным утверждением, которое у него только утверждением и остается. Вот причины, в силу которых я считал в то время возможным безусловно допустить, что г. Брандис действительно не был знаком с моим произведением.
Но с тех пор я лучше узнал немецких ученых и копенгагенских академиков, к числу которых принадлежал господин Брандис, и пришел к убеждению, что он был очень хорошо знаком со мною. На чем основывается у меня это убеждение, я высказал уже в 1844 году во втором томе «Мира как воли и представления», гл. 20, стр. 263 (3-е изд., 295); и так как во всем этом приятности мало, то я и не буду здесь повторять своих доводов, а прибавлю только, что с тех пор я из весьма достоверного источника получил подтверждение того обстоятельства, что г. Брандис был несомненно знаком с главным моим сочинением и даже имел его лично, так как оно оказалось в оставшемся после него наследстве. Незаслуженное пребывание в тени, которое в течение долгого времени выпадает на долю такого писателя, как я, дает подобным людям смелость присваивать себе даже его основные мысли, не называя его имени.
Еще далее, чем г. Брандис, зашел в этом направлении другой медик, который не удовольствовался заимствованием одних только мыслей, а уж заодно воспользовался и словами. Именно, господин Антон Розас, ординарный профессор Венского университета, в первом томе своего «Руководства к офтальмологии», который появился в 1830 г., весь свой § 507 дословно списал из моего сочинения «О зрении и цветах», которое появилось в 1816 году, – именно со страниц 14–16, не упомянув при этом ни слова обо мне и даже ничем не отметив, что здесь говорит не он, а другое лицо. Уже одним этим достаточно объясняется, почему он в своих перечнях 21 сочинения о цветах и 40 сочинений по физиологии глаза, приводимых в § 542 и § 567, остерегся назвать мое сочинение; и это было с его стороны тем благоразумнее, что и сверх указанных выше страниц он присвоил себе из него еще много другого – без упоминания моего имени. Напр., в § 526 все, что он приписывает разным «говорят», относится только ко мне. Весь его § 527 только что не совершенно дословно списан с 59 и 60 страниц моего сочинения. То, что в § 535 он без дальних слов приводит как «очевидное» – именно, что желтый цвет представляет собою 3⁄4, а фиолетовый – 1⁄4 деятельности глаза, – никогда ни одному человеку не было «очевидно», пока я этого «очевидным» не сделал, и даже вплоть до нынешнего дня это остается мало кому известною и еще меньше кем признаваемой истиною; и для того, чтобы ей без дальних слов именоваться «очевидною», нужно еще многое – между прочим, и то, чтобы меня похоронили; до тех же пор необходимо отсрочить даже и серьезное исследование этого вопроса, так как подобное исследование, действительно, легко может сделать очевидным, что настоящая разница между ньютоновской теорией цветов и моею заключается в том, что его теория ложна, а моя истинна, а такой результат для моих современников мог бы показаться не иначе как обидой; чего ради по мудрому и древнему обычаю серьезное исследование вопроса откладывается еще на немногие остающиеся годы живота моего. Господин Розас не знал этой политики, но, подобно копенгагенскому академику Брандису, счел возможным, коль скоро о вещи нигде не упоминается, объявить ее своей добычей – de bonne prise28. Вы видите, что севернонемецкая и южнонемецкая честность еще недостаточно столковались между собою. Далее, все содержание § 538, 539, 540 в книге г. Розаса целиком заимствовано из моего § 13 и большею частью даже буквально с него списано. Только один раз г. Розас счел себя вынужденным процитировать мое сочинение – именно в § 531, где для факта ему нужен поручитель. Забавен прием, к которому он прибегает для того, чтобы привести даже те дроби, какими я, согласно своей теории, выражаю все цвета. Присвоить себе последние совершенно sans façon29 – это, очевидно, показалось ему все-таки не совсем удобным; поэтому он и говорит на стр. 308: «Если бы мы захотели выразить упомянутое отношение цветов к белому в числах и приняли белый цвет за 1, то можно было бы между прочим (как то сделал уже Шопенгауэр) установить следующую пропорцию: желтый цвет = 3⁄4, оранжевый = 2⁄3, красный = 1⁄2, зеленый = 1⁄2, синий = 1⁄3, фиолетовый = 1⁄4, черный = 0». Хотел бы я знать, каким образом можно это сделать «между прочим», не додумавшись предварительно до всей моей физиологической теории цветов, к которой исключительно относятся приведенные цифры и помимо которой они – просто неименованные числа безо всякого значения? Далее, каким образом возможно это сделать, если, подобно господину Розасу, признавать ньютоновскую теорию цветов, с которой эти числа находятся в совершенном противоречии? Наконец, чем объяснить, что протекли тысячелетия, как люди думают и пишут, а применить как раз эти дроби для выражения цветов никому еще и в голову не приходило, кроме нас двоих – меня да господина Розаса? Ведь то, что г. Розас так же точно применил бы эти самые дроби, даже если бы я случайно «уже» не сделал этого 14 лет назад и совершенно излишним образом не предупредил его, – ведь это явствует из его приведенных слов, которые показывают, что все дело здесь в одном «хотении». Между тем именно в этих дробях заключается тайна цветов, и единственно посредством них возможно правильное заключение о сущности цветов и различии их друг от друга. Впрочем, я был бы еще рад, если бы плагиат являлся величайшим из бесчестий, пятнающих немецкую литературу; но нет, их есть еще много других, гораздо более глубоких и пагубных, к которым плагиат относится так, как грошовое карманное воровство (англ. pickpocketing) – к уголовным преступлениям. Я разумею царящий в литературе низкий и презренный дух, в силу которого личный интерес служит путеводной звездою там, где ею должна бы быть истина, и под личиною мысли говорит умысел. Гнуть спину и глядеть в глаза сильным мира сего – вошло в повседневный обиход; Тартюфиады разыгрываются без грима, и даже Капуцинады раздаются в стенах, посвященных науке. Великое слово «просвещение» сделалось чем-то вроде брани, величайшие мужи прошлого столетия: Вольтер, Руссо, Кант, Юм – подвергаются всяческому поношению, они, эти герои, эта краса и благодетели человечества, слава которых распространена по обоим полушариям и если может еще от чего-нибудь возрасти, то разве от того, что во все времена и повсюду, где только выступают обскуранты, последние оказываются их злейшими врагами – и не без основания. Заключаются литературные союзы и братства ради совместной хулы и хвалы, и вот все дурное венчают лаврами, о нем трубят на весь мир, а все хорошее клеймят или, как выражается Гёте, «держат в секрете и ненарушимом молчании, и в этом роде инквизиционной цензуры немцы дошли до совершенства» (Tag- und Jahreshefte, J. 1821). Мотивы же и соображения, в силу которых все это делается, слишком низменны для того, чтобы я занялся их перечислением. Какая глубокая пропасть разделяет, однако, “Edinburgh’ Review”30, которое в интересах дела издают независимые gentlemen31 и которое с честью1 носит свой благородный, заимствованный у Публия Сира эпиграф: “Judex damnatur, cum nocens absolvitur”, и полные задних мыслей, осмотрительные, робкие, бесчестные литературные журналы немцев, эти издания, которые по большей части фабрикуются наемниками ради денег и должны бы иметь своим эпиграфом слова: “Accedas socius, laudes, lauderis ut absens”32. Теперь, по прошествии 21 года, я постигаю смысл того, что́ сказал мне Гете в 1814 году в Берке, где я застал его за книгою г-жи Сталь “De l’Allemagne”33. В разговоре об этой писательнице я выразил мнение, что она дает преувеличенное изображение честности немцев, вследствие чего может ввести иностранцев в заблуждение. Гете рассмеялся и сказал: «Да, в самом деле, они вообразят, что можно не привязывать чемодана к экипажу, и чемодан у них отрежут». Но потом он прибавил уже серьезно: «А кто хочет узнать немецкую бесчестность во всем ее объеме, тот пусть ознакомится с немецкой литературой». Вот уж правда так правда! Но что особенно возмущает в бесчестной немецкой литературе, так это служение современности, в котором упражняются мнимые философы, действительные обскуранты. «Служение современности»! Выражение это, хоть я и составляю его по английскому образцу, не нуждается в объяснении, как и самый факт не нуждается в доказательстве: если кто-нибудь возымеет дерзость отрицать его, то этим самым он только даст вящее подтверждение моему тезису. Кант учил, что на человека надо смотреть только как на цель и ни в каком случае нельзя смотреть на него как на средство; что и на философию надо смотреть как на цель, а не как на средство, – этого он даже не считал нужным говорить. Служение современности в крайнем случае простительно во всяком одеянии: и в рясе, и в горностаях – но только не в трибонии, плаще философа; кто облачился в него, тот присягнул под знаменем истины, а где надо служить истине, там всякое другое соображение, с чем бы оно ни считалось, является постыдной изменой. Вот почему Сократ не уклонился от цикуты, а Бруно – от костра. А наших мнимых философов стоить поманить куском хлеба, и они сейчас же увильнут в сторону. Или они настолько близоруки, что не видят, как вот уже совсем, совсем близко, в рядах потомства, сидит история философии и неумолимо бронзовым стилем в недрогнувшей руке записывает в свою нетленную книгу несколько горьких строк осуждения? Или их это мало печалит? Оно, конечно, “après moi le déluge” в крайнем случае можно еще сказать; но “après moi le mépris”34 как-то нейдет с языка. Я думаю поэтому, что пред судом истории и потомства они поведут такую речь: «Ах, милое потомство и история философии! Вы очень ошибаетесь, если принимаете нас всерьез! Какие мы философы?! Боже нас упаси! Мы не более как профессора философии, мы – горе-философы, мы – чиновники; нельзя же в самом деле вызывать на действительный турнир театральных рыцарей в картонных латах». Конечно, судьи примут все это в соображение, вычеркнут из своей книги все эти имена и даруют им beneficium perpetui silentii35.
От этого отступления, в которое 18 лет назад вовлекло меня зрелище служения современности и тартюфианства – впрочем, тогда еще не достигших такого расцвета, как ныне, – я возвращаюсь к той части своего учения, которая была хоть и не самостоятельно продумана, но все-таки подтверждена г. Брандисом, для того чтобы сделать к ней несколько пояснений, к которым впоследствии я присоединю еще несколько других подтверждений, полученных ею со стороны физиологии.
Три допущения, которые Кант в своей трансцендентальной диалектике подверг разбору под именем идей разума и которые он на основании этого разбора устранил из теоретической философии, вплоть до совершенного этим великим человеком полного преобразования философии, постоянно мешали более глубокому проникновению в природу. Для предмета настоящего нашего исследования таким препятствием служила одна из так называемых идей разума – идея души, этого метафизического существа, в абсолютной простоте которого познание и воля навеки сочетались и сливались в неразрывное единство. Никакая философская физиология не могла возникнуть, покуда царила эта идея, тем более что одновременно с нею необходимо было допустить и коррелят ее, реально существующую и чисто пассивную материю, как вещество тела2. Вот почему эта идея разума, идея души, и была виновницей того, что в начале прошлого столетия знаменитый химик и физиолог Георг Эрнст Шталь не напал на истину, к которой он подошел было крайне близко и которой совсем достиг бы, если бы мог поставить на место “anima rationalis”36 голую, еще бессознательную волю, которая одна метафизична. Но под влиянием названной идеи он не мог учить ничему иному, кроме того, что простая, разумная душа и есть то начало, которое создает себе тело и направляет и исполняет в нем все внутренние органические функции, причем, однако – хотя познание и есть основное назначение и как бы субстанция ее существа, – ничего об этом не знает и не ведает. Такое учение скрывало в себе некоторую бессмыслицу, что́ и делало его несостоятельным. Оно было вытеснено учением Галлера о раздражительности и чувствительности, которые, хотя понятие о них и было найдено чисто эмпирическим путем, все-таки представляли собою две “qualitates occultae”37, где всякое объяснение кончается. Движение сердца и внутренностей Галлер приписал раздражительности. Anima же rationalis, как ни в чем не бывало, не потерпела урона в своей чести и достоинстве и осталась чуждой гостьей в доме тела3. «Истина запрятана глубоко в колодце», – сказал Демокрит38, и люди целые тысячелетия со вздохом повторяли то же самое: но что же в этом удивительного, если ее бьют по пальцам, как только она вздумает выйти оттуда?
Основной чертой моего учения, противополагающей его всем прежним, является полное отделение воли от познания, которые все предшествовавшие мне философы считали нераздельными; они признавали даже, что воля обусловлена познанием, которое является де основным элементом нашего духовного существа и, мало того, служит просто-напросто функцией познания. Мое же разделение, мною сделанное разложение столь долго пребывавшего в неделимости «я», или души, на две разнородные составные части, является для философии тем же, чем было для химии разложение воды, – хоть и призна́ют это лишь потом. Вечный и неразрушимый элемент в человеке, то, что составляет его жизненное начало, это у меня не душа, а, выражаясь химически, радикал души, что́ и есть воля. Так называемая душа – уже нечто составное: она являет собою соединение воли с νους, интеллектом. Этот интеллект – нечто второстепенное, posterius организма и, как простая мозговая функция, им обусловливается. Воля, напротив, первична, она – prius организма, и последний обусловливается ею. Ибо воля – та внутренняя сущность, которая только в представлении (указанной простой функции мозга) является в виде нашего органического тела; только в силу форм познания (или мозговых функций), только в представлении, тело каждого человека дано ему, как нечто протяженное, расчлененное и органическое, а не таково оно вне этих форм, непосредственно в самосознании. Подобно тому как движения тела – это только отражающиеся в представлении отдельные акты воли, так и субстрат этих движений, форма тела, это образ воли в ее целом; и потому во всех органических функциях тела, точно также как и во внешних его движениях, agens – воля. Истинная физиология, достигнув своей вершины, показывает, что духовное начало в человеке (познание) является продуктом его физического начала, и это лучше всех сделал Кабанис; но истинная метафизика учит нас, что это физическое начало само не что иное, как продукт, или, скорее, проявление какого-то начала духовного (воли); она учит даже, что самая материя обусловлена представлением, в котором она только и существует. Наглядное созерцание и мышление все более и более станут объяснять из организма, воление же – никогда; наоборот, из воли будут объяснять организм, как я доказываю это под следующей рубрикою. Итак, я устанавливаю, во‐первых, волю как вещь в себе, как начало, совершенно первичное; во‐вторых, ее простую видимость, объективацию – тело, и, в‐третьих – познание, как простую функцию одной из частей этого тела. Эта часть сама – объективированное (обратившееся в представление) желание знать, так как воля для своих целей нуждается в познании. Однако эта функция в свою очередь обусловливает весь мир как представление, а значит, и самое тело, поскольку оно является наглядным объектом; она обусловливает даже материю вообще, которая существует ведь только в представлении. Ибо объективный мир, без субъекта, в сознании которого он существует, является по зрелом обсуждении чем-то положительно немыслимым. Познание и материя (субъект и объект) существуют, следовательно, друг для друга только относительно и вместе составляют явление. Таким образом, благодаря коренной перемене точек зрения, которую я произвел, дело обстоит ныне так, как оно никогда не обстояло раньше.
Когда воля, обращенная на какой-нибудь познаваемый предмет, пробивается вовне, действует вовне, когда она, следовательно, проходит чрез среду познания, тогда все узнают в действующем здесь начале волю и отсюда получает она свое имя. Но не в меньшей степени проявляет она свою деятельность и в тех внутренних процессах, которые предшествуют, как условие, упомянутым внешним движениям и которые создают и поддерживают органическую жизнь и ее субстрат; кровообращение, выделение и пищеварение, все это тоже дело воли. Но именно потому, что волю признавали только там, где она, покидая индивидуум, из которого исходит, обращается на внешний мир, который как раз для этого и становится предметом созерцания, то познавание и сочли существенным условием воли, ее единственным элементом и даже материалом, из которого она будто бы состоит, и тем совершили величайшее из всех бывших когда-нибудь ὑστερον προτερον39.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+5
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе