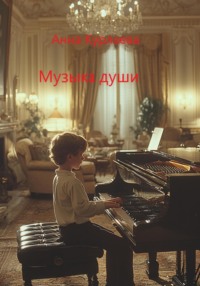Читать книгу: «Музыка души», страница 8
Озадаченный и смущенный страстной убедительностью слов Николая Григорьевича, Петр Ильич решил поговорить с невестой. А вдруг прав Рубинштейн? Но на предложение бросить сцену и жить в России, возмутилась уже Дезире:
– Сцена – моя жизнь, и никогда я ее не покину!
Они договорились встретиться летом в имении Дезире близ Парижа, когда закончатся ее гастроли в этом сезоне. Пока же она уехала петь в Варшаву, а мучимый сомнениями Петр Ильич написал отцу и сестре, прося совета. Ответы от них озадачили еще больше, поскольку были совершенно противоположны по своему настроению и пожеланиям.
Отец не видел никаких препятствий к браку и уверял, что если они искренно любят друг друга, то ни он не станет заставлять ее отказываться от сцены, ни она не помешает его творчеству и будущности, а напротив они будут служить поддержкой и вдохновением друг для друга. Илья Петрович желал сыну всяческого счастья с избранницей и ставил в пример свою собственную жизнь с его матерью, которую пылко любил до самого конца.
Зато письмо от Александры пронизывало беспокойство. Она тоже желала любимому брату счастья, но была далеко не так уверена в том, что Дезире – правильный для него выбор. И именно то, что она артистка, больше всего беспокоило сестру. Мать большого семейства, она по опыту знала, как дети занимают всё свободное время, и не представляла, как может знаменитая певица сочетать с гастролями обязанности жены и матери. Саша и желала этого брака, поскольку желал его брат, но и боялась его. Если письмо отца ободрило и вселило уверенность, то письмо сестры только еще больше запутало Петра Ильича.
Оставалось утешать себя тем, что до лета, когда он должен был встретиться с невестой для окончательного решения, у них еще есть время испытать себя, проверить силу чувств. Что, кстати, советовал и папаша.
Модест и Анатолий вдруг дружно обеспокоились тем, что, женившись, старший брат перестанет их любить, как прежде. Это было бы даже смешно, если бы не предельно серьезный тон их писем. Надо же было такое выдумать! Петр Ильич постарался их уверить, что никто и никогда не сможет заставить его перестать любить своих братьев. Хотелось встретиться с ними, а не писать только, но в тот момент такой возможности у него не было.
Сомнения разрешились самым неожиданным образом: из Варшавы пришло известие, что Дезире Арто вышла замуж за баритона их труппы Падиллу. Николай Григорьевич взял на себя обязанность сообщить новость, сопроводив ее назидательным комментарием:
– Ну, не прав ли я был, когда говорил тебе, что не ты нужен ей в мужья? Вот ей настоящая партия, а ты нам, пойми, нам, России нужен, а не в прислужники знаменитой иностранки!
В шоке смотрел Петр Ильич на Рубинштейна, почти не веря услышанному. Почему? А он-то считал, что действительно понравился ей. И если она передумала, почему сама не сообщила об этом? Почему он узнал о ее замужестве через третьих людей? Ранено было не только сердце, но и самолюбие. А самым обидным был выбор Дезире: как она могла выйти замуж за Падиллу, над которым постоянно насмехалась и ни в грош его не ставила?
Страстная безжалостная речь Николая Григорьевича прошла мимо сознания Петра Ильича. Может, Рубинштейн и прав был, но в данный момент он был не способен почувствовать его правоту. К счастью, постановка оперы отнимала массу сил и времени, и он мог погрузиться в работу, заглушив ею обиду и боль.
А с «Воеводой» дела обстояли далеко не прекрасно. Репетиции возобновились в январе, после отъезда итальянской труппы. Хотя певцы относились к опере с энтузиазмом, шла она тяжело, что безмерно огорчало автора. Некоторые места оказались слишком трудны для разучивания, пришлось делать купюры. Удручала постановка в целом: случайные костюмы, собранные из разных спектаклей, и совершенно не подходящие к месту действия декорации. Старания дирижера и артистов разбивались о царившее в Москве равнодушие к русской опере.
Во время разучивания Петр Ильич всё больше замечал недостатки своего сочинения, которые исправлять было уже поздно. Артисты не справлялись со многими сложными местами, пели совсем не так, как хотелось автору. Но, будучи страшно застенчив, он не решался их поправлять и требовать большего старания. А когда из-за неспособности певцов воспроизвести трудный квартет – венец первого акта – его пришлось выбросить, и весь акт был испорчен, Петр Ильич потерял всякую надежду добиться хорошего исполнения и только молча страдал.
Пару раз на репетиции приходил Николай Григорьевич. Он хотел помочь, делал замечания певцам, но видя немую покорность автора, рассердился:
– Вот чего ты молчишь?! Они же изуродуют твою оперу. С исполнителями, дорогой мой, надо быть построже: иначе они совсем от рук отобьются.
Петр Ильич только обреченно отмахнулся – он давно смирился с мыслью, что поставить «Воеводу» так, как ему хотелось, не получится. Вспыльчивый Николай Григорьевич окончательно потерял терпение и перестал ходить на репетиции, оставив коллегу страдать в одиночестве.
Премьера прошла не лучше, чем репетиции. У исполнителя главной роли Финокки нарывал палец, из-за чего он не спал несколько ночей, а потому в течение вечера плохо себя чувствовал и в первом действии чуть не упал без сознания. Бенефициантке Меньшиковой приходилось поддерживать его на руках, как ребенка. Не в силах смотреть на этот ужас, Петр Ильич сидел за кулисами зажмурившись, с минуты на минуту ожидая свиста и шиканья разочарованной публики.
Вопреки всему музыка «Воеводы» понравилась. На премьере композитора вызывали пятнадцать раз, преподнесли ему лавровый венок. Выходя на сцену, Петр Ильич, донельзя смущенный, неловко кланялся и спешил скрыться за кулисы. Но артисты упорно не отпускали автора, заставляя его кланяться вместе с ними. Аплодисменты оглушали. Вот уж никак он не думал, что так тепло встретят это его детище, доставившее столько мучений. Друзья ликовали, Николай Григорьевич долго восторженно тряс ему руку. На следующий день на него посыпались поздравительные письма.
А затем начались нападки прессы. Уже немного привыкший к суровости критиков, Петр Ильич, может, и не стал бы сильно огорчаться – хотя, конечно, было обидно, – если бы один из самых неодобрительных отзывов не поступил с той стороны, откуда он совсем не ожидал. Пару дней спустя после премьеры, открыв «Современную летопись», Петр Ильич наткнулся на разгромную статью. То, что автор ругал оперу, было бы еще полбеды – он и сам всё больше разочаровывался в своем творении – но в статье в презрительном тоне говорилось о его таланте вообще:
«Г. Чайковский – композитор очень привлекательный в своей сфере, но, сколько до сих пор видно, не способный выходить из нее. Мягкие, прекрасно умеренные, благородно изящные излияния везде, где были возможны в «Воеводе» вышли весьма удачно. Напротив того, энергические и страстные места крайне натянуты и некрасивы: напускная храбрость, которая слышится в громовой оркестровке, резко противоречит мелкому бессилию содержания».
Еще большее потрясение ждало Петра Ильича, когда он увидел подпись: Герман Ларош. От близкого дорого друга такого вероломства он не ожидал, и несколько мгновений просто не мог поверить глазам. Не Герман ли не столь давно уверял его в силе и величии его таланта? Не Герман ли всячески поддерживал на избранном пути? Так что же случилось? Пусть опера вышла нехороша, но ведь он обругал, по сути, всё его творчество в целом, и композиторские способности как таковые, обвинял его в односторонности и неумении выразить драматизм. Да еще этот упрек в отсутствии русского характера в его музыке! Это уж чересчур!
Обиженный и оскорбленный до глубины души Петр Ильич немедленно высказал все другу. Тот невозмутимо ответил:
– Я написал то, что думаю. Неужели ты хотел бы слышать от меня только успокоительную лесть? Друзья для того и нужны, чтобы говорить правду.
– Правду?!
Да что такое случилось с Германом? Смотрит холодно и равнодушно, будто и не старый друг, а маститый критик, снисходительно выслушивающий упреки неопытного композитора. Так и не придумав, что сказать, Петр Ильич ушел, хлопнув дверью, и с тех пор стал избегать встреч с Германом и перестал с ним разговаривать.
Особенно же больно было от того, что другие критики, ругая постановку, о музыке отозвались доброжелательно, называя ее хоть и недостаточно зрелой, но несомненно талантливой.
Склонный к порывистым реакциям Петр Ильич, всё сильнее разочаровывавшийся в своей опере, после пятого представления забрал партитуру из Большого театра. Больше «Воевода» в его репертуаре не появлялся.
Однако первая неудача не охладила пыл и желание написать достойную оперу. Петр Ильич тут же взялся за новый сюжет. На этот раз он не захотел связываться с либреттистом из опасения задержек, какие были с «Воеводой», и начал искать готовое либретто. Искомое он обнаружил среди сочинений графа Соллогуба: либретто по поэме Жуковского «Ундина». И он немедленно принялся за сочинение.
Вскоре после премьеры «Воеводы» состоялось и исполнение «Фатума», написанного еще в декабре. Публика приняла новое произведение с энтузиазмом, но «Современная летопись» вновь обругала. Не понравилась симфоническая поэма и в Петербурге. Балакирев написал, что вещь очень слаба. Но дружелюбный тон его письма, полный веры в талант Петра Ильича, смягчал приговор. Кое обстоятельство вновь возбудило обиду на Лароша. Вот Милий Алексеевич – практически чужой человек – смог поругать так, что это было совершенно не обидно, хоть и огорчительно, а главное справедливо и по существу. А Герман? Впрочем, не стоило и думать о бывшем друге.
Признав правоту Балакирева, Петр Ильич сжег партитуру «Фатума».
***
Весной Анатолий окончил Училище правоведения. Модест, как отстающий в учебе, оставался там еще на год. Все помыслы Петра Ильича устремились на подыскание хорошего места для брата. Хотелось устроить его в Москве, поближе к себе, но никак не удавалось.
Уроки в консерватории, лихорадочная работа над новой оперой – к апрелю она уже была сочинена, – беспокойство об Анатолии привели к новому нервному срыву. Здоровье расстроилось настолько, что Петр Ильич ослабевал до полного изнеможения. Доктор прописал ему абсолютный покой, и на лето, впервые с тех пор, как переселился в Москву, он поехал к Александре.
Семейство сестры всё разрасталось – у нее было уже четыре очаровательные дочки. Бесконечно любивший детей Петр Ильич предвкушал радости общения с маленькими племянницами. К тому же, в том году к Саше собралась вся семья, за исключением Николая, и было таким счастьем увидеть всех разом. Отец, братья, сестра для Петра Ильича стояли превыше всего, и он ужасно скучал по ним в разлуке.
Ипполит привез с собой невесту – Софью Петровну Никонову. Сонечка, как ее тут же стали все называть – невысокая, обаятельная девушка, – семье жениха сразу понравилась, ее приняли как родную сестру. Там же в Каменке и отпраздновали свадьбу.
К этому торжественному дню долго готовились: растирали порох и бертолетову соль для фейерверка, мастерили гильзы и клеили фонари для иллюминации. Фейерверк готовили дети под руководством старого солдата, служившего при конюшнях Давыдовых, но и Петр Ильич с удовольствием принимал участие во всеобщей суматохе. По инициативе Александры, которая давно привыкла относиться к братьям – даже к старшим – как к собственным детям, и стараниями всей семьи свадьба Ипполита должна была стать грандиозным праздником.
Окруженный любящими родственниками Петр Ильич почувствовал себя ребенком. Вспомнился Алапаевск и изобретаемые им для сестер забавы. В свободное от подготовки время он принялся придумывать развлечения для каменского общества. Для начала выдумал спорт прыгания через канавы. Канавы, конечно же, выбирались пошире – чем шире, тем больше чести прыгуну. Порой кто-нибудь, не рассчитав сил, не допрыгивал до противоположного берега и плюхался в воду, что нисколько прыгуна не огорчало и только служило поводом для всеобщего веселья. В забаву втянулись все, даже сорокалетний собственник Каменки – Николай Васильевич.
Во время поездок в лес Петр Ильич изобрел еще одно развлечение: воздвигнуть самый большой и эффектно горящий костер. Все из кожи вон лезли, стараясь перещеголять друг друга, выстраивая из сухих веток целые дворцы, которые потом полыхали на фоне закатного неба. Победитель удостаивался чести весь вечер носить переходящую красную ленту. Определить выигравшего было довольно сложно, и каждый раз по этому поводу возникали бурные споры, в которых Петр Ильич отстаивал свой костер с запальчивостью ребенка, точно победа в этих соревнованиях была самым важным делом в его жизни. А добившись успеха, торжествовал так, как, наверное, не торжествовал на премьере своей оперы.
В день свадьбы в большом доме с утра царила суматоха: все бегали, делали последние приготовления, собирали жениха и невесту. Петр Ильич, впервые исполнявший роль шафера, страшно волновался. Но все прошло гладко – венчание в небольшой белой церкви получилось каким-то домашним, семейным. А уж последующее торжественное застолье стало не только веселым, но и по-настоящему теплым.
В качестве свадебного подарка подготовили спектакль «Спящая красавица», для которого Петр Ильич сочинил музыкальное сопровождение. Шестилетняя Таня играла принца, пятилетняя Вера – принцессу Аврору, а Аню, которая была слишком мала для серьезной роли, одели в костюм Купидона и посадили у изголовья ложа Авроры охранять ее сон. От спектакля, а особенно от игры маленьких артисток в восторге были все.
Беззаботная каменская жизнь пошла Петру Ильичу на пользу – в августе он вернулся в Москву поправившимся, отдохнувшим и с готовой партитурой «Ундины».
Его ждала здесь новая смена квартиры: они с Николаем Григорьевичем переехали на Знаменку. Это жилье было гораздо просторнее и удобнее предыдущего. И всё же Петр Ильич всячески пытался подвести Рубинштейна к тому, чтобы жить отдельно, но так и не смог добиться вожделенной цели. Они только пришли к соглашению, что он будет сам платить за свою комнату наверху и наймет своего лакея. Хотелось уже начать жить самостоятельно и не зависеть от деспотичного соседа.
В августе в Москве гостил Балакирев, который непременно каждый день желал проводить с Петром Ильичом, что последнего немало раздражало. Он испытывал симпатию к Милию Алексеевичу, считал его хорошим человеком, но сойтись с ним душа в душу не мог, и оттого его общество было ему тягостно и скучно. Особенно же не нравилась узость его музыкальных воззрений и резкость тона. Своих пристрастий Балакирев держался с поразительным упорством и не терпел чужого мнения. Именно это делало его невыносимым собеседником для Петра Ильича, слишком деликатного, чтобы переубеждать, и слишком независимого, чтобы соглашаться.
Зато во время одной из прогулок Балакирев предложил написать увертюру на сюжет шекспировской «Ромео и Джульетты». Тема Петра Ильича увлекла, и сразу по отъезде Милия Алексеевича он приступил к новому сочинению.
С тоской и неудовольствием воспринял он возобновление уроков в сентябре. Посредственные ученики утомляли с каждым годом всё больше. Из всей массы можно было выделить два, от силы три по-настоящему сильных таланта. Конечно, такие вундеркинды, как Сережа Танеев, становились бальзамом на душу профессора. Но их было так мало! Консерватория начала вызывать отвращение, отнимая невероятное количество времени, которое можно было бы посвятить сочинению. Но что делать? Приходилось зарабатывать себе на хлеб насущный.
Балакирев с интересом следил за сочинением вдохновленной им увертюры, высказывал пожелания и советы. Между двумя композиторами завязалась оживленная переписка. Угодить Милию Алексеевичу оказалось не так-то просто: он неизменно находил недостатки, требовал переделок, но и переделки не удовлетворяли его полностью. Правда, в одном из писем он соизволил-таки заметить: «Это первое произведение ваше, которое в сумме красот своих притягивает до того, что можно решительно постоять за эту вещь, как за вещь хорошую».
Одновременно Петр Ильич занимался аранжировкой в четыре руки увертюры Рубинштейна «Иоанн Грозный», аранжировал народные песни, готовил лекции для своих учеников. Времени не оставалось даже на театр. Впрочем, хотя в Москве и были неплохие певицы, с Дезире сравниться не мог никто.
Беспокоила и судьба «Ундины»: из Петербурга о ней не было ни слуху ни духу, и Петр Ильич начал сомневаться, что ее вообще собираются ставить.
***
В ноябре Дезире Арто вернулась с гастролями в Москву. Вопреки причиненным ему страданиям, Петра Ильича влекла к ней неизъяснимая симпатия до такой степени, что он начал ждать ее возвращения с лихорадочным нетерпением, едва узнав о приезде итальянцев. Он не мог ничем спокойно заниматься, всё время думая о том, как встретится с ней.
Вместе с Кашкиным Петр Ильич отправился в Большой театр на первое же выступление Дезире. От волнения его едва не трясло – неужели он вновь увидит эту женщину, к которой вопреки всему продолжал испытывать теплое чувство? Едва она появилась на сцене, он закрылся биноклем от своего спутника, сделав вид, что хочет получше рассмотреть, на самом же деле пытаясь скрыть слезы, которые не смог удержать, несмотря на титанические усилия. Дезире была хороша как никогда, ей бурно аплодировали после каждой сцены, а Петр Ильич так и просидел весь спектакль, не шевелясь и не отнимая бинокля от глаз.
Их встреча была неизбежна и произошла на одном из музыкальных вечеров. С замирающим сердцем Петр Ильич издалека смотрел на Дезире, не решаясь приблизиться. Заметив его, она подошла сама и с великолепным равнодушием произнесла:
– Здравствуйте, Петр Ильич, рада вас видеть, – и протянула руку для поцелуя.
Пораженный до глубины души – как она может вести себя так, будто ничего не было, будто они чужие друг другу? – он машинально поцеловал протянутую руку и поспешил отойти. Она так легко вычеркнула его из своей жизни, значит, сможет и он. Желанная осталась в прошлом. Может, оно и к лучшему.
Глава 9. Первые неудачи, первые успехи
Петр Ильич попытался добиться для Анатолия места в Москве, чтобы брат жил рядом с ним, но хлопоты ничего не дали. Пришлось отпустить младшего в самостоятельное плавание. Впрочем, ему удалось получить назначение судебным следователем в Киев – далеко от Петра Ильича, зато близко к Александре. За службу Толя принялся усердно и со всей ответственностью. А вот Модест без конца жаловался на судьбу и на то, что никто его бедного не любит. Его сетования были слишком напускными, чтобы всерьез им поверить, но все равно расстраивали, а временами и сердили.
По-прежнему ничего не было слышно об «Ундине». Отчаявшись дождаться хоть каких-то известий из Петербурга, Петр Ильич написал директору Императорских театров Гедеонову, прося сообщить о судьбе оперы. Столица ответила молчанием. Еще более обеспокоенный Петр Ильич попросил знакомого певца Сетова разузнать о деле, и тот сообщил, что в петербургских театрах никто и слыхом не слыхивал, что партитура «Ундины» вот уже три месяца лежит в архивах. А позже добавил, что в этот сезон она точно не пойдет, поскольку едва хватает времени поставить две оперы, ранее стоявшие в репертуаре.
Это вызвало раздражение. Не хотят ставить оперу – так сказали бы прямо! Зачем столько времени автору нервы трепать? Да еще эта безалаберность ужасающая, когда партитура давно в театре, а никто об этом не знает.
История с «Ундиной» на некоторое время отбила всякую охоту сочинять что-либо еще. К тому же за оперу Петр Ильич рассчитывал получить поспектакльную плату и не экономил, оставшись совсем без денег. До такой степени, что приходилось занимать у Агафона – слуги Николая Григорьевича. Это было унизительно само по себе, но хуже всего то, что теперь Петр Ильич не мог послать денег Модесту на зимние праздники, как обещал. Было невыносимо стыдно, и он попытался обратить все в шутку – чувство юмора всегда выручало его в таких случаях:
«Любезный брат Модя! Полагаю, милый брат, что ты не сердишься за мое долгое молчание и веришь в мое родственное расположение, которое я тебе не раз оказывал. Вспомни, сколько раз я тебе давал денег и вообще сколько благодеяний тебе оказал! Вообще, милый брат, я тебя очень люблю; и хоть я нещадно тебя надул, обещав тебе прислать денег на праздники и не исполнив этого, – но все-таки я твой благодетель и ты не должен знать, чем меня отблагодарить».
Нежелание сочинять, вызванное несчастной судьбой «Ундины» продлилось недолго: уже пару недель спустя Петр Ильич начал искать сюжет для новой оперы. Сергей Александрович Рачинский, профессор ботаники в Университете и большой меломан предложил взять «Мандрагору» на сюжет старинной рыцарской легенды. Петр Ильич увлекся ее поэтичностью, успел написать «Хор насекомых», когда на беду решил поделиться планами с друзьями. Все как один принялись уверять, что опера получится не сценична и не стоит писать на подобный сюжет. Хуже всего вышел разговор с Кашкиным. Нет, поначалу отрывок, сыгранный ему, Николай Дмитриевич одобрил. Но, когда он увидел сценарий предполагаемой оперы, его мнение резко изменилось.
– Сюжет, конечно, весьма поэтичен, – осторожно начал он. – Но… Из таких фантастических историй получаются отличные балеты. Опера же… Для нее нужно что-то более реалистичное.
Петр Ильич принялся с жаром защищаться:
– Ты не прав! Представь, какие чудные арии можно написать для дуэта влюбленных, а потом для несчастной отчаявшейся Мандрагоры!
– Возможно. Но на сцене, к примеру, эпизод с вырыванием корня мандрагоры и превращением его в девушку будет выглядеть комично. И весь драматизм музыки тут не поможет.
Спор продолжался долго, Кашкин говорил так убежденно и приводил такие разумные доводы, что Петр Ильич начал мало-помалу соглашаться с ними. И от этого стало обидно и тоскливо – ведь он совсем видел в воображении готовую оперу, музыка уже звучала в душе.
– Очень хорошо, Николай Дмитриевич, – почти со слезами произнес он, – ты своего добился. Я не стану писать эту оперу. Но знаешь, я так этим огорчен, что впредь больше никогда не буду сообщать тебе своих намерений и никогда ничего не покажу.
Кашкин при виде того, как расстроился друг, сам огорчился успешностью своих доказательств. Но поздно. Петр Ильич забросил работу, кроме хора, больше ничего не написав.
Тем временем из Петербурга сообщили, что дирекция театров забраковала «Ундину». Причинами послужили якобы ультрасовременное направление музыки, небрежная инструментовка, отсутствие мелодичности. До сих пор остававшаяся надежда увидеть «Ундину» на сцене хотя бы в следующем сезоне, рассыпалась в прах. Горькое разочарование и обида на несправедливость дирекции вызвали приступ меланхолии, к счастью, непродолжительный. Петр Ильич смирился с мыслью, что его обманули, успокоился и принялся за новую оперу.
«Опричник» по трагедии Лажечникова продвигался невероятно медленно и с огромным трудом.
***
Первое исполнение «Ромео и Джульетты» состоялась при неблагоприятных для увертюры обстоятельствах. Совсем недавно рассматривалось дело Рубинштейна, на которого подала в суд ученица Щербальская. Вспыльчивый Николай Григорьевич однажды во время урока крикнул ей:
– Ступайте вон!
И та, оскорбившись, развернула целую компанию, о которой толковала вся Москва. Мировой съезд приговорил Рубинштейна к двадцати пяти рублям штрафа. Однако профессора консерватории возмутились и этим малым наказанием, считая его незаслуженным. Адвокат должен был апеллировать, и в случае, если суд не отменит свой приговор, вся профессура Московской консерватории решила демонстративно подать в отставку.
Как ни странно, большинство москвичей встало на сторону Щербальской. В одной газете даже появилась ехидная заметка, предлагавшая поклонникам Рубинштейна собрать ему двадцать пять рублей, дабы избавить его от необходимости отбывать заключение. Эта история вызвала негодование в музыкальном мире, и концерт четвертого марта превратился в настоящую демонстрацию в поддержку Николая Григорьевича. Начиная с его первого выхода на сцену и до окончания концерта ему беспрестанно аплодировали. Тут же сочинили для него адрес, под которым в одно мгновение собралось несколько сот подписей. В общем, о самом концерте и о музыке не думал никто.
Петр Ильич, надеявшийся на успех своего, как он считал, лучшего сочинения, был глубоко разочарован. Он горячо сочувствовал Николаю Григорьевичу, но его сильно угнетала и раздражала сложившаяся ситуация. Ладно еще публика: в конце концов, они всего лишь хотели поддержать любимого всеми Рубинштейна. Но друзья! Когда после концерта они ужинали у Гурина, ни один из них даже не заикнулся об увертюре! Вот что обижало больше всего. А ведь автору особенно хочется получить отзывы на свое произведение, когда оно исполняется впервые. Весь вечер Петр Ильич был угрюм и молчалив. Меланхоличное в последнее время настроение стало совсем мрачным.
Беспокойство за Модеста, окончившего в марте училище и отправившегося служить в Симбирск, тоже радости не добавляло. От него пришло несколько писем, из которых невозможно было понять в каком он состоянии: он то радовался, то тосковал, то жаловался на безденежье и несчастье в любви. При этом о службе не заботился совсем – все его радости и горести зависели исключительно от бурной светской жизни. Насколько Петр Ильич был спокоен за Толю, в уверенности, что тот все силы отдаст службе, добиваясь хорошего положения, настолько страшила его судьба Моди.
***
Уступив настойчивой просьбе своего больного чахоткой ученика Володи Шиловского, Петр Ильич отправился к нему за границу, в очередной раз расставшись с мечтой провести лето у сестры. А как хотелось погостить у нее! Временами появлялось желание участвовать в семейных делах, видеть вокруг себя детей. Но жениться самому мешал страх потерять привычный, столь необходимый для композиторской работы уклад. Сашина семья представлялась в этом отношении идеальным выходом: он мог пожить среди родных, пообщаться с детьми, которых любил, и при этом не был связан обязательствами и в любой момент мог уехать.
Выезжая за границу, Петр Ильич боялся застать Шиловского при смерти. Однако тот чувствовал себя гораздо лучше, хотя и был еще слаб. Пробывши в Париже два дня, они перебрались в небольшую швейцарскую деревню Соден. Деревня лежала у подножия горного хребта, не слишком высокого, зато покрытого густым сосновым лесом. Вокруг располагались прелестные замки, восхитившие Петра Ильича. К сожалению, присутствие множества больных чахоткой портило наслаждение природой. От вида этих несчастных на Петра Ильича напала такая страшная тоска, что первые дни он едва мог держать себя в руках. Но вскоре он успокоился, тоска улеглась, и он погрузился в заботы о Шиловском, жизнь которого висела на волоске.
В свободное от процедур время они вместе бродили по живописным окрестностям – доктор советовал пациенту побольше дышать горным воздухом. Особенно впечатлил Петра Ильича замок Кенигштейн, от которого остались лишь живописные развалины, среди которых возвышалась одинокая башня. Они с Володей поднимались на нее, чтобы посмотреть на открывавшийся сверху вид. Внизу расстилались широкие просторы полей и небольших холмов, в ложбинах ютились деревеньки с белыми домиками, на горизонте их окаймляли горы.
Величественная красота местной природы вдохновляла, и по утрам, когда Володя был у врачей, Петр Ильич в одиночестве удалялся в местечко под названием Драй Линден и там сочинял.
Однако спокойно отдохнуть на курорте не пришлось. Между Францией и Пруссией началась война, и люди из Содена спасались в Швейцарию. Наплыв путешественников был так велик, что многие не находили места в поездах и отелях. Вместе с пассажирами везли войска к французской границе, отчего происходила невероятная кутерьма и затруднения. Чтобы избежать ее, Петр Ильич с Володей поехали в Швейцарию окружной дорогой через Штутгарт. Но и этот путь оказался неудобным и беспокойным: невообразимая теснота в вагоне, проблемы с едой и питьем.
С неимоверным трудом добравшись до Швейцарии, они обосновались в Интерлакене. Природа этого местечка восхитила Петра Ильича еще больше, чем Соден. Городок расположился между двумя озерами – Тун и Бриенц, из-за чего и получил свое название17. Неописуемо красивое зрелище представляли собой огромные голубые озера в окружении гор, внизу покрытых лесами, а сверху – снежными шапками. Восторгам и удивлению Петра Ильича не было пределов. Целыми днями он гулял по окрестностям, нисколько не уставая. И все же его постоянно тянуло на родину.
***
Консерватория становилась все противнее, занятия утомляли до крайности, ученики вызывали раздражение, но иначе не на что было бы жить. Стремясь к свободе, Петр Ильич решил сделать хотя бы первый шаг к ней: съехать от Николая Григорьевича. Жизнь с ним на одной квартире сделалась невыносимой. Деспотичный характер Рубинштейна, его привычки, противоположные привычкам Петра Ильича, вызывали досаду, злость и, как следствие, невозможность спокойно работать.
И вот на тридцать втором году от роду ему удалось-таки начать самостоятельную жизнь. Он переехал в Гранатный переулок, где в пятиэтажном доме классического стиля снял квартирку из трех крохотных комнат, и с увлечением занялся ее обустройством. Радость почувствовать себя независимым, полновластным хозяином своего времени была поистине безграничной. Обставить квартиру как следует на свои скромные средства не получалось: большая оттоманка да несколько дешевеньких стульев стали единственными приобретениями. Зато впервые появилась собственная прислуга – молодой парень Михаил Софронов. Правда, у Михайлы была одна забавная особенность: он любил деревню и потому не принимал места, если на лето нельзя было уехать к себе, в Клинский уезд. Но в данный момент Петра Ильича это устраивало.
Дел по возвращении в Москву прибавилось: он взялся быть рецензентом в «Московских ведомостях». Герман Ларош, с которым он все-таки помирился, перебрался обратно в Петербург, а заменить его в журналистике должен был Губерт – человек болезненный да к тому же ленивый, и потому не исполняющий свою задачу как следует. Не желая оставить Москву без серьезного рецензента, что могло повредить всему музыкальному делу, Петр Ильич с Кашкиным решили заменить нерадивого товарища.
Писание статей оказалось в какой-то степени даже увлекательно, к тому же давало дополнительный заработок, но, увы, отнимало время, которого было и так-то не слишком много. С лихорадочной торопливостью Петр Ильич стремился любой свободный час посвятить сочинению и так утомлялся, что порой не оставалось сил написать пару строк родным.
Бесплатный фрагмент закончился.
Начислим
+6
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе