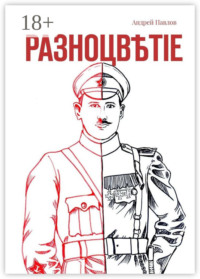Читать книгу: «Разноцвѣтіе», страница 3
…Этот ответственейший человек, в последующем став генерал-лейтенантом Императорской армии и командиром XX армейского корпуса, после событий октября 1917 года эмигрирует в Югославию, будет заведующим Военной библиотекой и архивом в Белграде, представителем Его Императорского Величества Кирилла Владимировича и заведующим делами Корпуса Императорской Армии и Флота, умрет в Белграде в начале 1929 года. А его брат, Владимир Афанасьевич, известный русский и советский геолог, географ, путешественник и писатель станет академиком Академии наук СССР, Героем Социалистического Труда, лауреатом двух Сталинских премий…
Я вышел из кабинета генерала Обручева немного озадаченным, но готовым к действиям.
* * *
Путь в Ташкент мне предстоял непростой и долгий. Изучив карту путей сообщений, я понял, что мне нужно будет проехать, помимо Москвы и Рязани, Пензу, Самару, Оренбург, Актюбинск, Казалинск и Арыс, прежде чем прибыть в Ташкент. А это – более 5000 верст и почти две недели в пути. Перспектива казалась утомительной, но приказ есть приказ, и я, собрав необходимые вещи, отправился в Туркестанскую губернию.
Прибыв утром на Николаевский вокзал, я был приятно удивлен, что для моей компании выделили отдельный четырехосный вагон, построенный на Верхневолжском заводе, с комфортабельными двухместными купе с отделкой полированным красным деревом с достаточно хорошей плавностью хода. Мне в помощники определили вольноопределяющихся: писарем – Алексея Солодова, по хозяйственным вопросам – Романа Максимова. Оба они ехали в соседнем купе, а еще в одном – поездная обслуга. В одном купе я организовал рабочий кабинет, а другие два использовались под хозяйственные и житейские нужды. Так что других пассажиров в нашем вагоне не было. В 12 пополудни мы тронулись в путь.
* * *
…Какая же ты огромная и прекрасная, Россия! Сколько в тебе красот и прелестей, сколько тревог и забот, сколько надежды и веры! Проезжая леса и реки, рощи и ручьи центральной твоей части, наблюдая за бескрайними степями Оренбуржья и желтыми песками Азии, диву даешься, сколько же сил нужно приложить, чтобы сохранить и сберечь тебя! Сколько отвадить злых и алчных чужеземцев удалось нашим предкам от тебя, а сколько еще предстоит!
Сколько крови в твоей земле, Россия, крови не только сынов твоих, но и врагов?! Тех, кто пытался овладеть тобой, и тех, кто защищал тебя от нападок во все века! В «Откровении Иоанна Богослова» (13:10) сказано: «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых». Помните об этом, недоброжелатели России! Александр Сергеевич Пушкин в своем стихотворении «Клеветникам России» писал:
«…Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов…»
И это только «в полях России». Но история знает, что русский солдат бил, бьет и будет бить врага до последней капли своей крови не только на родной земле, но и на его, до полного его уничтожения! Об этом писал в своем стихотворении «Переход через Рейн» Константин Николаевич Батюшков:
«…И час судьбы настал! Мы здесь, сыны снегов,
Под знаменем Москвы с свободой и с громами!..
Стеклись с морей, покрытых льдами,
От струй полуденных, от Каспия валов,
От волн Улеи и Байкала,
От Волги, Дона и Днепра,
От града нашего Петра,
С вершин Кавказа и Урала!..»
И ты платишь нам добром своим, землей, лесами, лугами, реками, морями, воздухом… Спасибо тебе, наша Россия!
* * *
Все свое время в пути я посвящал изучению материалов дела, путевым запискам, делавшихся мне как бы дневниками, подготовке и отправке на станциях докладов в управление о ходе моей экспедиции. В 10 часов утра по местному времени 21 июля я вышел из вагона поезда на вокзале Ташкента, где меня встречал полковник Леонид Иванович Давыдов, штаб-офицер для особых поручений при командующем.
– Добро пожаловать на Ташкентскую землю, Алексей Валерьевич, – поприветствовал меня полковник Давыдов. – Как дорога?
– Доброе утро, господин полковник. Все же очень долго, – ответил я ему, понимая, что встречающие такие вопросы задают, в основном, для проформы.
– Это долго, когда сюда едешь, а домой, в Россию-матушку несешься – будь здоров! – с веселым тембром в голосе прозвенел Леонид Иванович.
Странно, подумал я. Происшествие серьезное случилось, из Генерального штаба прибыл офицер, а он лучезарит своею улыбкой. Ладно, дальше посмотрим, что да как.
– Я не буду против, если Вы ко мне по имени-отчеству обращаться будете, Алексей Валерьевич.
Готовясь к поездке в Ташкент я, конечно, изучил руководящий состав управления округа и поэтому ответил:
– Очень признателен Вам, Леонид Иванович, не смею возражать!
– Пустяки, – ответил он. – Предлагаю следующий ход событий: сейчас Вы размещаетесь в гостинице, отдыхаете с дороги, потом мы обедаем, и к 16:00 я Вас представляю господину генерал-губернатору. В зависимости от того, когда мы освободимся – или с вечера, или с утра завтра выдвинемся к месту преступления. Вы не против?
– Как Вам будет угодно, господин полковник!
– Леонид Иванович, – поправил он меня, и мы улыбнулись друг другу.
Поселился я в центре города, в гостинице «Россия», на втором этаже, достаточно уютном месте. Окна моего номера выходили на улицу, но их конструкция защищала меня от назойливых торговцев и другого шума. Спутники мои поселились в ней же, но этажом ниже.
Разложив вещи, раздевшись и приняв ванну, я немного перекусил и прилег отдохнуть… Вроде бы только закрыл глаза, а уже будильник, поставленный мной на 15:00, сработал пронзительно громко!
Приведя свою форму в порядок, я к 15:30 спустился в холл, где меня уже ожидал полковник Давыдов.
– Прошу Вас, Алексей Валерьевич. Экипаж готов, – и мы двинулись на встречу с генерал-губернатором.

Гостиница «Россия», Ташкент. Начало ХХ века.
Резиденция генерал-губернатора (он же – командующий Туркестанским военным округом) размещалась на Николаевской улице в штабе округа, у Константиновского сквера. С учетом неспешной езды, на дорогу мы затратили не более получаса, и при этом мне удалось немного ознакомиться с городом. Он предстал перед моим взором достаточно развитым, особо выделяясь народными промыслами и торговлей. Недаром, в скором будущем Ташкент назовут «Звездой Востока».
В приемной, кроме адъютанта, никого не было, и мы с полковником Давыдовым сразу после приглашения зашли в кабинет командующего.
– Здравствуйте, Алексей Валерьевич, – приветствовал меня рукопожатием генерал Самсонов. – Здравствуйте, Леонид Иванович, – аналогичным способом поздоровавшись с Давыдовым, командующий предложил нам присесть за длинный дубовый стол, покрытый синим сукном.
– То, что произошло в Троицком – бесспорно, трагедия. Мы уже сделали кое-=какие выводы и готовы представить все документы, – обращаясь ко мне, сказал генерал Самсонов. – Какие у Вас планы, Алексей Валерьевич?
– Первое дело – ознакомиться с Вашими выводами, – ответил я. – Далее – поездка в Троицкое, изучение обстановки, так сказать, на месте, с построением своих умозаключений. После – прибытие к Вам, обсуждение результатов работы и итоговый доклад своему начальству. Прошу учесть, Ваше превосходительство, что мне поручено делать ежедневные доклады о ходе работы.
– Я понимаю Вас, Алексей Валерьевич, и не смею ни в чем ограничивать. Нам скрывать нечего, что увидите, не так – докладывайте, но и меня, прошу Вас, информируйте, дабы мог понять я, о чем речь, и насколько это отклонение вредит нашему общему делу.
После таких слов во мне что-то перевернулось. Не то, чтобы я отказался от своих планов, но опыта-то у командующего было гораздо более моего! И как я мог после таких слов поступить иначе, чем я поступил в дальнейшем? Поэтому ответил:
– Ваше превосходительство! Мне поручены ежедневные доклады, но я считаю нужным прежде их обсуждать с Вами, потому что лучше Вас обстановки тут никто не знает, и только Вы сможете мне разъяснить те негативные моменты, кои я посчитаю за нарушения.
– Спасибо Вам, Алексей Валерьевич! Весьма признателен. А полковник Давыдов будет с Вами неотлучно. Вам понятно, Леонид Иванович? – спросил командующий моего сопровождающего.
– Так точно, Ваше превосходительство! – отчеканил Давыдов.
– Вот и славно. А сейчас ступайте в канцелярию, Вам там выдадут необходимые документы, я уже распорядился.
После этих слов мы одновременно откланялись, развернулись и вышли в приемную.
В канцелярии меня ждала достаточно объемная папка с надписью: «Дело Троицкого бунта». Убедив полковника Давыдова, что мне нужно одному изучить все документы, я остался наедине с материалами. Честно сказать, уже на пути в Ташкент, а после общения с командующим – еще больше, у меня сложилось мнение, что никакого политического подтекста в этом происшествии не было. Было только безалаберное командование соответствующими командирами, крайне низкая дисциплина, круговая порука и покровительство. На протяжении нескольких месяцев саперы занимались чем угодно, но только не своим непосредственным назначением, хотя бы даже в учебных целях. А у бойцов, как говорил один из наших офицеров-воспитателей в Михайловском Воронежском кадетском корпусе, подполковник Штрамбур Григорий Павлович, «если их ничем не занять, в голове заводятся черви, которые грызут мозг и толкают их на всякие нелепости, глупости и, что самое страшное, – преступления!» Вот это преступление и произошло…
К полуночи я закончил изучать документы, и экипаж доставил меня в гостиницу. Приняв душ, я забылся прекрасным крепким сном без стука колес, раскачиваний, гудков паровоза – без всего того, что меня «преследовало» последние почти полмесяца.
Утром, достаточно бодрым, позавтракав, мы вместе с полковником Давыдовым двинулись в Троицкое. Прибыв туда к обеду, мы слегка перекусили в солдатской столовой, и я приступил к опросу очевидцев.
– Это все водка, будь она не ладна, – вздыхал один из опрашиваемых. – Подпоручик Прижатский принес ее в лагерь, продавал нам ее ночью, пока штабс-капитан Похвиснев и подпоручик Шадский отдыхали. И сам с нами распивал. А когда уже набрались мы достаточно, тут вольноопределяющийся Кайков и заявил: «А что это мы тут в лагерях закрытые сидим? Айда в Троицк, там ресторан есть, может быть, еще чего интересного!» Дежурный по лагерю это услышал и сразу к господину штабс-капитану, будить. Тот толком не разобрал, что случилось, шашку наголо и Кайкова по темечку! Остальные увидели это все и, как будто пелена на глаза, – сбили Похвиснева с ног и забили до смерти. Он сначала сопротивлялся, потом кричал, а далее затих совсем. На его крики прибежал господин подпоручик Шадский, но они и его… А дальше – все офицеры двух батальонов прибежали, в воздух постреляли и угомонили бунтовщиков…
Все остальные рассказы отличались от этого деталями, но общую картину не изменили – «черви» довели до преступления. Вечером того же дня мы вернулись в Ташкент.
– Завтра в канцелярии поработаем, Леонид Иванович, подведем итоги и все обсудим, а затем – к генерал-губернатору. А Александру Васильевичу передайте, что никаких нарушений, помимо ранее выявленных, я не увидел. Вы не против?
– Полностью поддерживаю, Алексей Валерьевич, – ответил мне Давыдов. Во сколько подавать экипаж завтра утром? – спросил он.
– Я думаю, часам к 10 будет самое время, – и мы распрощались до утра.
Подготовив отчет, я направил своего писаря на телеграф и сообщил свои мысли по итогам расследования. В тот же вечер получил ответ от генерала Обручева: «Слава Богу! Очень не хотелось политической подоплеки. Уточните, какие меры были приняты к зачинщикам. Обручев».
Наутро я поинтересовался у полковника Давыдова, что стало с зачинщиками.
– Пока сидят под арестом. Девять человек. С ними Прижатский. Сегодня будет суд.
Я решил подождать и убедиться, что все тут происходящее – не спектакль. Так и вышло. Прижатского и еще троих, наиболее наглых и буйных, повесили, а остальным дали по 12 лет каторги. На процессе, а потом и на казни присутствовали все солдаты и офицеры саперных батальонов…
В день 30 июля 1912 года мою экспедицию на вокзале Ташкента провожали офицеры управления квартирмейстерства округа во главе с полковником Давыдовым.
– Алексей Валерьевич! Позвольте Вам от лица командующего выразить благодарность за обстоятельность и объективность изучения и подготовленных выводов по порученному Вам делу. Александр Васильевич просил Вам оказать максимум признательности и извиниться за то, что не смог с Вами лично попрощаться. Очень надеюсь, что в дальнейшем нам доведется снова пересечься не только по служебным, но и по чисто человеческим делам.
– Спасибо Вам и Александру Васильевичу за теплые слова. Я сделал все по закону и присяге, вы – также. Между нами отношения чисты и честны, и мы не будем прятать глаза в землю при виде друг друга, я надеюсь, – и я быстро метнул свой взгляд в глаза Леонида Ивановича.
Это был мой способ определить, насколько человек, которому ты собираешься доверять, откровенен с тобой: сначала вывести его на душевный разговор, потом «зацепить струнки» ответственности, а потом поставить его в узкие рамки двоякого развития событий: или – или! Отведет взгляд, замямлит – все, не тот человек, кому можно доверять. Не дрогнет, будет смотреть прямо – возьми паузу, не отрекай его от себя, подожди. Может, он – тот, кто тебе нужен.
Полковник Давыдов глаз не отвел, но в них я прочитал такую тоску, что мне стало немного не по себе… Я увидел в нем ЧЕЛОВЕКА, который знает, что его ждет, и, несмотря на это, не отступит от СУДЬБЫ, будет верен ей до конца, так же, как и останется верен он Вере, Царю и Отечеству в те тяжелые августовские дни 1914 года, когда он в ходе Первой мировой войны в должности начальника штаба 8-й пехотной дивизии 15-го армейского корпуса в боях в Восточной Пруссии будет окружен противником в Коммусинском лесу и погибнет при попытке прорыва из окружения…
И генерал от кавалерии А. В. Самсонов, командующий 2-й армией, также не доживет до конца войны и покинет этот мир. По одним источникам, не выдержав психологического давления из-за неудач на фронте во время Восточно-Прусской операции после поражения при Танненберге 17 августа 1914 года он покончит с собой в Вилленберг, по другим – погибнет от разрыва снаряда. Его подчиненные не смогут найти тело командира, и только через год его супруга, Екатерина Александровна, в сопровождении немецкого офицера, после нескольких дней опроса местных крестьян, узнает, что в конце лета 1914 года в лесу случайно был найден труп русского офицера. Впоследствии подтвердилось, что это был ее муж. Тело эксгумировали и транзитом через Швецию и Петроград доставили в конце ноября 1915 года в родовое имение Самсоновых, село Егоровка Елисаветградской губернии, где и захоронили…
* * *
Обратная моя поездка не предвещала ничего необычного, но все же это произошло. По прибытии в Оренбург на железнодорожном вокзале я получил срочную депешу из Генерального штаба, по которой мне предписывалось немедля прибыть в деревню Бородино Московской губернии для контроля готовности к празднованию 100-летия со дня Бородинского сражения.
На Бородинском поле заблаговременно были организованы значительные работы по восстановлению некоторых военных сооружений столетней давности и приведению в образцовый порядок исторических памятников и монументов не только русским, но и французским воинам. От станции Бородино для императорского поезда к месту празднования протянули железнодорожную ветку и построили специальный павильон. Из-за постоянных дождей была опасность не успеть завершить все приготовления, поэтому для объективной оценки меня туда и направили…
В ожидании замены паровоза в нашем эшелоне я решил прогуляться по железнодорожному вокзалу Оренбурга и Привокзальной площади. Стояла теплая погода, и в этот день жители также совершали вечерний променад по городу. Недалеко от меня остановился экипаж, и из него вышла милая девушка лет восемнадцати, по внешнему виду очень похожая на выпускницу духовной семинарии (как потом действительно оказалось – выпускницей Оренбургской духовной семинарии), которая направилась в здание вокзала.
Я проследовал за ней, так как площадь уже достаточно осмотрел. Она пошла к кассам, а я стал знакомиться с достопримечательностями внутреннего убранства. Через некоторое время я вновь увидел ее, грустно стоявшую рядом с кассой.
– У Вас что—то случилось, сестра? – обратился я к ней.
– Нет, что Вы, господин офицер, – ответила она мне, – все нормально, только вот билетов до Москвы нет, а мне очень туда надобно…
Ее голос меня поразил – тихий и одновременно глубокий, идущий из самого сердца ее обладательницы и завораживающий сердце слушателя. Я еще раз посмотрел на нее, более внимательно. Красивые, слегка раскосые зеленые глаза, чуть с горбинкой нос, придающий некий шарм ее внешности, тонкие бледно-розовые губы и правильный овал лица были украшены рыжими стянутыми в узел длинными волосами. У меня моментально созрел план: «штабное» купе – рабочий кабинет – мне уже не нужно, так почему бы не пригласить милую девушку к себе в вагон?! И я ей предложил такой вариант.
– Что Вы, господин офицер! Как можно?! Я ведь всего лишь послушница и собираюсь принять монашеский постриг, а Вы уже в больших чинах и едете по служебному делу…
– Как послушница? – я был несколько растерян и смущен… – Так куда Вы следуете?
– В Спасо-Бородинский Женский Монастырь, близ деревни Бородино. Еду туда по приглашению преподобной Рахиль, – ответила мне девушка.
– Какое совпадение! Я только сегодня получил указание ехать туда же, на Бородинское поле, чтобы оценить степень готовности к торжествам! Теперь Вы просто обязаны согласиться на мое предложение, иначе я вызову на дуэль начальника станции и под угрозой смерти он достанет Вам билеты в Москву!
– Не надо, я согласна! – вскрикнула девушка в испуге и перекрестилась, но, увидев мое улыбающееся лицо, густо покраснела, улыбнулась сама и отвернулась от меня.
– Позвольте Ваши вещи, – ответил я и взял ее небольшой саквояж. – Это все? – поинтересовался я.
– А нам много и не надо, с нами Бог, – ответила моя новая знакомая, будущая попутчица.
– Я забыл представиться, – опомнился я. – Генерального штаба штабс-капитан Черневский Алексей Валерьевич, тридцати лет отроду будет 1 октября этого года, холост.
Последнее слово в моей речи смутило сначала ее, а потом и меня. «Холост»! К чему это я ляпнул?..
– Очень приятно, а мое имя Варвара. Варвара Кусайлова, выпускница Оренбургской духовной семинарии этого года, в апреле оного отпраздновала свое девятнадцатилетие, не замужем, – ее взгляд метнул на меня быструю молнию, и тут же она еще гуще покраснела, – да и не суждено уже…
Чтобы как-то отвлечься от темы, я предложил ей пройти в мой вагон, разместиться, отдохнуть после всех приключений и встретиться за ужином в хозяйственном купе, где мои помощники смогут организовать неплохой стол. Она смущенно кивнула головой – на этом и порешили.
* * *
Вагон, размеренно покачиваясь на своих рессорах, плавно мчался в сторону Москвы. Его колеса еле слышно отбивали чечетку на стыках рельс, а мы с Варварой, завершая ужин ароматным кофе, вели неспешный разговор.
Ее отец, Даниил Кусайлов, пошел добровольцем на войну с Японией. В своем рапорте на имя генерал-губернатора Оренбурга он написал: «Считая себя защитником нашей Родины, к чести Российского Отечества категорично полагаю, что мое место сегодня на Дальнем Востоке, в рядах Русской императорской армии». Ушел на фронт и погиб в битве при Мукдене в начале марта 1905 года. Матушка Варвары, Ефросинья Поликарповна, очень переживала смерть мужа, слегла в конце весны того же года с воспалением легких, так и не оправившись, отдала душу Богу аккурат 29 июня – в день Святых апостолов Петра и Павла. Варвара была самой младшей в семье, старшие братья и сестры уже разъехались и обустроились в России, вот 12-летнюю девочку и отдали в духовную семинарию, чтобы там под присмотром священнослужителей она и получила образование.
– Тяжело было, – рассказывала Варвара. – Я же понимала, что мне надеяться больше не на кого, кроме как на себя и Бога. Вот в нем спасение и душевное равновесие я и нашла.
– А как же братья и сестры?! – воскликнул я.
– А что они… Бог им судья, да долгих лет жизни, – вздохнула Варвара и повернулась к окну, за которым мелькали деревья и телеграфные столбы.
Я тоже замолчал. Мне стало безумно жаль эту маленькую девочку, которая в такие ранние годы осталась наедине сама с собой, отреклась от мирского бытия и согласилась посвятить всю оставшуюся жизнь служению Богу. Прошло не менее пяти минут, как заговорила она.
– А как складывается Ваша жизнь, Алексей Валерьевич?
Я кратко рассказал о себе, все больше пытаясь вытащить ее на разговор. Но она будто бы замкнулась в себе, спряталась, как еж или улитка.
– Как Вы относитесь к поэзии, Варвара Данииловна? – спросил я попутчицу.
– Весьма положительно, – ответила она.
– И кого Вы предпочитаете?
– Когда была маленькой, мама мне часто читала Пушкина, а вот уже повзрослев, я люблю читать разных поэтов, в зависимости от настроения.
– А какому произведению соответствует Ваше настроение сейчас? – поинтересовался я.
Немного подумав, она прочла:
«Тесен мой мир. Он замкнулся в кольцо.
Вечность лишь изредка блещет зарницами.
Время порывисто дует в лицо.
Годы несутся огромными птицами
Клочья тумана вблизи… вдалеке…
Быстро текут очертанья.
Лампу Психеи несу я в руке —
Синее пламя познанья.
В безднах скрывается новое дно.
Формы и мысли смесились.
Все мы уж умерли где—то давно…
Все мы еще не родились».
– Чьи это стихи? – спросил я, немного помолчав.
– Максимилиана Александровича Волошина, – ответила она.
– Не слышал никогда, – признался я.
– А Вы, Алексей Валерьевич, любите стихи?
– Да, – коротко ответил я. – Но, к сожалению, особенности службы моей и уклад жизни не позволяет на них сосредоточиться, – виновато признался я.
– Ну, что Вы, – укоризненно посмотрела на меня собеседница. – Ваша служба – лишь один из этапов жизни, придет время, и вы уйдете в отставку, а жизнь продолжится, вот тогда нужно будет восполнять те пробелы, которые образовались у Вас в жизни. Поэтому чем раньше Вы этим займетесь, тем мудрее станете.
– А Ваша служба – не временна? – спросил я Варвару Данииловну.
– Нет. Я для себя все решила, – сухо ответила она мне.
– Но Вы же так молоды и прекрасны, зачем ставить себя в жесткие рамки и губить свою жизнь аскетизмом? – в порыве спросил я.
Она посмотрела на меня глазами, полными боли и отчаяния.
– Поздно уже, Алексей Валерьевич, давайте продолжим наш разговор завтра…
Я проводил ее до предназначенного купе, откланялся, пожелал спокойной ночи и удалился в свое. В ту ночь я долго не мог заснуть и думал о Варваре…
* * *
На следующий день мы встретились ближе к обеду, когда наш поезд остановился в Пензе для очередной смены паровоза и заправки вагонов. Прогуливаясь по вокзалу, Варвара попросила меня рассказать о Русско-японской войне, в которой погиб ее отец, и о том, что, на мой взгляд, ждет Россию в ближайшем будущем. Я ей сразу ответил: о том, что случилось на Дальнем Востоке, я смогу рассказать с ограничениями и учетом служебной закрытости информации, а о том, что будет, – это мое личное мнение, не вполне связанное с моей специальностью.
– Вот Вы зануда, – весело смеясь, ответила мне она. – Ну, конечно, мне не нужны Ваши секреты, но нужно Ваше мнение, Ваш взгляд на то, что происходило, происходит и, возможно, будет происходить.
– Что же произошло на Дальнем Востоке? – начал я делиться своими мыслями. – Мы не рассматривали этот регион как основной театр военных действий, не развивали его инфраструктуру, не готовились к таким продолжительным срокам ведения войны, не учились быстро перебрасывать войска на большие расстояния, не развивали тяжелую артиллерию, связь и способы действий в тяжелых климатических условиях Дальнего Востока. Кроме того, войну, грубо говоря, «проспали» наши политики. Ну, а реальные причины наших неудач там нам сможет раскрыть только время и секретные архивы, – подытожил начало своей речи я. – Вы не скучаете? – заволновался я.
– Нет, что Вы! – воскликнула Варвара. – Весьма интересно. Я, конечно, не ждала услышать причины гибели моего отца, но почему с этой войны не вернулись сотни тысяч российских подданных, а еще больше оказались покалеченными, я теперь немного понимаю. У нас в семинарии не принято было обсуждать эти вопросы. Мы только молились за души погибших и здоровье уцелевших. Пожалуйста, продолжайте, – сказала моя спутница.
– Как мне видится, – продолжил я, – Россия успела, так сказать, залечить свои раны после этой войны и сделала значительный шаг вперед в рамках укрепления военной мощи. В нашей армии улучшилось обучение личного состава, расширились боевые возможности войск и флота, командиры всех степеней, от военного министра до отделенного, начали гибче смотреть на них, практике стало уделяться значительное время, и в первую очередь – роли огня, пулеметов, связи артиллерии с пехотой, индивидуальному обучениию каждого бойца, подготовке младшего командного состава и воспитанию подразделений в атмосфере активных и решительных действий.
– По моему мнению, – уже в вагоне, за обедом, рассуждал я, – очевидно, что вопрос о большой европейской войне решен бесповоротно и окончательно. И эта война станет самой губительной и бесчеловечной в этом веке. В ней могут и будут использованы самые современные средства уничтожения людей. Неясно пока только то, кто составит коалиции противоборствующих сторон и когда именно она начнется. То, что эта война не будет войной двух государств – это точно.
– Это очень страшно, – молвила моя собеседница и отложила в сторону обеденные приборы. – Я знаю, откуда берутся войны, в Святом писании сказано: «Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» То есть, жажда власти, наживы, превосходства над другими, алчность и бессердечие причинами их являются. Но войны же начинают конкретные люди! А этих людей рожают конкретные матери, которые обязаны были воспитать в своих чадах добродетель и человеколюбие. Но они этого не сделали. Матери виновны в войнах и больше всего страдают от них, когда гибнут в них же их сыновья, мужья, отцы…
Я был немного озадачен таким выводом, и дальнейшая наша трапеза прошла в молчаливых размышлениях.
Наш путь проходил по Сызрано-Вяземской железной дороге, которая позволяла, минуя Москву, прибыть в Бородино. Оставшиеся дни мы с Варварой Данииловной проводили в беседах об искусстве, ее обучении в семинарии и моем – в военных учебных заведениях, что позволило нам достаточно сблизиться. Но все кончается, кончилось и наше путешествие. На железнодорожной станции в Можайске ее встречали сестры из монастыря.
– Прощайте, Алексей Валерьевич. Спасибо Вам за доброту Вашу и внимание. Вы – единственный и последний мужчина для меня в этом грешном миру, с которым мне было хорошо, довелось так откровенно и интересно общаться. Не поминайте лихом и храни Вас Господь, – сказала мне она и перекрестила. Мне показалась, что по ее щеке текла слеза… А я стоял и смотрел, как ее фигура уходила вдаль и растворялась в вечернем воздухе этой благородной земли…
Я в своей жизни встречал и общался со многими женщинами, но именно эти несколько дней врезались в мою память и сердце навсегда. Это была МОЯ судьба, МОЯ женщина, но я не смог убедить в этом ни ее, ни себя…
Как показало время, это было правильным, ибо те пертурбации, которые выпали на мою долю, могли бы сделать ее несчастной. А теперь, глядя на все произошедшее сквозь годы, я понимаю, что, став на мгновенье несчастным, ты на всю жизнь можешь остаться счастливым…
* * *
Свои служебные вопросы в Бородино я решил быстро. Изучив положение дел и лично переговорив с генералом от инфантерии, членом Военного совета Российской Империи и председателем Военно-исторического общества Владимиром Гавриловичем Глазовым, ответственным за подготовку и проведение юбилейных торжеств, я пришел к твердому убеждению, что все идет без помарок и предпосылок к срыву.
– Ваше высокопревосходительство! – отрапортовал я Глазову. – Имею честь заверить Вас, что в моем докладе начальнику Генерального штаба Российской Империи будет отражен весь положительный опыт хода подготовки к такому эпохальному событию, как 100-летний юбилей победы Российской армии над Наполеоном.
– Полноте, Черневский. Начальник Генерального штаба осведомлен о всем ходе подготовки к празднествам. Но, впрочем, взгляд со стороны, свежий и объективный, никогда не был помехой делу. Ступайте, – закончил он наше общение.
Генерал Глазов, один из самых разносторонних военно-политических деятелей России, окончивший Константиновский межевой институт, 3-е военное Александровское училище, Академию Генерального штаба и Императорский Петербургский археологический институт, станет начальником Николаевской Академии Генерального штаба, возглавит управление Министерством народного просвещения, вернется на военную службу, которую закончит в 1918 году, будучи уволенным в отставку, останется в России и умрет в Петрограде в 1920 году в возрасте 72 лет…
Со спокойной душой почти через 1,5 месяца с небольшим я возвращался в ставший для меня родным Санкт-Петербург. А юбилей Бородинского сражения прошел на славу! По итогам моих специальных заданий и к вышеназванному юбилею я был представлен и награжден Императорским орденом Святой Анны III степени без мечей. Наличие мечей говорило об участии в боевых действиях, а мне в таковых еще не пришлось участвовать.

Родовое имение Черневских. 1913 год.
После долгих скитаний по России по служебной необходимости я все же получил долгожданный отпуск и убыл в конце декабря к себе на родину, в Борисоглебск. К этому времени стараниями моих братьев и сестер, а также моих скромных вложений нам удалось построить фамильный дом. Отец, уже достаточно больной (сказывались военные раны и работа на пристани), и матушка были очень довольны тем, что теперь мы можем собираться всей семьей в большом доме, который должен был стать нашим родовым гнездом. Увы, этим мечтам не суждено было сбыться, лихие годы приведут к полному его разрушению…
Начислим
+1
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе