"Душа моя, не читай то, что не радует тебя," - написал мне на этой книге попутчик в поезде. "Котлован" произведение не из тех, что радуют, но и не из тех, что печалят. Оно вводит в особое состояние дикой чувствительности, осмысленности, остроты и взаимосвязанности всего вокруг. Платонов доказывает, что жизнь можно сказать. Чувства, мотивы, смутные мысли - ко всему тому, к чему нельзя подобрать слов, Платонов слова подбирает. Иногда странные, иногда смешные, почти всегда наивные (потому что все наивно, что идет из глубины души), но обязательно точные. Язык Платонова честен и абсолютно все называет своими именами, он со всех явлений счищает верхний слой, и они предстают перед читателям хрупкими и голыми. Практически никто не знает, что с ними такими теперь делать, поэтому многим через такой текст не продраться. Сама книга, ни много ни мало, о поиске смысла жизни. Его ищут все и во всем, что есть, - в мусоре, в природе, в земле, в копании земли, в смерти, в девочке-сироте и в сказочном будущем. Никто не понимает жизни, зато благодаря этому все отлично понимают друг друга: у кулаков и раскулачивающих, у буржуев и бедняков, у убийц и убитых - у всех одна и та же объединяющая печаль, сводящая любое, даже смертельное, противостояние к бессмысленному мельтешению. Эту книгу можно перечитывать, не дочитывать, читать в любом порядке и с любого места, каждая ее страница и каждая строчка сильна и осмысленна сама по себе, причем остается такой всегда. Я никогда не видела раньше такого текста и в принципе рекомендую ознакомиться с ним всем.
Недавно перечитала произведение А. П. Платонова "Котлован". Читала его еще в школе, а тут почему-то решила заново познакомиться с этой книгой... Очень понравилось. В произведение вложены душа и чувство. Один минус тяжело читается, но в тоже время данная книга наполненная глубоким смыслом. Советую!
Поступательно обреталось сосредоточенное вчитывание в плотноупакованный текст, определительная мощь которого заставляла происходить глухозасиженные остановки и передумывания. Спотыкание таковое щекотало лоб. Вещественно-постигаемые нагромождения-субстраты образовали густой внутренний стержень, отчего уши налились тягучей краской и пульсировало меж бровей. Добросовестное обдумывание влияло на ход обмысливания. Ясные и прочно устойчивые внутренние сноски-размышления приводили к построению крупномасштабной понятийной модели-комка, отчего в окраинных начинательных мыслях возникло целостное умиротворение. Это было действительно одновременно грандиозно-бушующе и плавно-податливо, отчего видилась определенная волнующая правда в деле данном. Доброта и истина исходила, заполоняя. Всепоглощающее ликование иногда сменялось дребезжащей раздраженностью событийных явлений, накалом предельного разрыва. Этим было огласовано стремление к обретению глубоких внутримышечных сентенций, самого определяющего вещества, глинобитного природного естества. Понимание присутствовало надежно. Принятие, осознание, направленность витали в густом воздухе тяжелыми подавляющими кирпичами. Серьезная томность и нагнетающая обстановка соглашенности. Я ринулся строить добротные стены и чувствовать благодать.
Это сюрреализм. Дикая тоска по поиску настоящих людей. В тексте сплошные вурдалаки, нежити с потухшими глазами и с тоской в сердце о бесперспективности жизни. Мрут все, кроме мух, которые жрут свежее мясо резанной скотины кулаков. Котлован – это собственно яма социалистического строя. Это как молить небо зарываясь в землю. Котлован – это братская могила всей страны. Котлован – текст страшно медленного темпа. Корявый и заковыристый язык заставляет спотыкаться на каждой фразе. Депрессивное произведение. Но во всем этом угадывается та самая параллельная вселенная в которой мы не так давно жили…
"Это монархизму люди без разбору требовались для войны, а нам только один класс дорог, да мы и класс свой будем скоро чистить от несознательного элемента" - столь пророческие слова были высказаны Платоновым еще в 1930 гг. Последующие массовые репрессии показали всю жестокость государственной машины, при этом не предав ей сил. В повести показывается беспощадность коллективизации на местах, когда кулаков отправляли на плоту в лучшие миры. При этом постоянная серость будней и мысли организованности существования. Не существует я или ты, существует только непоколебимое мы. И не важно, что нам не становится легче, главное верить, что когда-то будет. Поменялся строй, но при этом осталось зависимое население. Рабочие котлована, которые роют его без выходных. Инженер, который проектирует, живет лишь только этой идеей общей постройки и (где-то далеко) радостного будущего. Новоиспеченные колхозники, которые заранее сделали гробы и лишь ждут момента их применения. Абсурд! И при этом маленький огонек будущего коммунизма и благополучия - ребенок. И неожиданно коммунизм уходит в никуда.
- Администрация говорит, что ты стоял и думал среди производства, - сказали в завкоме. - О чем ты думал, товарищ Вощев? - О плане жизни. - Завод работает по готовому плану треста, а план личной жизни ты мог бы прорабатывать в клубе или в красном уголке. - Я думал о плане общей жизни. Своей жизни я не боюсь, она мне не загадка. - Ну и что ж ты бы мог сделать? - Я мог выдумать что-нибудь вроде счастья, а от душевного смысла улучшилась бы производительность.
Это строки повести одного из моих любимейших писателей, моего земляка Андрея Платонова. Платонов был глубоко несчастным человеком, поэтому и произведения его такие же. Гнетущие, вязкие и мрачные. В «Котловане» рассказывается о Вощеве, которого в день тридцатилетия увольняют с завода за его «задумчивость среди общего темпа труда», и о строительстве «общепролетарского дома». Всё в повести раздуто и развернуто до невероятных масштабов. Огромная печаль, колоссальный котлован и чудовищный абсурд. Можно ли назвать это антиутопией? Думаю, да. Но прошу, не верьте тем, кто скажет , что «Котлован» - пародия на советскую действительность. Пародия подразумевает под собой нечто смешное или, по крайней мере, забавное. Конечно же, ничего смешного Андрей Платонович не хотел сказать и не говорил. Он рассказывает только о личном. Личном опыте, личных размышлениях, личном горе. Я даже думаю, что Вощев, главный герой повести – это и есть сам Платонов. Читать «Котлован», да и все произведения Платонова, очень сложно. Когда-то где-то я прочитала, что идея «Котлована» пришла Андрею Платонову из «Легенды о Великом инквизиторе» Достоевского. А «общепролетарский дом» задумывался, как вавилонская башня. Отсюда и такой неповторимый платоновский стиль.
Сафронов управился принести Жачева и, свалив его изнемогшее тело в угол барака, сказал: – Пускай это пролетарское вещество здесь полежит – из него какой-нибудь принцип вырастет.
Это, пожалуй, подражание вавилонскому бреду. Я бы сказала, что основная тема этого произведения – поиск Истины. Для Платонова Истина- это жалость, совесть и любовь. Однако светлого будущего в « Котловане» нет. В повести много вопросов, ответы на которые мы должны найти сами. Поэтому советую читать книгу только тогда, когда вы решите на сто процентов, что готовы к ней. Не ждите приятного и легкое чтива.
Я люблю авторов, которые пишут правду. Правду про мир в начале XX века. Это антиутопия, да. Платонов послабее, чем Оруэлл и Замятин в этом жанре, но мне нравится его язык, язык, которым он представляет ужасные вещи не столь ужасными. Я рада, что именно эта книга выпала.
В некоторых случаях данную повесть причисляют к антиутопиям, на мой взгляд, это не так. Это достаточно реальны образ жизни советского человека тех годов. Да, что-то возведено в абсолют, но общая картина очень ярко отражает советский быт первой пятилетки. Сам пятилетний план упоминается в повести. Коллективизация и раскулачивание идут полным ходом. Люди воодушевлены пропагандой и обещаниями светлого будущего.
Я не особенно люблю произведения о советском времени, где сам период будто выступает главным героем. Но эта повести несомненно войдёт в число моих любимых книг. Я готова была читать ее только за прекрасный авторский язык («Но воздух был пуст, неподвижные деревья бережно держали жару в листьях, и скучно лежала пыль на безлюдной дороге - в природе было такое положение»). Сначала я принялась выделять красивые описания, но быстро сообразила, что вся книга такая. Не могу сказать, что сюжет очень захватывающий и интересный, но он и не должен быть таким. Все внимание сосредоточено на переживаниях героях в сложившемся в стране положении.
С первым мы знакомимся с Вощевым. Не могу сказать, что он является главным героем, потому что в дальнейшем повествовании он участвует мало. Это человек, который не проникся пропагандой и не может уяснить для себя истинный смысл сложившийся системы. Он не борется с ней и даже не особенно сильно старается найти ответ на свой вопрос. Мне кажется, он будто смотрит на все с ясными, незатуманенными глазами. У него вопросы даже не к советской системе, а даже к самому устрою жизни. Вощев отдался тем философским вопросам и размышлениям, от которых большенство людей просто стараются убежать.
Смерть в повести не является табуированный или животрепещущей темой для героев. Ее упоминание проскакивают в будничном общение. Убийства не представляются преступлениями, на них даже не делается особого внимания.
Явно заметно классовое разделение (хотя вроде бы с классовым неравенством и борются герои романа). Очень хорошо, с долей сатиры, это показано в преображении Козлова.
В такой маленькой повести очень много интересных моментов, которые при единоразово прочтении не получится все для себя открыть. Такое произведение стоит перечитывать не один раз.
«Сказав эти слова, Вощев отошел от дома надзирателя на версту и там сел на край канавы, но вскоре он почувствовал сомнение в своей жизни и слабость тела без истины, он не мог дальше трудиться и ступать по дороге, не зная точного устройства всего мира и того, куда надо стремиться.»
Когда читаешь иностранную литературу в переводе или со словарем, то постоянно ощущаешь невидимое стекло культурных различий — споткнешься случайно о какой-нибудь fettunta в итальянском тексте и летишь по зоопарку ресторанных подробностей и воспоминаний, в то время как автором даже близко не закладывалось что-то более хитрое, чем какой-нибудь простой хлеб с солью — фетунта, обычная калорийная еда рабочего, ни разу не кулинарная диковинка.
В деталях языка отражается и преломляется вся реальность времени, места и общества. Справедливо и то, что ценой за непринадлежность ко времени повествования становится некоторая оптическая аберрация изображения: чуть-чуть другие цвета, чуть-чуть другие пропорции. И вот тем удивительнее встретить русскоязычную прозу, в которой язык даже не слегка искажает картину реальности, а просто берет и сворачивает координатную сетку речи в зеркальную трубочку калейдоскопа. В общем, встреча с языком Платонова была неожиданной.
Целых пять месяцев лежал у меня на столе «Котлован» и смотрел на караваны приходящих и уходящих книг. Дался он мне только с третьего захода, когда наконец-то удалось подстроиться под длину волны платоновского языка — не без помощи лекций и статей Виктора Голышева, Сергея Никольского, Иосифа Бродского.
«Вощеву дали лопату, он сжал ее руками, точно хотел добыть истину из земного праха.»
Почти все публикации о тексте сводятся к анализу языка «Котлована», этой абсолютно чудовищной смеси канцелярита и отчужденности, в которой от каждого предложения веет переменами и сумятицей. У говорящих словно вырвали из под ног пласт земли и все потеряло теперь свое прежнее значение, а каждое слово вдруг стало нуждаться в тщательном переосмыслении и постоянных дополнениях обстоятельства и места. Мы застаем безымянный колхоз на этапе эпохальных перемен, которые не могут не отражаться в языке: вчерашние меридианы уже «загородки от буржуев», а дети это и не дети вовсе, а «время, созревающее в свежем теле».
«Девочка осторожно села на скамью, разглядела среди стенных лозунгов карту СССР и спросила у Чиклина про черты меридианов: — Дядя, что это такое — загородки от буржуев? — Загородки, дочка, чтоб они к нам не перелезали, — объяснил Чиклин, желая дать ей революционный ум.»
Шестеренки этого языка скрипят и лопаются так образно и громко, что книге хватает одного только бытописания чтобы создать, кажется, самый тоскливый пейзаж гнета безысходности в мировой литературе. И вот на этом фоне и разворачиваются еще более тоскливые действия безымянных людей прошлого. И хотя на примере Вощева мы видим как быстро и случайно можно оказаться за этой чертой современности, можно сказать, что герои книги сами определили себе это внеисторическое место «лишних» людей; людей, которые пришли непрошенным героическим подвигом тела и духа «поместить пролетарскую пользу в овраг» общества и раствориться в тени прекрасных людей будущего.
«Вощев лежал в стороне и никак не мог заснуть без покоя истины внутри своей жизни, тогда он встал со снега и вошел в среду людей. — Здравствуйте! — сказал он колхозу, обрадовавшись. — Вы стали теперь, как я, я тоже ничто. — Здравствуй! — обрадовался весь колхоз одному человеку.»
Это очень тяжелый и страшный текст. Кажется, его надо читать и перечитывать хотя бы для того, чтобы таких текстов не становилось больше.
(Прочитав серию нарциссично-восторженных отзывов не могу не добавить, что удовольствия в чтении этой книги примерно как в визите к стоматологу.)
И другие цитаты:
«— Нам, товарищ Чиклин, неизвестно, мы сами живем нечаянно. — Нечаянно! — произнес Чиклин и сделал мужику удар в лицо, чтоб он стал жить сознательно. Мужик было упал, но побоялся далеко уклоняться, дабы Чиклин не подумал про него чего-нибудь зажиточного…»
***
«— Тебе, бюрократ, рабочий человек одним пальцем должен приказывать, а ты гордишься! Но пищевой берег свои силы от служебного износа для личной жизни и не вступал в разногласия. — Учреждение, граждане, закрыто. Займитесь чем-нибудь на своей квартире.»
***
«Он шел по дороге до изнеможения; изнемогал же Вощев скоро, как только его душа вспоминала, что истину она перестала знать.»
***
«…он стыдился, что пионеры, наверное, знают и чувствуют больше его, потому что дети — это время, созревающее в свежем теле, а он, Вощев, устраняется спешащей, действующей молодостью в тишину безвестности, как тщетная попытка жизни добиться своей цели. И Вощев почувствовал стыд и энергию — он захотел немедленно открыть всеобщий, долгий смысл жизни, чтобы жить впереди детей, быстрее их смуглых ног, наполненных твердой нежностью.»
***
«В ближнем к котловану овраге сейчас росли понемногу травы и замертво лежал ничтожный песок; неотлучное солнце безрасчетно расточало свое тело на каждую мелочь здешней, низкой жизни, и оно же, посредством теплых ливней, вырыло в старину овраг, но туда еще не помещено никакой пролетарской пользы.»
***
«И ему стало легко и неслышно внутри, точно он жил не предсмертную, равнодушную жизнь, а ту самую, про которую ему шептала некогда мать своими устами, но он ее утратил даже в воспоминании.»
***
«Но отчего, Никит, поле так скучно лежит? Неужели внутри всего света тоска, а только в нас одних пятилетний план?»
***
«Вощев же лег вниз лицом и стал жаловаться шепотом самому себе на таинственную жизнь, в которой он безжалостно родился.»
***
«— Баба-то есть у него? — спросил Чиклин Елисея. — Один находился, — ответил Елисей. — Зачем же он был? — Не быть он боялся.»
«Котлован» Андрея Платонова – одно из самых мрачных произведений, которое мне только доводилось читать за всю прошедшую жизнь. Душевные терзания Родиона Раскольникова и Петербург Достоевского кажутся радужной сказкой в сравнении с гротескным ранним Советским Союзом Платонова. Сквозь каждую страницу текста буквально кричит щемящая безысходность и взращённое на этой почве тотальное равнодушие. Смерть же представлена в «Котловане» так буднично, что даже обычный приём пищи вызывает у героев повести в разы больше эмоций. Сюжет в классическом его понимании здесь отсутствует: «Котлован», скорее, предстаёт перед читателем как некое бытописание, одним из главных действующих лиц которого становится Вощев – бывший работник завода, уволенный оттуда за то, что стал слишком часто задумываться в процессе производства. А задумываться Вощев стал на тему того, для чего он вообще существует, ощущая при этом себя бесконечно пустым. Путешествуя по округе, он ищет эту цель внутри других людей, но встречает в них такую же пустоту, как и в самом себе. Всё произведение можно разделить на две логические части – о происходящем на котловане и о жизни в деревне/колхозе. Обе темы отражают два важнейших аспекта жизни Советского Союза времён первой пятилетки. Первая часть показывает жизнь городов того времени и рабочего класса, трудившегося на гигантских бессмысленных проектах и в условиях повальной индустриализации, которая, вместо того, чтобы развивать имеющееся, предпочитала сперва всё уничтожать и строить заново. Фраза «мы наш, мы новый мир построим», предварительно, разумеется, разрушив прежний, как нельзя кстати подходит для того, чтобы описать происходящее в безымянном платоновском городе. Рабочие, к которым присоединился Вощев, живут в бараке, спят на голом полу и день за днём роют котлован для огромного дома, который вместит в себя весь пролетариат сего города, тогда как прежние односемейные дома будут уничтожены навек. Вторая часть произведения рассказывает о жестокости коллективизации и раскулачивания в такой же безымянной деревне; о том, как убивали тех, кто умел содержать хозяйство и имел хоть что-то, как забирали имущество даже у бедных и кидали всё в общий «котёл». В общем, если отбросить метафоры и гротеск Андрея Платонова, то обо всём том, о чём нам традиционно рассказывает история русского села первой половины прошлого века. Главным же изобразительным средством «Котлована» является язык, которым он написан – местами намеренно искажённый, стилизованный под номенклатурную речь того времени. Мёртвый и бесчувственный, он, тем не менее, как раз и придаёт ту мрачнейшую окраску всему произведению, отличая его от большинства других рассказов об этом тяжёлом времени. Кроме того, нельзя не упомянуть то, что Андрей Платонов писал это произведение, находясь в СССР, тогда как большинство критиков большевистской империи бежало за границу и писало оттуда; Платонов же прожил всю жизнь в России и Советском Союзе и имел возможность видеть всё происходящее своими собственными глазами. Быть может, именно поэтому «Котлован» получился столь тяжёлым в эмоциональном плане, даже по сравнению со своими идейными собратьями? Резюмируя: очень сильное произведение, которое, однако, понравится далеко не каждому, да и оставит после себя крайне депрессивный осадок. Я лично после прочтения «Котлована» почувствовал острую потребность в том, чтобы следующая книга в моих руках была лёгкой и непринуждённой. Но если вы хотите познать всю боль и безжалостность тоталитарного режима через литературное произведение – дерзайте! В «Котловане» всё вышеперечисленное присутствует сполна.
Начислим
+3
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе

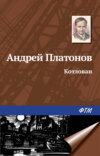
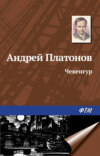



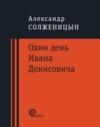
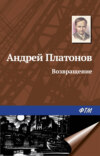




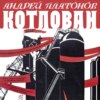
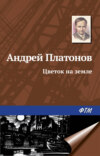







Отзывы на книгу «Котлован», страница 9, 121 отзыв