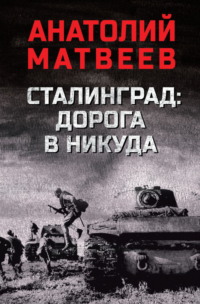Читать книгу: «Сталинград: дорога в никуда», страница 2
Иван не увидел, как танк на секунду замер и закрутился на одном месте. Ероша землю лишёнными гусеницы катками, остановился, прекратив нарезать круги, как бы раздумывая, что делать дальше.
Оставаться в танке гансам не с руки. Вот они и решили потихоньку выбраться.
Но уже подавившие свой испуг и Иван, и Семён, и все остальные, поднявшись с земли, ждали их. Так что шансов выжить немецким танкистам было немного. Тут же у своего танка и успокоились навсегда.
– Отвоевались, – подумал Иван, глядя на распластавшихся вокруг танка, немцев, и по привычке передёрнул затвор, досылая патрон. Но стрелять было не в кого, танкисты не шевелились.
И ненависть, которая сидела в нём минуту назад, прошла. И ему стало жаль лежащих перед ним немцев. Ведь и у них есть и матери, и жёны, и дети. Это им предстоит хлебнуть из горькой чаши потерь.
И кто-то из взвода то ли со злобы, то ли от неушедшего страха метнул в танк бутылку с зажигательной смесью. И тот сначала загорелся, а потом зачадил.
Иван, любовавшийся своим танком, который стоял, как памятник, стал материться на дурака, потому что ветер гнал на них дым, который острыми иглами вонзался в пересохшее горло.
Но расслабляться было некогда, гансы поредевшими цепями набегали на них. Вот-вот придётся схлестнуться в рукопашной. И каждый, уже преодолев свой страх, приготовился к этому.
Вдруг над головой Ивана в сторону немцев с улюлюканьем, оставляя дымные хвосты, полетели мины. И там, где только что были танки и пехота, всколыхнулась земля. И все смешалось, и всё горело, и нельзя было различить, где взрыв, а где облако пыли.
Грохот стоял такой, словно тысячи чертей вылезли из преисподней и застучали по земле своими огромными железными молотками.
Всё стихло. Воздух наполнился тишиной. Запах горелой плоти растекался по степи и нестерпимо першил в горле, к нему примешивался тонкий, почти не уловимый вкус полыни.
Когда пыль рассеялась, ни немцев, ни танков и в помине не было. Все с облегчением вздохнули.
«Теперь не сунутся», – подумал Иван.
И отставив винтовку, долго крутил ставшими вдруг непослушными пальцами самокрутку. Ещё дольше пытался поджечь, но она не загоралась. Наконец затлела, и по окопу пополз сизый дымок. Терпкий аромат наполнил сердца умиротворением. Иван подошел к командиру и сказал:
– Пойду до артиллеристов прогуляюсь.
– Зачем? – удивился взводный.
– Земляка проведаю.
Слово «земляк» всегда производило впечатление. На войне земляк, все равно, что на гражданке близкий родственник. Поэтому лейтенант ничего не ответил, а согласно кивнул головой. И при этом, на секунду задержав Ивана за плечо, сказал:
– А здорово ты танк.
Иван дернул плечом, как бы говоря: «Дескать, дело прошлое, чего уж там».
И попыхивая самокруткой, пошел в сторону артиллеристов.
Долго идти не пришлось. Те лежали в ряд в прокровавленных и изорванных гимнастёрках. Никого из лежащих Иван не знал, так пересекались иногда – полк-то один. А тут все они, и пушки ни одной целой, словно огромный великан гнул и рвал непосильное человеческим рукам железо и, наигравшись, разбросал их как попало.
Иван остановился, бросил под ноги, затоптал дотлевающую самокрутку и снял пилотку.
Выравнивая воронку под могилу, трудились бойцы.
Иван понимал, что копать после напряженного боя, когда ни у кого не осталось сил, тяжело, да и хоронить среди чистого поля хороших ребят не следовало. И он поделился своим сомнением с копавшим солдатом.
Тот выпрямился и, опираясь на лопату, раздраженно сказал:
– А куда их? В город, в Сталинград, что ли, везти?
Отмахнувшись от Ивана, продолжил прерванную работу.
Иван понял никчемность своего замечания. И спасибо надо сказать, что хоть так хоронят. Сколько осталось лежать неприбранными, пока отступали. Пойди найди их теперь в этой степи и разбери, кто есть кто.
Война нарушила что-то человеческое внутри всех, когда уже нет дела не то что до другого человека, не то что до соседа по окопу, а до себя самого.
Страх сидел внутри каждого, страх стал состоянием души, привычкой, и от него постоянно ныло и сосало под ложечкой. И это гадливое чувство ломало человека каждый день, каждый час, каждую минуту. И тихий, и спокойный вдруг ни с того ни с сего мог наорать на другого. Война перекорёжила всё: и живое и неживое.
С сожалением, что им теперь не хватает главного, Иван, возвращаясь к себе, говорил, не обращаясь ни к кому:
– Как же мы без артиллерии? Без артиллерии нам совсем худо. Без неё никак нельзя.
А когда пришел в свой окоп, Семён спросил:
– Ну что там?
– Хоронят, – обронил Иван, и сел на приступок.
– Кого?
– Всех!
– Артиллеристов?
– А кого ж ещё.
Семён, посмотревший на смурного Ивана, сказал сочувствующе:
– Не переживай ты так сильно. Что делать – война.
– Да не только в народе дело. Пушек нет. Вот беда.
– Ни одной? – спросил Семён, теребя свой подбородок.
– Всё перекорёжило! – и Иван в подтверждение своих слов сделал вращательное движение рукой.
– Да, – вздохнул Семён, не зная что сказать.
И эта горькая новость пронеслась по окопу и расстроила всех.
Долго и молча курили, переваривая услышанное. Но как быть, никто не знал. Может, к утру появится что-нибудь. Но это что-нибудь надо найти, снять с тихого участка и перегнать сюда. А это время.
С такими мыслями, поужинав без аппетита, Иван собирался заснуть. Но прибежал ротный, подбитый танк не давал ему покоя. И похлопывая по плечу стоявшего перед ним Ивана, сказал:
– Молодец.
Но ему, неожиданно обласканному вниманием начальства, хотелось одного: поскорее улечься и заснуть. Потому что рассказывать про свой геройский подвиг было неохота, тем более что тогда он чуть в штаны не наложил.
Но ротный на радостях, что это его рота подбила танк, особо и не спрашивал, а потрясая пальцем над головой, воскликнул:
– Достоин награды!
С тем и ушёл. Иван подумал, что теперь можно расслабиться, но явился замполит. Понимая, что человек устал и после боя хочет отдохнуть, сказал кратко:
– За танк спасибо, а про партию подумай.
Только после этого Иван лёг и заснул.
Взводный, вернувшийся после того как проводил сначала ротного, а потом замполита, не стал тревожить Ивана. Настроение у него было отличное. Это его взвод подбил танк. Правда, сам он этого не видел, как и все, прятался от танка на дне окопа, но это не важно.
Вот достижение его взвода высится перед окопами, и всем это видно, даже командиру полка, а может, и комдиву. Он даже надеялся, что завтра, когда немцы будут наступать, кто-нибудь из их взвода, а может, он сам, подобьёт ещё один танк. С таким умиротворением в душе взводный заснул.
Но немцы после вчерашнего успокоились и наступать здесь не решились. День прошёл в томительном ожидании.
Когда смерть ходит рядом, любой, повоевавший хоть самую малость, спроси – скажет по каким-то неуловимым приметам, что может случиться завтра. И только под вечер всем стало ясно, что наступило затишье.
Война, все еще продолжая двигаться к своей цели, выбрала другую дорогу.
Где-то вдали гремели взрывы, разрывая степную ровность, и нижняя глинистая земля выбрасывалась наверх. И там, немцы пытались сделать то, что не получилось здесь. Они, как слепые, пробуя на ощупь твёрдость наших бойцов, пытались пробиться к Волге.
Но это был уже не сорок первый год. И наши другие, и немцы не те.
И в том, другом, месте, куда немцы нацелили удар, они не прорвали, продавили нашу оборону и через этот разрыв стали перетекать в тыл. Армия отступила, закопалась в землю и стала ждать.
Вилли
Стоит человеку нарушить устоявшуюся систему, что из поколения в поколение было основой основ, всё рушится, и жизнь выталкивает совсем на другую, неведомую дорогу, по которой предстоит пройти впервые.
Вот так, волею случая он, Вилли Хендорф, рабочий в третьем поколении, стал секретарём суда.
Отец долго не мог с этим смириться, но потом привык. Мать радовалась за него, изредка повторяя:
– Хоть ты теперь не будешь возиться с железом.
Я улыбался, мне и самому интересно копаться в бумажках, нежели, клепая паровые котлы, мёрзнуть на сквозняках.
Но, увы, это продлилось недолго.
В армии неважно, кем ты был, важно, кем ты стал. А Вилли стал первоклассным солдатом. Даже взводный Пирожок это отмечал. А он не тот, что попусту болтает. Не так много людей, о которых он хорошего мнения.
Вдруг вспомнилось, что было год назад. Мы, прошагавшие по всей Европе, принялись обсуждать, когда закончится война против СССР. Фриц Таддикен, тогда еще живой, сказал:
– Всё это кончится через каких-нибудь три недели.
Густ Джозефнер вообще не разговорчивый, но возразил:
– Два-три месяца, не меньше
Нашёлся один, кто считал, что это продлится целый год, это был Адольф Беккер, но мы его на смех подняли. А я сказал ему:
– А сколько потребовалось, чтобы разделаться с поляками? А с Францией? Ты что, забыл?
Он не стал возражать. И никто не стал возражать.
Теперь об этом споре никто не вспоминает. Только я.
Война перевалила на второй год, а мы топчемся на месте. Откуда у русских столько сил и техники?! Всё это проклятые англичане и американцы. Это они заставляют русских воевать. Без них бы война давно кончилась.
Командующий нашей четвёртой армией Бок, просматривая ежедневные донесения и выслушивая доклады офицеров штаба, с горечью сказал своему адъютанту:
– Я вынужден ввести в бой теперь все мои боеспособные дивизии из резерва группы армий. Мне нужен каждый человек на передовой. Несмотря на огромные потери, противник ежедневно на нескольких участках атакует так, что до сих пор было невозможно произвести перегруппировку сил, подтянуть резервы. Если в ближайшее время русским не будет где-либо нанесен сокрушительный удар, то задачу по их полному разгрому будет трудно выполнить до наступления зимы.
Зима, зима. Как дамоклов меч, она нависала над всеми. Тяготила мысли и заставляла содрогаться от воспоминаний о ней.
Зима под Москвой не забудется выжившим. Их хоть и мало, но они есть. Мёрзнуть и отступать. Отступать и мёрзнуть.
Раненый или ослабший умирает быстро. С ним умирает неосуществлённая мечта – согреться.
Мы, пережившие первую зиму, трясёмся от одной мысли, что придётся воевать зимой в мороз.
– Нет, нет, – уговариваем мы себя, – фюрер не допустит повторения этого кошмара. До зимы русские будут разбиты. До зимы ещё есть время. Волга – конец войне, Рождество дома. Сидеть в тёплой комнате у окна, курить сигару и смотреть, как за окном беззвучно падают снежинки.
Но события последних дней настораживают всех: от солдат до генералов.
То расстояние, которое в прошлом году вермахт проскакивал за неделю, теперь растянулось на месяц. И потери. Бесконечные потери. Каждое продвижение вперёд оставляло после себя могилы. Как быстро растёт лес крестов! Каждый день погибают, погибают, погибают…
Часто думаешь: когда придёт твоя очередь? Старых солдат из первого призыва совсем не осталось. Молодые, крепкие и здоровые давно на том свете, их калеченые сверстники в тылу.
Новоприбывшие же смотрели на нас с удивлением и растерянностью.
За то время, что мы то наступали, то оборонялись от наседавших русских, с недельной щетиной, с грязными лицами, почёсывая укушенные вшами места, мы были скорей похожи на чертей из ада, чем на немецких солдат.
Война стареет. Пополнение похоже на отряд пенсионеров. Их сверкающие лысины блестят на солнце, когда они снимают пилотки. Они не выиграют войну. В них нет задора. Им нужно вернуться живыми. У них дома жёны и дети. Им есть к кому возвращаться. Они боятся всего. От взрывов внутри них всё холодеет. Они не смеются, их лица вечно смурны. Каждую секунду они ждут, что их жизнь оборвётся.
Мы презираем их. Они презирают нас. Мы для них – мальчишки. Они для нас – никто.
Каждый день случаются словесные перепалки. Вот-вот дело дойдёт до драки. Так бы и случилось, но дисциплина, как гвоздь, сидит в наших мозгах. Надо бы относиться друг к другу по-другому, ведь кругом война, но не получается ни у них, ни у нас.
У шоссе высокий берёзовый крест обозначает кладбище полка. Он стоит, как живое существо, тихонько поскрипывая. Под ним строго по ранжиру лежат убитые: в центре – полковники, вокруг них капитаны, далее фельдфебели и, наконец, солдаты.
Армия двигается дальше, а ветер грустно позванивает опустевшими касками на низких крестах с именами и фамилиями лежащих под ними. Дорога наших побед покрыта могилами.
Люди из похоронной команды, для которых молоток и гвозди важнее, чем карабин и патроны, уже думали, что армии пора остановиться, иначе она иссякнет раньше, чем доберётся до Волги.
Никогда им не приходилось столько работать. Нехитрое сооружение гроб, а всё равно требует и времени, и материала. Они не успевали, но от них все требовали и требовали.
Те, другие, которые воевали и побеждали, те, другие, не думали о смерти. Да и кто о ней думает. Они рвались к великой реке. Туда, где сбросят русских в воду, там конец войне и их страданиям. Это русские виноваты в их мучениях. Это они, всё они.
Если б кто-нибудь знал, как мы устали. Устали от постоянной опасности, от напряженных маршей по бесконечным степям, устали от жары, от пыли, от жажды.
Даже ночью нам нет покоя. Никто не может представить, как мы боимся русских самолётов. Они будят нас своим стрёкотом и бросают нам на головы маленькие бомбочки. Одной достаточно, чтобы убить одного человека, но русские «швейные машинки», как мы их называем, несут сотню таких бомб. Даже если повезёт и эта этажерка не унесёт на тот свет ни одной души, мы утром встаём как побитые.
Мы ненавидим войну и всё, что с ней связано.
Почему он, Вилли Хейндорф, оторванный от своей работы, от дома, должен страдать наравне со всеми?!
Как чудесно он мог жить, если б не было проклятой войны. А теперь приходится скитаться по ужасной России, и ради чего? Теперь и сам не знает ответа на этот вопрос.
А он как-никак бывший секретарь суда.
Его поражали сослуживцы своим невежеством и отсутствием воображения: они ничего ни про Россию, ни про мир не знают и не хотят знать. У них Пушкин и Лев Толстой коммунисты.
Для них самое важное – пожрать и поспать, он – белая кость. Они посмеиваются над ним, он не обижается. Но всякий раз бегут к нему за советом.
Он первый в своём взводе на повышение. А там глядишь, чем чёрт не шутит, и офицерский чин не за горами. Успеет ли? Война может скоро кончиться. Волга рядом. Волга – войне конец. Правда, есть Москва и Ленинград, но об этом никто не думает. Наша цель – Волга.
Если верить нашей пропаганде, то все русские солдаты убиты. Если это так, то с кем мы воюем.
Фриц Таддикен смеётся:
– Ещё пару раз пропоёт «сталинский орган», и от нас останутся только железные пуговицы.
Наверное, и русским их комиссары говорят:
– У немцев скоро будет некому воевать.
И мы, и русские верим в эту галиматью. Мы на войне, и нам надо во что-то верить. Мы живём слухами, иначе чем ещё жить.
Мысли ни на минуту не покидают меня. Особенно ночью. Находясь в карауле, вышагиваешь из одного конца окопа в другой. Думаешь, что написать отцу, на его повторённый тысячу раз вопрос, когда мы возьмём Сталинград.
Мы ещё не вошли в город. А там, на севере, шестая армия бьётся среди развалин. А мы смотрим на город и не можем не то что войти в него, но и приблизиться. Бои ни на час не затихают. То мы наступаем, то русские. И это ежедневное движение туда-сюда угнетает и выматывает.
В представлении отца Сталинград – город. А это просто груды кирпичей, обгоревших балок, исковерканных, изрешеченных осколками кровельных листов железа. Всё это лежит поперёк улиц.
Мы должны взять эти руины и напиться из Волги. Тут дел на полдня, но нам не удаётся сдвинуться вперёд. Мы ходим злые на себя, на начальство, на русских.
Когда же Сталинград падёт? Когда? Я не знаю ответа на этот вопрос. И никто не знает. И от этого мне хочется, нет, не плакать, а выть. Отец, если б ты знал, как мне тяжело.
Семён
Семён был длинным и худым. Уверенный в себе, ни перед кем не заискивал, а жил своей, ему обозначенной, жизнью.
Перед войной, уже работая помощником председателя колхоза, по осени собрался жениться. Сшил двубортный коричневый шерстяной костюм, купил цветастый галстук, магазинную рубаху и, прилично накопив денег, договорился с завклубом, чтоб осенью справить свадьбу. Так бы всё и было, но началась война.
И он отложил это на послевоенное время. Тогда ему казалось, что война продлится недолго. Он так и сказал Серафиме Степановне – невесте:
– Не переживай сильно. Месяца через два, максимум три, справим свадьбу.
Она поверила ему. Все, как и он, думали, что быстро управимся с немцем. До зимы уж точно. Но война тянулась уже второй год и конца ей не было видно. Поэтому невесте он писал часто, а матери от случая к случаю.
Семён был комсомольцем. В нем сидело понимание того, что дело должно быть сделано им или кем-то другим, но сделано, и не просто так для галочки или проформы, а крепко и основательно.
Твёрдая крестьянская жилка была видна во всём. Это при нем, его стараниями во взводе появились нормальные лопаты и даже пара топоров, потому что без топора нельзя.
– Ну куда мы без топоров. Без топоров мы как без рук, – любил повторять он.
Сапёрные лопатки не жаловал.
– Ими только в носу ковырять да немца по голове трескать, чтоб скорей в беспамятство приходил.
И пила, и лом – всё это взялось словно ниоткуда, а точнее, было взято у сапёров на полчаса, да вернуть забыли. Так и прижился инструмент у новых хозяев. И хоть таскать его с места на место было накладно, зато он сколько раз выручал взвод.
А Семён где-то в разорённой деревне подобрал отбойник, молоток и оселок. Этим нехитрым инструментом Семён приспособился мастерить ножи. Найдёт подходящую железку, на костре разогреет и потихоньку молоточком на отбойнике оттягивает. Через неделю, глядишь, ручку ладит. Нельзя сказать, что вещь выходила загляденье, но крепкая и удобная.
Весь взвод обеспечил ножами. Не задаром. Кто что даст: кто пачку махорки, кто галеты, кто тушёнку.
Ножи-то он стал делать по старой памяти, ведь отработал месяц молотобойцем в колхозной кузне. И хоть человек он был старательный, кузнец сразу определил его предназначение:
– Нет, малый, ты не кузнец, не нашей ты породы, тебя к механизмам тянет, а не к нашей работе. Ты хоть сто лет стучи, а кузнецом не станешь. Металл, он понимание любит, а ты не туда смотришь.
Семён и сам это чувствовал, а потому не обижался.
И если случалось трактору или автомобилю остановиться возле кузни, он, как завороженный, ходил вокруг тарахтящей техники, вдыхал казавшийся волшебным запах бензина и с уважением смотрел на водителей.
Так у него появилась мечта стать трактористом. И он её бы осуществил, но началась война. Но и здесь, если была возможность поговорить с водителем, он обязательно это делал.
И хорошо, если попадался обстоятельный человек, с которым и побеседовать одно удовольствие, но чаще встречались водители, не любившие своё дело, недовольные всем: и войной, и машиной, и начальством, а главное дорогами, вернее, их отсутствием. Для них автомобиль обуза, а не радость.
Но Семён был не такой, работу он любил. И всё, за что ни брался, выходило у него ладно.
Нож с выжженной гвоздём на рукоятке неровной надписью «Другу Ивану во второй год войны» подарил просто так.
– Бери, – сказал он, подавая нож. – Мужик ты дельный. Пригодится. А дураку что ни дай, всё одно толку не будет.
На кого он намекал, понятно без подсказки. Есть во взводе такой человечек. Это про него Семён любил повторять вслух смеясь:
– Гришка против меня куда там, боевитее и шебутнее. Первый парень в нашем взводе. Такого героя немец увидит, до самого Берлина драпать будет.
От него только непорядок, а больше ничего. А непорядок терпеть Семён не мог, у него-то, как говорится, все чин по чину. Его вид всегда радовал начальство своей опрятностью, лицо – невозмутимым спокойствием и исполнительностью, а умением схватывать мысль вышестоящих на лету радовал вдвойне.
Когда немцы взялись наступать, ему, как и всем, стало страшно. А грохочущие танки, что вот-вот наползут, раздавят и расплющат, напугали своим количеством.
И захотелось выскочить из окопа и бежать куда глаза глядят, главное, отсюда подальше. Но посмотрел на спокойно стоящего Ивана, и сердце стало биться ровнее, застыдился своей минутной слабости. Оглянулся на Гришку, тот неистово крестился. И Семён со злорадством подумал:
– Что ж от тебя страх бог не отгонит.
А вслух добавил иронично:
– Эх ты, христово племя.
Потом, забыв про всех, вскинул винтовку и стал, старательно целясь в бегущие серые пятнышки, стрелять.
Иногда пятнышки исчезали. И непонятно, упал немец навсегда или, распластавшись в высохшей траве, зажав рану, зовёт санитара.
И злость овладела им, и забыл он про свой страх и про всё на свете. Виделась ему Серафима Степановна, и хотелось к ней теперь, сейчас. Но разве так получится?!
А гансы бегут, торопятся так, словно ничего не боятся. И нет для них смерти на этом свете.
И наша артиллерия заработала, и там народ делал своё дело старательно. Танки, после того как несколько штук задымили, хоть и ползли в их сторону, но не было в них той абсолютной уверенности, которая бывает в начале боя.
А когда многие наелись снарядов так, что больше не сдвинулись с места, остальные повернули обратно.
И возликовал Семён, и все возликовали. И чадящие танки вызвали у него в душе детскую радость. И он, никого не стесняясь, кричал вслед убегавшим фрицам:
– Что, сосисочники, кишка тонка? И шнапс не помогает!
И все засмеялись. Так смеются после тяжёлой кровавой работы, когда страх кончился и эту пустоту внутри каждого замещает смех.
А после успокоились и сели отдыхать. И хотелось, чтоб немец сегодня не наступал. Но бог не слышал их молитвы, и все повторилось. И страх в начале, злость в середине и смех в конце. Только сил становилось всё меньше и меньше.
От сверхчеловеческого напряжения к вечеру, когда всё утихло, едва-едва таскали ноги. И только одно порадовало Семёна – подбитый Иваном танк. И он сказал так, словно сам это сделал:
– Ну ты, Иван, герой.
Помолчал и добавил:
– Да.
Иван отмахнулся, хотя и самому было приятно. Он ходил немного важный, и его слух ласкали слова похвалы.
Но усталость, усталость, не столько физическая, а скорей, от сверхчеловеческого напряжения и страха, давала о себе знать.
Только сон мог спасти измученные души. И они заснули. На каждом лице светилась улыбка. Чему они улыбались – то ли своей маленькой победе, то ли снившимся родным.
Но летние ночи коротки, а военные ещё короче. А усталость после тяжёлого боя такова, что хоть тысячу лет спи, все одно не отдохнёшь.
И встали утром, как после большой пирушки. Головы ещё плохо соображали, ходили смурные и смотрели за бруствер с мыслью:
– Не собрались ли гансы повторить вчерашнее?
Но гансы вели себя тихо. И это спокойствие немцев порадовало всех. И взводный, пробегая мимо, спросил:
– Как думаешь, Семён, не полезут здесь немцы?
– Думаю, нет.
– И я так думаю.
И обрадованный лейтенант, поглядывая на подбитый танк, как на памятник геройству его взвода, побежал дальше по своим делам. А Семён, тоже не зная, почему двинулся за ним, и, наткнувшись на стоящего без дела Григория, спросил с иронией:
– Что там твой бог говорит, когда война кончится?
– Когда победим, тогда и кончится.
– Не скоро, – почёсывая затылок, нерадостно произнёс Семён.
И желая продолжить разговор, спросил:
– Как настроение?
Гришка молчал. Семён понял, что дальнейшего разговора не предвидится, а поговорить хотелось, пошел искать Ивана.
Но судя по помятому виду, а другого после вчерашнего ни у кого во взводе не было, Ивану не до болтовни.
Семён потоптался, развернулся и пошел на своё место.
Пойти бы погулять, да куда. Только высунь голову, на неё всегда найдётся охотник. И будешь лежать с дыркой в голове.
Семён успокоился, присел, и на него нахлынули воспоминания, и так ему стало тоскливо, что хоть плачь, хоть вой. Хорошо бы занять себя чем-нибудь, чтобы отвлечься от горьких мыслей. Но с другой стороны, ничего делать не хотелось, да и просто валяться с открытыми глазами надоело. Сонное настроение кончилось, а наступившее затишье расслабляло.
И всем, даже лейтенанту, захотелось, чтобы этот день прошел тихо. И он действительно прошёл тихо.
Но верхнему начальству тишины и покоя не хотелось, вот они и выдумали наступление. Ещё и приказ не написали, а уж до взвода докатилась эта весть.
И надо сказать правду, никого не обрадовала. Сидеть в окопе – это одно, а бежать по чистому полю, когда осколки и пули несутся тебе навстречу, и не просто несутся, а в каждом таится смерть, – это совсем другое.
Поэтому Семён спросил оказавшегося перед ним взводного, надеясь услышать обратное:
– Завтра наступаем?
Сашок остановился, посмотрел себе под ноги и сказал, пожимая плечами:
– Приказа пока нет.
Видно, и лейтенанту завтра тоже не сулило ничего прекрасного. В таком наступлении не то что орден, а и медаль не заработаешь.
Это первыми в какой-нибудь город ворваться, тут все ясно – наградят не думая. Глядишь, и повышение досрочно будет.
А когда в чистом поле наступаешь, и награждать вроде не за что. На сто метров отгонишь немца или на двести, ничего не изменится. Да и на карте это почти незаметно. Поэтому на награды не рассчитывай.
Ещё потоптавшись на месте, пошёл Сашок дальше.
Семён достал из вещмешка почти готовый нож и стал точить на оселке. Другого занятия он себе не придумал, а тупо ничего не делать не мог. Мысль о завтрашнем наступлении не давала покоя, нагоняла страх, и чтоб хоть как-то отвлечься, он занялся привычным делом. Это слегка успокоило. Но совсем оторваться от предстоящего завтра не получалось. И эта перемена в лице Семёна была заметна всем. И Иван спросил его:
– Ты, малый, не заболел часом?
Но Семён лишь отмахнулся. Иван подумал, что воспоминания о доме нахлынули на человека. С каждым такое бывает. И в такой момент лучше не трогать, не теребить и без того изболевшую душу, а дать человеку побыть одному с воспоминаниями о доме, о родных. Ведь в этой боли есть и радость: ты хоть и мысленно, а встречаешься с теми, кого любишь.
Утром, перед наступлением, когда наши танки, перемахнув окопы, поползли вперёд, всё внутри Семёна похолодело. Но пересилив страх, подмигнул Ивану и изобразил на лице подобие улыбки. Хотел сказать ободряющее для себя и других, но слова застряли в горле, во рту всё пересохло. И понял, что тянуть больше нельзя, выбрался из окопа и, обдаваемый солярным дымом, побежал за танком.
В другой бы раз он порадовался этому, но сейчас, сейчас… И вдруг у бегущих без всякой команды почти одновременно вырвался крик:
– Ура!
И, слившись в единый звук, это слово придавило страх.
За лязгом и грохотом танков не было слышно ни свиста пуль, ни лая пулемётов.
Иногда танк останавливался и, грохоча выстрелом, откатывался назад и снова начинал своё движение.
И Семёну стало казаться, что скоро они добегут до немецких позиций, и хорошо бы немцы убрались из своих окопов, потому что встречаться лицом к лицу с ними совсем не хотелось, а верней, было страшно. Одно дело ты стреляешь в непонятно что, и это что далеко от тебя, другое – лицом к лицу. И его надо убить, или он убьёт тебя. И не просто убить, а убить глаза в глаза.
Немцу тоже, наверное, страшно, может, даже страшней, чем ему.
Раздался грохот, лязг прервался. Танк вдруг качнулся, остановился, и башня, подпрыгнув, как лягушка, грохнулась о землю. Полуоглушённый взвод распластался рядом.
Первым поднялся Сашок, следом Иван, потом он, после Гришка и все остальные.
Хорошо бы отряхнуться, но надо бежать. Если стоять, то никого в живых не будет. И они побежали. Без танка бежать страшно. Казалось, все, что летело с немецкой стороны, доставалось им, только им.
И Семён уже разглядел лицо фашиста и возненавидел его. И с той злостью, с которой он бежал вместе со всеми, доберись он до живого немца, порвёт его в клочья.
И когда до окопов оставалось совсем ничего, вдруг, как деревья, выросли разрывы снарядов.
Сердце Семёна от испуга опустилось в пятки. И вдруг что-то больно толкнуло в живот, в грудь, в голову. И сам того не сознавая, воскликнул:
– Господи!!! Мама!
Остановился, как будто наткнулся на непреодолимое препятствие, согнулся, так и упал. Несколько раз дёрнулась левая нога, словно продолжала куда-то бежать. И затихла.
И понеслась комсомольская душа куда-то ввысь. А все страхи, все боли, все горести и радости – всё, чем наполнена человеческая жизнь, остались на земле.
Говорят, что смерть обходит человека раз, другой, ну а в третий ее точно не избежишь. Вот так и случилось с Семёном, не обошла его смерть. Вонзилась в него.
И вздрогнуло материнское сердце в далёком семёновом селе. Но она, отгоняя эту страшную мысль, два раза перекрестилась, стала на колени перед иконой и просила Богородицу о здравии сына. Ей казалось, что женское сердце заступницы скорей её поймёт, чем мужское Иисуса Христа. Хоть и слова были те же самые, хоть и повторённые тысячу раз, но не звучали они как обычно. И всё оттого, что на душе было неспокойно. И от этих волнений всё стало валиться из рук.
И пошла к Серафиме.
Но та была невозмутима. Это рассеяло страхи, вернулась к себе и стала опять молиться. Но молитвы не успокаивали.
Промаявшись, легла спать. Долго не могла заснуть, а потом словно провалилась в пустоту. И сон, раскинув над её головой своё бесконечное разноцветье, до утра успокоил растревоженную душу.
Начислим
+12
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе