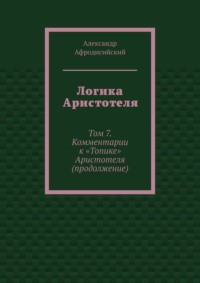Читать книгу: «Логика Аристотеля. Том 7. Комментарии к «Топике» Аристотеля (продолжение)», страница 3
Также можно показать, что невоздержанность не есть порок, ибо противоположное ей – воздержанность – не подпадает ни под порок, ни под противоположное ему – добродетель (ибо воздержанность не есть добродетель из-за дурных влечений). Но и добродетель не есть знание, ибо порок не есть невежество.
стр. 123b8 Далее, если вообще противоположное виду не подпадает ни под какой род, но само есть род.
Он предлагает ещё один способ: исследовать, не противоположно ли взятому как виду что-либо. Ибо если противоположное взятому как виду не подпадает ни под какой род, то и само взятое как вид не может быть в роде. Ибо если у противоположных одно не подпадает ни под какой род, то и другое не подпадает ни под какой род. Поскольку противоположное либо в одном и том же роде, либо в противоположных родах, либо само есть род, как сказано в «Категориях».
Поскольку благо не есть в каком-либо роде, но само есть род, то и зло не может быть в каком-либо роде. Принято называть и благо, и зло родами, хотя и омонимично, как показано в «Этике».
Примерами противоположных как родов могут быть действие и претерпевание: они противоположны, но не подпадают ни под один род, ни под противоположные роды. Ибо они вообще не подпадают ни под какой род, но сами суть роды в первых десяти [категориях].
Отсюда можно, обратив рассуждение, показать, что лишение не противоположно виду. Ибо если вид – в сущности, а лишение – ни в каком роде (ибо просто не-сущее не может быть в каком-либо роде), то лишение не может быть противоположно виду, поскольку сущности ничто не противоположно, под которой был вид.
стр. 123b12 Далее, если и роду, и виду что-то противоположно.
Если и виду, и взятому как его роду что-то противоположно, он говорит, что нужно исследовать, не противоположны ли виды друг другу так же, как и роды. «Так же» означает, что оба относятся к непосредственным противоположностям или к опосредованным. Ибо если у одних есть нечто среднее, а у других нет, то не покажется, что взятые как виды подпадают под взятые как роды.
Ибо общепринято, что среднее одинаково относится к обоим, как в случае справедливости и несправедливости, добродетели и порока: каждая из этих противоположностей имеет среднее.
Если у родов есть нечто среднее, а у подпадающих под них видов уже нет, то под что будет подпадать среднее между родами? Ибо оно, если есть, должно сказываться о чём-то (оно ведь не есть нечто неделимое). Но о противоположных видах оно сказываться не будет, ибо противоположные роды сказываются о них.
Если же у видов есть нечто среднее, а у родов уже нет, то под какой род будет подпадать среднее между противоположными видами? Не под один из противоположных родов, ибо противоположные виды подпадают под них.
Возражение против этого способа как только правдоподобного, но не истинного, состоит в том, что между здоровьем и болезнью нет среднего, а между благом и злом как противоположными родами, под которые подпадают здоровье и болезнь, есть нечто среднее – то, что ни благо, ни зло.
Но здесь следует понимать благо и зло телесные, а не омонимичные. Ибо у них есть средние: например, хорошее и дурное состояние тела (первое – благо, второе – зло) имеют среднее – здоровье. Также красота и безобразие, сила и слабость. Но они не суть роды для рассматриваемого, и средние между ними не суть отрицания крайностей, как в случае блага и зла.
стр. 123b18 Далее, если есть нечто среднее между обоими.
Он говорит, что нужно также исследовать, есть ли нечто среднее как между противоположными родами, так и между противоположными видами, и одинаково ли оно у них. Ибо если не одинаково, а у одних среднее обозначается отрицанием крайностей, а у других – утверждением, то одни не будут подпадать под другие как под роды.
Ибо общепринято, что среднее одинаково относится к обоим, как в случае добродетели и порока, справедливости и несправедливости: в обоих противоположностях среднее обозначается отрицанием крайностей.
Но и здесь может быть возражение: между славой и бесславием среднее обозначается утверждением, как сказано ранее: «Средним я хочу быть в городе». Также среднее зрение – между близорукостью и дальнозоркостью – обозначается утверждением. Подобно и средний слух – между острым и тугим. А у блага и зла, под которые они подпадают как роды, среднее обозначается отрицанием.
стр. 123b23 «Далее, когда роду не противоположно что-либо.
Сказано, что если виду противоположно что-либо, а роду уже нет, то и противоположное данному виду должно находиться в том же роде. К этому он добавляет, что не только противоположные [вещи] должны быть под одним родом, если роду ничего не противоположно, но и то, что между ними, если есть что-то среднее между ними. Ибо в каком роде находятся крайности, то есть противоположности, в том же [роде] и их середина, если, конечно, середина есть смешение противоположностей. Так, под одним родом находятся белое и черное, а также промежуточные между ними цвета, ибо род всех их – цвет. Подобно этому, вкус есть род, когда сладкое и горькое противоположны, а все промежуточные между ними также относятся к этому роду. Таким образом, можно показать, что кривизна не есть род округлого: ибо если выпуклое и вогнутое, будучи противоположностями, подчинены округлому, а среднее между выпуклым и вогнутым (что бы это ни было – прямое или иное) уже не подчинено округлому, то и округлое не будет их родом. Возражение против этого места [рассуждения] таково: в случае нравственных добродетелей избыток и недостаток, будучи противоположными друг другу, подчинены пороку, а добродетели, будучи их серединой, подчинены другому роду – добродетели. Или же [можно сказать], что этим [добродетелям] присуще не только быть серединой, но и быть противоположными обеим крайностям. Например, в случае большого и малого, где одно есть избыток, а другое – недостаток, их середина – равное – находится под тем же родом. То же и с цветом, вкусом или другими подобными [категориями]: если есть избыток и недостаток, то и их середина подчинена тому же роду. Далее, собственно середина как смешение крайностей по необходимости должна быть под тем же родом, что и крайности. Но добродетель не такова в отношении пороков, ибо «середина» здесь говорится омонимично: ведь и в круге серединой называется центр, а в терминах – средний [термин], который подлежит одному и сказывается о другом, или вообще дважды принимаемый в соединении предпосылок. Кроме того, предполагалось, что роду ничего не противоположно; но порок, будучи родом для недостатка и избытка, имеет противоположность – добродетель.
стр. 123b30 «Надо также рассмотреть, не противоположно ли что-либо роду, но не противоположно виду.
И это место [рассуждения] также исходит из противоположностей. Всегда следует проверять, не противоположно ли что-либо предполагаемому роду, но не противоположно виду: ибо не будет родом то, что приписано виду, не имеющему противоположности. Противоположные роды суть роды противоположных видов, например, добродетель и порок противоположны, справедливость и несправедливость тоже; но не наоборот, ибо противоположные [вещи] могут быть под одним родом. Так, поскольку гармония противоположна дисгармонии, а душе ничто не противоположно, то душа не есть гармония, как пытался доказать Платон в «Федоне». Таким же образом можно показать, что начало не есть род элемента, ибо если началу противоположен конец, а элементу ничто не противоположно, то [начало не его род]. Также пустота не есть род места, ибо пустоте противоположна наполненность, а месту ничто не противоположно. И время не есть движение, ибо движению противоположен покой, а времени ничто. И если нетленному противоположно тленное, а Богу ничто не противоположно, то нетленное не будет родом Бога. Возражение против этого общепринятого места [рассуждения] он приводит на примере здоровья и болезни. Вообще здоровье противоположно болезни, но из того, что подчинено болезни или здоровью, ничто ничему не противоположно: например, лихорадка – болезнь, и пневмония, и глазная болезнь не имеют противоположностей. Или же здесь противоположность безымянна: ведь здоровье в каждом из этих случаев [разное].
стр. 124a1 «Итак, при опровержении следует рассматривать [вопрос] столькими способами.
Перечислив несколько мест [рассуждения] от противоположностей (ибо он изложил их), затем говорит, что все они годны для опровержения, но только три из них полезны и для построения, которые и излагает. Первый из упомянутых требует, если роду ничего не противоположно, а виду противоположно, чтобы оба противоположных [вида] были под одним родом. Ибо если это установлено, то, показав, что предполагаемому роду ничто не противоположно, а противоположное искомому виду есть в этом роде, будет доказано, что и искомое подчинено тому же роду: если противоположное в этом [роде], то ясно, что и оно [там же]. Например, поскольку многое противоположно малому, а род многого – множество, и множеству ничто не противоположно, то и для малого родом будет множество. Второе полезное для построения место от противоположностей он излагает как место от средних: если среднее между противоположностями находится в некотором роде, то и противоположности будут в том же роде. Но надо понимать, что он берет среднее в собственном смысле – то, что возникает через смешение противоположностей. В каком роде находится средний звук, в том же и высокий с низким; в каком [роде] серый, в том же белый и черный. Но не так, что мужество [находится] в том же [роде], что и дерзость с трусостью, ибо добродетели не суть середины пороков как их смешение. Третье место для построения таково: когда и предполагаемому как виду, и предполагаемому как роду что-то противоположно, надо, говорит он, исследовать, не находится ли противоположное искомому в противоположном роде. Ибо если противоположное в противоположном [роде], то и искомое в роде, противоположном тому. Например, если исследуется, не есть ли асимметрия род болезни, то, показав, что симметрия, противоположная асимметрии, есть род здоровья, которое противоположно болезни, мы докажем, что и болезнь есть асимметрия.»
p. 124a10 Снова о падежах и о соотнесенных [формах].
Подобно тому как для проблем, [исходящих] от привходящего, он передал некоторые опровергающие и доказывающие топы, [исходящие] от падежей и от соотнесенных [форм], так же и для проблем, [исходящих] от рода, он передает некоторые топы от этих же самых [источников]. Ведь топы от соотнесенных [форм] являются общими и наиболее подходящими для всего.
Если род чего-либо дан, то необходимо, чтобы и соотнесенные [формы] рода были родами для соотнесенных [форм] вида. И если это так, то [положение] будет доказано; если же нет, то опровергнуто.
Ведь если данное как род одинаково следует за данным как видом и падеж рода – за падежом вида, то можно доказать, что данное как род действительно является родом. Например, падежом великодушия является «великодушно», а бесстрастия – «бесстрастно». Если «великодушно» – это «бесстрастно», то и великодушие – это бесстрастие. Но первое [верно], следовательно, верно и второе.
Снова мы опровергаем от падежей так: пусть требуется показать, что широта – не род быстроты. Возьмем непрерывный [силлогизм] от падежей: если широта – это быстрота, то и «широко» – это «быстро». Но «широко» – не «быстро», ибо правильно скорее «широко», а не «быстро». Следовательно, и широта – не быстрота.
Опять же, если неотесанность – это необразованность, то и «неотесанно» – это «необразованно». Но «неотесанно» – не «необразованно», а скорее «неумело». Следовательно, и неотесанность – не необразованность.
И если удовольствие – благо, то и «приятно» – это «благостно». Но «приятно» – не «благостно», ибо испытывать приятное – значит испытывать постыдное и дурное. Следовательно, и удовольствие – не благо.
И так – от падежей.
От соотнесенных [форм] мы доказываем так: соотнесенными называются такие [слова], как «мужество», «мужественный», «мужественно», «по-мужественному». Ибо и падеж «мужественный» находится среди соотнесенных [форм]. Поэтому топы от соотнесенных [форм] включают и топы от падежей, и сам [этот метод].
В примерах он использовал одно и то же для всех.
Подобным образом соотнесены «справедливость», «справедливый», «справедливо», «справедливое».
Итак, желая показать, что справедливость подчинена как вид добродетели, [возьмем] ее соотнесенные [формы]. Например, если «справедливое» – это «добродетельное», и «справедливо» – это «добродетельно», и «справедливый» – это «добродетельный», то и «справедливость» – это «добродетель».
Таким образом мы доказываем.
А опровергаем так, что удовольствие не подчинено полезному: если удовольствие – полезное, то и «приятно» – это «полезно», и «приятное» – это «полезное». Но «приятное» – не «полезное». Следовательно, и удовольствие – не полезное.
Или, если какое-то из соотнесенных [слов] противоречит более явно, возьмем его и покажем через него, что удовольствие – не полезное. Ведь все соотнесенные [формы] должны следовать одинаково.
Если удовольствие не полезно, то ясно, что оно не может быть и подчинено как вид.
Снова соотнесенные [формы]: «справедливость», «справедливое», «справедливый», «справедливо» – и «знание», «знаемое», «знающий», «знающе».
Если знание – род справедливости, то и «справедливое» должно быть подчинено «знаемому», и «справедливый» – «знающему», и «справедливо» – «знающе».
p. 124a15 Снова о том, что находится в подобном отношении друг к другу.
Этот топ подобен топу от соотнесенных [форм].
Ведь если некоторые [вещи] находятся в подобном отношении друг к другу, то если одно из них является родом другого, то и другое будет родом первого.
Например, поскольку «приятное» находится в таком же отношении к удовольствию, как «полезное» – к «благу» (ведь как «приятное» производит удовольствие, так и «полезное» могло бы производить благо), или, наоборот, если благо – род удовольствия, то и полезное будет родом приятного.
Это можно выразить и через аналогию.
Если, как благо относится к полезному, так удовольствие относится к приятному, то, переставляя, как ведущее [благо] к ведущему [удовольствию], так и следующее [полезное] к следующему [приятному].
Так что, как благо относится к удовольствию, так полезное относится к приятному.
Следовательно, если благо – род удовольствия, то и полезное будет родом приятного.
Однако сам [автор] не использовал аналогию, но привел утешение для доказываемого.
То, что полезное будет родом приятного, он утешительно пояснил, сказав: «Ясно, что оно будет производить благо, раз удовольствие – благо».
Ибо если удовольствие – благо, то его производящее (а это – приятное) будет производить некое благо.
А все, что производит благо, – полезно и подчинено как вид полезному.
Этот топ годится и для доказательства, и для опровержения.
Ведь если удовольствие не подчинено как вид благу, то и приятное не будет подчинено полезному.
И если, как упражнение относится к здоровью, так обучение – к знанию, но упражнение не подчинено обучению, то и здоровье не будет подчинено знанию.
p. 124a20 То же самое и относительно возникновений и уничтожений.
Он передает топы.
Ведь если возникновение чего-либо подчинено как вид возникновению другого, то и возникающее через него будет подчинено как вид тому, что возникает через производящий род.
То же рассуждение и об уничтожениях.
От возникновения (так): если строить – это действовать и быть подчиненным действию, то и построенное – это осуществленное и подчинено ему.
И если учиться – это припоминать и быть подчиненным как вид припоминанию, то и выученное будет подчинено припоминанию, как сказал Платон, называя учения припоминаниями.
Он принимает «строить» и «учиться» как возникновения: первое – строящегося, второе – учащегося.
Хотя строго говоря, строительство – это [возникновение] строящегося, а обучение – учащегося.
И сказанное можно выразить так: если «строить» имеет родом «действовать», то и «построенное» – «осуществленное».
И если учения – это припоминания, то и выученное – это «припомненное».
Кажется, примеры, которые он использует, подходят и к топам от соотнесенных [форм].
Ведь «строить» соотнесено с «построить», и «действовать» – с «осуществить».
Примером сказанного могут быть и такие [случаи]: если возникновение справедливости – не обучение, то и справедливость – не знание.
Но первое [верно], следовательно, и второе.
Так можно показать, что и ощущение не подчинено как вид знанию.
Ведь если возникновение ощущения – по природе, а возникновение знания – не по природе (ибо через обучение), то ощущение не будет знанием.
Ясно, что этот топ годится и для доказательства.
Ведь если возникновение геометрии – обучение, то и геометрия будет знанием.
Топ от уничтожения таков: если «разрушаться» – это «уничтожаться», то и «разрушенное» – это «уничтоженное», и «разрушение» – это «уничтожение».
Ведь «разрушаться» относится к «разрушенному» так же, как «уничтожаться» к «уничтоженному».
Так что, если одно – род другого, то и другое будет родом первого.
стр. 124a24 И относительно порождающих и разрушающих [способностей] – подобным же образом.
Он говорит, что так же, как [строятся рассуждения] на основании возникновения и уничтожения, можно строить их и на основании порождающих и разрушающих [способностей], а также на основании сил, употреблений и вообще всего, что имеет какое-либо сходство. Ведь рассуждения, построенные на всех таких [основаниях], подобны, но не тождественны. Возникновение – это такой вид изменения, а порождающее – причина такого изменения. То же самое относится к уничтожению и разрушающему. Можно сказать, что все подобные вещи имеют сходство друг с другом и по аналогии: как возникновение относится к возникшему, так действие – к совершенному действию; и как уничтожение – к уничтоженному, так разложение – к разложившемуся; и как разрушающее – к уничтожению, так разлагающее – к разложению. Поэтому если одно подчинено другому, то и другое будет подчинено другому.
Так же сила относится к способности, как и состояние – к расположению. Следовательно, если сила по роду есть состояние, то и способность будет расположением.
Далее, как употребление относится к использованному, так и деятельность – к осуществлённому.
Все эти [отношения] подобны, поскольку они отнесены к чему-то одному: порождающее – к возникающему, возникновение – к возникшему, уничтожение – к уничтоженному, сила – к способному, употребление – к использованному, и так каждое из подобных [понятий] имеет отношение к чему-то. Поэтому и рассмотрение во всех случаях будет подобным и взаимосвязанным: все они могут быть выведены друг из друга по одному и тому же склонению.
Если разрушающее есть разлагающее, то и уничтожаться – значит разлагаться, а уничтожение – разложение. Подобно, если порождающее есть производящее, то и возникать – значит производиться, а возникновение – производство. И если что-то из этого не так, то и остальное тоже не так.
Все эти топы похожи на топы из соподчинённых [понятий], как было сказано ранее.
стр. 124a32 И если употребление чего-то есть деятельность.
Если пользоваться разумом значит действовать, и это подпадает под деятельность как род, то и использование разума будет подпадать под осуществлённое действие как род.
Подобно, если употребление добродетели (то есть деятельность или использование добродетели) есть действие, то и использование добродетели – осуществлённое действие.
стр. 124a35 Если же противоположное по виду есть лишение, то опровергать можно двояко.
Ранее он изложил топы, основанные на противоположностях (ибо если что-то противоположно по виду или по роду, то это служит и для опровержения, и для доказательства), а теперь излагает [топы], основанные на других противоположностях, и прежде всего – на противоположностях по наличию и лишению.
Он говорит, что есть два опровергающих топa, основанных на противоположностях по наличию и лишению. Первый из них таков: если противоположное есть лишение и лишение подпадает под какой-то род как вид, а наличие также подводится под него как ближайший род, то предложенный род не может быть родом для наличия.
Ведь лишение вообще не находится в том же роде, что и наличие, или, во всяком случае, не в ближайшем роде.
Если зрение есть в ближайшем роде – чувственном восприятии, то невозможно, чтобы слепота, будучи его лишением, также находилась в чувственном восприятии.
И если слепота находится в ближайшем роде – отсутствии восприятия, то невозможно, чтобы зрение находилось в отсутствии восприятия.
Таким образом, мы докажем, что незнание не есть род для наличия: ведь наличие есть род знания, а незнание – его лишение.
Однако в неродственном роде наличие и лишение могут находиться вместе.
Так можно показать, что порок не есть лишение добродетели, поскольку их ближайший род различен.
стр. 124a39 Во-вторых, если лишение противоположно и по роду, и по виду.
Второй опровергающий топ, основанный на лишениях, таков: если предполагаемое лишение противоположно и по роду, и по виду, но лишение, противоположное по виду, не подпадает под лишение, противоположное по роду, то предложенный род не будет родом для рассматриваемого [понятия].
Считается, что если противоположное находится в противоположном, то и противоположное должно находиться в противоположном, как и в случае контрарных [противоположностей].
Например, зрение находится в чувственном восприятии, поскольку слепота – в отсутствии восприятия.
Но зрение уже не находится в знании, поскольку и слепота не находится в незнании, которое есть лишение знания.
Таким образом, опровергать на основании лишений можно двояко, а доказывать – одним способом: если противоположное находится в противоположном, то и противоположное будет находиться в противоположном.
Если слух находится в чувственном восприятии, то и глухота – в отсутствии восприятия.
стр. 124b7 Далее, в случае отрицаний следует рассматривать обратное, как говорилось о случайном.
Он переходит к противоположностям по противоречию и показывает, как на основании противоречия можно доказать род.
Обратно, говорит он, следует брать в топах, основанных на противоположностях по противоречию, как уже было сказано, когда речь шла о случайном.
Излагая в первой книге доказательный топ, основанный на противоречии, для случайного, он сказал так:
«Поскольку противопоставлений четыре, следует рассматривать из противоречий обратно, из следования и уничтожения, а из других противопоставлений – как в случае контрарных [противоположностей], и так строится доказательство».
Теперь он напоминает об этом, показывая на примере, как это делается обратно.
Если, например, положено, что удовольствие есть благо, то есть находится в роде блага, то следует обратно, исходя из отрицания блага (которое было предложено как род), приложить к нему отрицание удовольствия.
Если удовольствие есть благо, то не-благо не должно быть удовольствием.
Причину этого он объясняет, говоря:
«Невозможно, если благо есть род удовольствия, чтобы не-благо было удовольствием.
Ибо если бы что-то не-благо было удовольствием, то уже не всякое удовольствие подпадало бы под благо, и тогда благо не было бы его родом».
Но неверно, что не-благо не есть удовольствие: ведь есть не-благое удовольствие.
Следовательно, благо не есть род удовольствия.
Таким образом можно показать, что если родом блага является похвальное, то не-похвальное не есть благо.
Но есть не-похвальные блага, такие как здоровье, сила, богатство.
Опровергая, мы начинаем с того, что хотим опровергнуть:
«Если удовольствие есть благо, то не-благо не есть удовольствие».
Но второе [утверждение] ложно, ибо не-благо может быть удовольствием.
Следовательно, и первое [утверждение] ложно, а именно – что благо есть род удовольствия.
Доказывая же, мы исходим из обратного тому, что хотим доказать.
«Если не-добродетель не есть мужество, то мужество есть добродетель».
Первое [утверждение] истинно, следовательно, истинно и второе.
Поэтому опровержение будет строиться на втором, недоказуемом [утверждении], а доказательство – на первом.
Доказательное рассуждение правдоподобно, но не необходимо: ведь если верно, что не-белое не есть лебедь, то из этого ещё не следует, что белое есть род лебедя.
Поэтому этот топ более точен для случайного, чем для рода.
p. 124b15 Если же вид относится к категории относительного.
Он переходит к противоположным случаям в категории относительного и из этого выводит несколько топов. Первый таков: если то, что принимается за вид, относится к какому-либо роду относительного, то и род должен быть относительным. Следовательно, если приписываемый род не является относительным, а вид – относительным, то принимаемое за его род не будет родом. Ведь у относительного и роды считаются относительными. Например, двойное, будучи относительным, подпадает под многократное, которое само является относительным, и знание, будучи относительным, подпадает под мнение, которое также относится к относительному. Однако количество не есть род равного, потому что равное – относительное, а количество – не относительное. Он говорит, что если вид – относительное, то и род должен быть относительным, но если род – относительное, то не обязательно, чтобы и вид был относительным. Например, знание, будучи относительным, является родом грамматики, геометрии, музыки, ни одна из которых не является относительной. Этот топ полезен только для опровержения: ведь не обязательно, если оба взятых понятия относительны, одно должно быть родом другого, как в случае знания и двойного. Возражение против этого топа состоит в том, что если вид относительный, то и род должен быть относительным, что неверно: ведь добродетель, будучи относительной, подпадает под прекрасное и благое как роды, ни одно из которых не относится к относительному. Следовательно, добродетель скорее относится к качеству, чем к относительному. Можно также возразить, что указанные понятия вообще не являются родами добродетели: ведь благое не род, если оно омонимично, и прекрасное не род добродетели, поскольку добродетель первична по отношению к своим собственным действиям, а прекрасное, как считается, приписывается только им.
p. 124b23 Далее, если вид не обозначается в отношении того же самого.
Второй опровергающий топ, связанный с относительным, он передает нам следующим образом: то, в отношении чего вид обозначается сам по себе, в отношении того же должно обозначаться и по роду. Например, поскольку двойное само по себе относится к половине (ибо оно – половины), то и по роду оно относится к тому же: двойное называется многократным половины, ведь двойное есть многократное. Это и означает сказанное (не так, как могло бы показаться из слов) – «как двойное половины, так и многократное половины». Если же нечто, обозначаемое как относительное, не может обозначаться в отношении того же самого и по приписанному ему роду, то приписанное не будет его родом. Таким образом, можно показать, что способность не есть род зрения, ибо зрение само по себе обозначается как зримое, но уже не как способность: ведь зрение не называется способностью зримого. Точно так же можно показать, что и привычка не есть род зрения, ибо зрение есть зрение зримого, но зрение не называется привычкой зримого.
К сказанному он добавляет, что не только по роду, но и по всем родам рода должно обозначаться в отношении того же самого. Например, двойное не только называется двойным половины и не только многократным половины, но и превышающим (что есть род многократного), и большим (что еще более общее). Следовательно, недостаточно для доказательства, что знание есть род зрения, того, что зрение называется знанием зримого: ведь если оно не называется расположением (что есть род знания), то знание не будет его родом.
Возражение против этого топа состоит в том, что он не вполне верен: знание само по себе обозначается как знаемое, но не обозначается по роду в отношении того же самого. Ведь ее род – привычка, а его род – расположение, но знание не называется ни привычкой знаемого, ни расположением знаемого, а привычкой души и расположением души. Привычка и расположение двояки: они обозначаются и как принадлежащие обладающему ими (например, душе), и как охватывающие подчинённое им.
p. 124b35 Далее, если род и вид обозначаются неясно в падежах.
И этот топ связан с относительным. Поскольку считается, что род и вид относительного одинаково обозначаются в падежах (если вид чего-то, то и род чего-то: например, двойное чего-то – ведь оно есть доля, и превышающее аналогично чего-то – ведь оно превышаемое, и большее – меньшего; аналогично знание чего-то, привычка, расположение и мнение чего-то; и точно так же, если чему-то: как знаемое чему-то – знанию, так и удерживаемое – привычке, и предполагаемое – предположению), то если обозначенное как вид и как род не согласуются в падежах, приписанное не будет родом.
Поэтому, если кто-то поставит волю как род друга, то, используя сказанное, мы докажем, что воля не есть род друга: ведь воля и друг обозначаются в разных падежах по отношению к другому. Воля обозначается в родительном падеже (воля чего-то – воля желаемого), а друг – в дательном. Аналогично можно показать, что прибавление не есть род увеличения, ибо увеличение – чего-то (ибо оно – увеличиваемого), а прибавление – не чего-то, а чему-то (ибо оно – прибавляемому).
Возражение против этого топа состоит в том, что он не вполне корректен: ведь не у всех относительных род и вид обозначаются в одинаковых падежах. Например, противоположное чему-то (ибо оно – противоположному), и различающееся аналогично (ибо оно – различающемуся), но иное, будучи родом обоих, обозначается как чего-то, а не чему-то: иное есть иное другого.
р. 125а5 Снова, если соотнесенные [термины], выражаемые через падежи, не обращаются подобным же образом.
И этот топ также исходит из категории соотнесенного. Поскольку все соотнесенное, как считается, выражается через взаимно обратные [термины], если же обратные [термины] не обращаются через те же падежи, то [термин], представленный как род, не будет родом. Даже если сам он и то, что представлено как его вид, выражаются через одни и те же падежи по отношению друг к другу, все равно предложенный [термин] не будет родом, если обратные [термины] для него как для рода и для него как для вида не выражаются через те же самые падежи.
Часто оба [термина] выражаются через одни и те же падежи: например, «двойное чего-то» и «многократное чего-то», а также «превосходящее». И обратные им [термины] также выражаются через те же [падежи]: «меньшее чего-то» – «меньшее», «превосходимое чем-то» – «превосходимое», «часть чего-то» – «часть»; подобным же образом и «половина».
Начислим
+14
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе