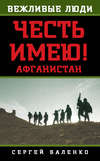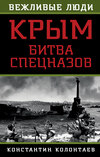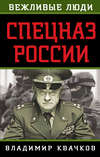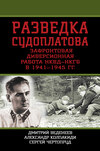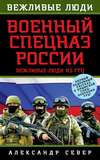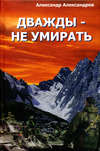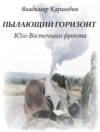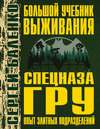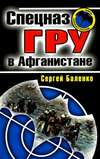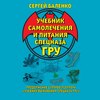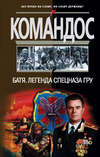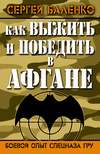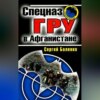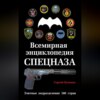Читать книгу: «Афганистан. Честь имею!», страница 3
Разные судьбы… и одна война
Привыкайте, живите
без нас,
С именами, что
мы носили.
Мы – разведчики,
проще – спецназ.
Мы награды нигде
не просили.
Ровной строчкой
на камне легли
Наши званья и
скорбная дата,
Чтобы имя
прочесть могли
Заменившие нас ребята.
Рябина красная
Судьба Марса Шабакаева – это, по сути дела, судьба молодого поколения страны. Короткая жизнь этого юноши вместила в себя очень многое. В свои восемнадцать лет Марс мечтал сделать мир красивым, став архитектором или художником.
О Марсе написано много. Трудно написать что-либо новое, необычное. Поэтому мы решили использовать для очерка материал двух журналистов: Татьяны Шпак из газеты «Огни Вычегды» и Н. Майданской из газеты «Советская культура».
Его родители, испытавшие на себе войну и ее последствия, конечно же, мечтали, чтобы их сынишку обошел злой военный рок. Мама Галина Ахияровна заведовала библиотекой и с трехлетнего возраста воспитывала Марса одна. Марс рос в атмосфере сказок Грина, поэзии Блока, Есенина. В его комнате на стене и сейчас «грустит» Ассоль. Картина так и не закончена, хотя Марс начал писать ее еще в восьмом классе, да так и не дописал…
Марс учился и в экспериментальной школе, изучал иностранный язык, ходил в различные кружки, но его любовь к рисованию была беспредельна. Он мог часами, не шелохнувшись, сидеть и рисовать, наблюдать, как рисует мама, оформляя стенгазеты и плакаты. И в шестом классе он поступает в художественную школу. Он был из той породы людей, которые всё делают фундаментально, основательно.
Его способностям не уступало упорство. Так, например, сочинение о лирике Маяковского переписывал четыре раза, пока, наконец, не получилось то, что соответствовало его пониманию поэта. Точка зрения ученика оказалась настолько неожиданной, что учитель оценить сочинение не смог. Принято считать, что мнение учителя безапелляционно, а у него на всё – свое собственное.
«Хоть бы раз что на веру принял, – вспоминала учительница Любовь Алексеевна Истомина и тут же добавила: – Но именно с ним и было интересно. Согласитесь, в школе не так уж часто встретишь вот такую личность».
В худшколе все преподаватели пророчили ему будущее художника-профессионала. Он рисовал пейзажи, портреты… и играл с друзьями в войну, ходил на уборку хлопка. Мог вступить в драку, если надо за справедливость постоять. На ссадины, синяки и царапины внимания не обращал. Марс умел по-настоящему дружить. Всеобщий любимец, признанный лидер в классе, он никогда этим не пользовался ради собственной выгоды.
Зная его художественные способности, учителя, естественно, загружали его: он рисовал плакаты, стенгазеты, оформлял кабинеты, делал наглядные пособия к урокам немецкого и биологии.
Рисунки Марса были отмечены дипломом третьей степени на районном конкурсе «Я вижу мир». Его учитель Анатолий Неверов, преподававший Марсу основы изобразительного искусства, сразу понял, что это талант. Позже, когда Марса не стало, сокрушался, что не сумел его в этом убедить.
Он мог стать художником и творчеством своим утверждать добро. Склонность к рисованию у него от мамы. И то, что после школы он поступил в целлюлозно-бумажный техникум, для всех явилось неожиданностью. «Не сумел убедить в таланте». А на выставке в Сыктывкаре, в художественном музее, у его рисунка стоят люди. Восхищаются игрою цвета, техникой письма «по сырому»…
Среди школьных тетрадок – несколько карандашных набросков. Дискотека. Нарисовано так, что с места «слышно», как надрывается магнитофон. А в углу подпись: «Глухая тишина»… На другом парень с девушкой. Целуются. Невольно вспоминаются слова его классного руководителя Азы Андреевны Ворониной: «Вскоре Марс так вытянулся, что стал самым высоким в классе. И самым красивым. По-моему, все девчонки в школе были в него чуточку влюблены…»
А он? Перед призывом в армию ездил на родину, к бабушке, там и встретил Галю. «Жду тебя», – напишет она на конверте и опустит письмо в почтовый ящик в полной уверенности, что дождется…
А ведь у Марса был выбор. Он сам настоял на службе в Афганистане. До этого пытался поступать в художественное училище имени Сурикова в Ленинграде, в Ухтинский индустриальный институт. Да так ли уж важно, кем бы стал Марс? Очевидно одно: что бы он ни делал, делал по-настоящему. Танцевал – все заглядывались, в самодеятельности играл как профессиональный актер; дом надо было построить – пожалуйста, любуйтесь. Из леса рябинку принес, посадил у калитки, переживал: не примется, слишком хрупкая…
Подошел срок службы, попросился туда, где труднее. В нем был резерв. Тот уникальный потенциал личности, который и срабатывает за пределом возможного.
Закончил «учебку» в Литве. Получил третий разряд по парашютному спорту. Командир подразделения предлагал ему остаться в «учебке» и поступать в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.
«Что скажут ребята?..» – писал он маме, когда в части уже стояли памятные обелиски ребятам, не вернувшимся из Афганистана. И в начале 1982 года Галина Ахияровна получила письмо: «Наутро нас собрали, и полетели мы в жаркую страну Афганистан. Думал и представлял ее совсем не такой. Охраняем здесь завод, на котором работают советские специалисты. Все полтора года будем ходить в караул, даже не представлял, что в Афганистане буду этим заниматься… Служба не тяжелая, совсем даже не опасная…» Почта, как всегда не спешила. Когда Галина Ахияровна читала эти строки, Марса уже не было…
На войне как на войне.
6 июня 1982 года подразделение специального назначения, в которое входило отделение Марса Шабакаева, приняло бой в районе кишлака Акча. Марс одним из первых занял оборону. Умело руководя боем, обеспечил отход товарищей. Его автомат замолчал последним. Рана оказалась очень тяжелой. Врачи сделали все возможное и даже больше, но вечером 6 июня 1986 года перестало биться сердце героя…
За пределом возможного Марс оставался личностью.
О нем буду помнить всегда. На его могиле на Центральном кладбище Сыктывкара собираются друзья. В музее техникума хранится личное дело. В 22-й школе в комнате Боевой славы экспозиция о Марсе Шабакаеве занимает первое место.
Принялась на даче рябинка, окрепла. Оправившись от удара, Галина Ахияровна от сослуживицы узнала: в глухой таежной деревне остались без родителей десять детей, и самая младшая так слаба и больна, что вряд ли выживет. Ее-то, в два года не умевшую ни ходить, ни говорить, и взяла Галина Ахияровна. Удочерила Катю.
«Мне снова есть о ком заботиться, меня снова зовут мамой…»
«Домашний» Коля
По независящим от нас причинам мы не смогли связаться с родными Николая Синельникова и получить от них необходимую информацию. Поэтому напишем только то, что нам известно из различных печатных источников.
Его жизнь до армии похожа на судьбу большинства его сверстников: беззаботное детство, окруженное любящими родителями, детсадик, учеба в школе, пионерлагеря и становление молодого рабочего. Это до армии. А уж когда надевали ребята военную форму – тут пути их расходились. Кто в Союзе служил, а кто оказывал интернациональную помощь в Афганистане.
Колина мама, Любовь Васильевна, вспоминает о сыне: «Таких, как Коля, называют „домашними“ детьми, улица мало его интересовала. С интересом читал. Любил Толстого, Макаренко, играл в духовом оркестре на трубе. Заботился о младших своих братьях – Владимире и Алексее».
Николай попал служить в отдельный отряд специального назначения. Подготовку прошел в Ашхабаде. В отряде принял отделение. Его афганская война оказалась длиной всего в пару месяцев…
Действуя в составе группы, которая 13 декабря 1983 года вела разведку сил противника в опорном пункте на одной из высот, Николай Синельников прикрывал действия боевых товарищей. Мятежники обнаружили разведчиков и открыли по ним огонь, а затем начали окружать их, стремясь захватить в плен. Отбиваясь гранатами, Николай был тяжело ранен и от полученного ранения скончался на поле боя…
Под Мурманском, где разместился после выхода из Афганистана 177-й отдельный отряд специального назначения, открыли памятник воинам-«афганцам». На одной из плит – фамилия Николая. Потом, к сожалению, отряд был расформирован, памятник демонтирован и вывезен в Псков, где и войдет в состав мемориального комплекса, посвященного всем погибшим соединения специального назначения.
Мы постоянно получаем письма, в которых, почти в каждом, вопрос: что собой представляли батальоны специального назначения, какие задачи выполняли?
Б. В. Громов, Герой Советского Союза, бывший командующий 40-й армией, в своей книге «Ограниченный контингент» пишет: «На мой взгляд, отдельные батальоны специального назначения были если не самыми, то одними из самых боеспособных частей 40-й армии. В состав каждого батальона входило примерно пятьсот офицеров, солдат и сержантов… Собственная разведка позволяла командованию батальонов прекрасно знать обстановку в своих зонах ответственности… особенно трудно пришлось батальонам, которые дислоцировались в Кандагаре, Лашкаргахе, Газни и Гардезе. Напряженная ситуация сложилась в Джелалабаде и сохранялась там на протяжении всех девяти лет».
Х. Эрикссен, норвежский журналист, не раз бывавший в Афганистане и находившийся с моджахедами, свидетельствует: «Вообще же это была война без линии фронта. Противостояние было тотальным, но противники воевали, не видя друг друга, ведя порой огонь наугад. Враг мог оказаться всюду, везде моджахедов ждала засада. Точно в таком же положении были и советские войска.
Вообще, я практически нигде не видел, чтобы боевые действия вели правительственные афганские войска. Такое впечатление, что воевали только русские.
Особым уважением афганских моджахедов обычные русские подразделения не пользовались… Но все же русских опасались. Но больше всего моджахеды боялись десантных войск и спецназа. Вот у них был огромный боевой опыт, и эти люди всегда действовали на основе достоверных разведданных, нанося удары прямо в точку. И это было страшно!..»
А к Синельниковым каждый год 9 мая приезжают боевые друзья Николая.
«Девяносто шесть дней и вся жизнь»
По неясным для нас причинам мы не получили ни одного ответа на наши письма от родных Вани Малюты. Поэтому наш очерк о разведчике Иване Малюте состоит из материалов, ранее напечатанных в различных изданиях Ростова-на-Дону.
Чистый свет пронизывает комнату. Широко разливается по стенам, полу, потолку. Свет льется из больших окон. А за окнами – звенящий мир. До краев наполненный бегущей жизнью. Весна шагает по земле. Странное ощущение, но в этой комнате с большими окнами исчезает восприятие времени. Кажется, время необратимо остановилось.
Огромный портрет на стене. Гитара. Полки с книжками. Много книг. Ванины любимые. Про мужество, армию, подвиг. Он мечтал стать офицером.
На том огромном портрете Ваня еще совсем мальчишка. Удивительно мягкие, правильные черты лица. Улыбка, добрая и чуть застенчивая, едва касается губ. А в глазах навечно застыла просьба: «Мои хорошие, любимые, родные, ну не надо грустить…»
Его комната. Его дом. Он очень любил свой дом. Здесь расцветала юность. Здесь родился сын. Взять его на руки не пришлось. Не успел…
Обо всем остальном расскажут письма.
Из писем жене, Светлане Григорьевне
«25 декабря 1983 года.
Как там поживает наш Димка? Растет? Силенок набирается? Жаль, что увижу его не скоро… Сегодня 25 декабря. Сегодня вечером уезжаю в Афганистан. За меня не волнуйтесь. У меня все будет в полном порядке. Встречайте весной 1985 года. А пока ждите писем из „края чудес“».
Ваня писал много. По слогу чувствуется, обдумывал каждое слово и фразу. Оберегал покой домашних. Старался беречь…
«Без даты.
…Эх, посмотреть бы сейчас на Димку! Какой он, наш малыш? Уже подрос, наверное. Смотрит на мир и воспринимает его таким, как есть. Он не знает еще плохого и хорошего. Мы с тобой вырастим из него человека – мужчину, рядом с которым другим будет хорошо и спокойно. А самое главное, чтоб в будущем наш малыш не увидел войны.
Знаешь, до армии понятие о войне было у меня каким-то неопределенным. Теперь знаю, что это такое. Видел своими глазами и не хочу, чтобы это же увидел когда-нибудь сын.
Я много встречал наших с тобой ровесников, чья жизнь будет уже неполноценной. Молодые ребята, но без рук и без ног. Видел гробы… Но не страх появляется. Желание свести счеты с теми, от чьих рук люди гибнут…»
Он очень любил жизнь. До самозабвения. До гранитной уверенности – в этой жизни с ним ничего не случится. Ничего. Он счастливый. Он богатый на счастье. У него есть дом, любимая, есть сын, мама, отец, сестренка… А уезжая в Афганистан, дал слово себе: «Я вернусь. Обязательно вернусь!». У счастливых людей всегда так бывает…
«21 января 1984 года.
…Была небольшая командировка. Целыми днями и ночами лазили по горам, сопкам и равнинам. По камням и пескам. Каждый день и каждую ночь, пока мы мотались по этим афганским прериям, в мыслях со мной была ты.
Ночью сидишь на камнях – холодина, аж судорога сводит, а как подумаешь, что у меня есть ты, сын, – сразу теплее становится.
Сидишь, вслушиваешься в ночную тишину и все думаешь, думаешь. А звезды падают одна за другой. И за ночь можно загадать кучу желаний. И я загадываю: „Жить, жить…“»
«25 февраля 1984 года.
Не волнуйтесь за меня, ведь я же счастливый. Вы с Димушкой всегда со мной… Так хочется написать тебе много-много нежных слов, а начинаю писать – ничего не выходит. Получаются какие-то обрубки слов.
Извини меня, любимая моя, огрубел я, наверное, совсем».
«1 июня 1983 года.
…О чем я думал перед расставанием? А что думает человек, когда прощается с близкими и любимыми ему людьми? Я думал о том, что не видеть мне тебя целых два года, и я жадно ловил твой взгляд, черты твоего лица. Ты тоже была не очень веселой и, честно говоря, я думал еще о том, что, может быть, тебя никогда не увижу. Я ведь тогда знал, что еду в Афганистан».
Мать Вани, Галина Романовна, до сего дня не может простить себе, что даже попытки не сделала вернуть сына из проклятого «края чудес».
Сын призвал себя в Афганистан сам. Просьбы, рапорты и снова просьбы, просьбы: «Отправьте… Пошлите… Я там нужнее…»
Из писем матери, Галине Романовне
«Без даты.
…Мамочка, хлопотать о том, чтобы перевели служить в Союз, не надо. Мне нравится здесь служить. Нападать, тем более стрелять по нашему батальону душманы не будут. Боятся. Знают, чем для них это может кончиться. А знаешь, как они нас зовут? „Шурави“. А из-за тельняшек – „полосатый шурави“. И говорят: „Это очень плохой шурави“.
Не волнуйтесь за меня. Все будет в порядке. Я же у вас счастливый сын».
«Без даты.
Привет из солнечного Джелалабада!
Можете меня поздравить с повышением в звании – теперь я младший сержант. Прошу, за меня не волнуйтесь. Все у меня будет как надо…»
«Без даты.
… Здесь я нашел много хороших друзей. И в любой город Союза можно ехать в гости.
Эх, а домой-то как хочется!
Служить осталось год с небольшим. И долго это, и не очень. Но летом 1985 года обязательно буду дома».
«25 ноября 1984 года.
…Да, кстати, познакомьтесь. Рядом со мной на фотографии мой друг Эльдар Асанов. Парень отличный!».
В записную книжку Иван Малюта записал свои стихи:
Монолог после года службы
Еще остался год, и мало, и немало.
Еще остался год до нашей встречи там,
Куда душа зовет, и по ночам, бывало,
Во сне я шел туда, к родимым мне краям.
Где ждет отец и мать, жена и сын-малышка.
Где тишина и мир, где нет давно войны.
…Чем выжечь ту жестокость,
во мне что зародилась?
Как с рук смыть кровь врагов?
Чем воскресить друзей?
Об этом не забудешь – на сердце зарубились
Два года испытаний для юности моей.
1984 год, Джелалабад
Из писем жене, Светлане Григорьевне
«27 января 1984 года.
…Сон приснился, будто послали нас не в Джелалабад, а в Союз. Мы подъехали к Ростову. Узнал, что пару суток здесь побудем, и отпросился у взводного домой. Не иду – бегу через весь город, а мысль одна – вот сейчас увижу тебя и Димку, и вдруг проснулся.
Не знаю, почему проснулся, ведь никто не мешал. Как я жалел, что это был лишь сон. Подумалось: странно, что увижу вас только через год и два месяца.
Да, интересно, а как Димка воспринимает меня? Как скоро привыкнет? А сегодня он даже представить не может, что отец считает где-то дни в Афганистане…»
«3 апреля 1984 года.
…Почти целыми днями летаем на вертолетах, все ищем, ждем крупный караван. Должен тут пройти такой с оружием…»
«6 апреля 1984 года.
…Целыми днями то на выездах, то на облетах. Комбат у нас – мужик мировой…
Извини, Светочка, очень спешу, снова выезжаю с комбатом…»
Это письмо было последним. Через день, 8 апреля 1984 года, младший сержант Иван Малюта погиб.
Девяносто шесть дней прошагал по пыльным дорогам «края чудес» славный, улыбчивый парень. А обещал вернуться. Дому обещал и себе…
А к ночи того дня снова падали звезды. И кто-то снова загадывал желание: «Жить, жить, жи-и-и-ть…»
…Нам не хочется верить, что будем забыты.
Нам так хочется верить, что вернемся назад…
(Из стихов однополчан, посвященных И. Малюте)
Отряд специального назначения, в который входили Иван Малюта и его друг Эльдар Асанов, вел бой у населенного пункта Бадкаш-Бара-Кала.
Ваня и Эльдар, обеспечивая прикрытие с фланга, оказались отрезанными от основных сил. Десантники, хладнокровно отстреливаясь, перебегали от одного укрытия к другому. Меняли позиции, не давая душманам возможности пристреляться и зайти в тыл.
Сколько это длилось? Пять, десять минут? Может быть, больше? Они не замечали времени, но твердо верили, что в беде их не оставят, и потому понимали лишь одно: надо беречь патроны. Иван лично вывел из строя несколько мятежников, но сам был ранен.
Друзья-десантники не выпускали оружие из рук до тех пор, пока не опустел последний магазин. Оглянувшись назад, они увидели бездонную пропасть каменного каньона. Отступать было некуда.
Подпустив поближе душманов, Иван Малюта и Эльдар Асанов подорвали себя гранатами…
Я остался один, в кольцо душманами взятый,
Кровью залит приклад, и обоймы пусты.
Пусть подходят поближе. Я тяжелой гранатой
Разорву тишину этих гор золотых…
Взрыв отозвался в глубине каньона, заглушив автоматные очереди спешивших на помощь товарищей. Они не успели совсем чуть-чуть…
В неравном бою 8 апреля 1984 года погибли, проявив мужество и героизм:
старший сержант АСАНОВ Эльдар,
рядовой БОРЕЦ Александр,
младший сержант МАЛЮТА Иван,
лейтенант СКУРИГИН Олег,
рядовой УЧАНИН Андрей.
* * *
Звезды над Кабулом неживые,
Кто-то зажигает их в ночи.
Были вы такие молодые…
Вспомним ваши лица, помолчим.
Может быть, ни разу еще в жизни
Не узнали женского тепла.
Надо ехать, позвала Отчизна.
Надо ехать, не нужны слова.
Писем вы отсюда не писали,
Строчки писем матерей не жгли.
Почему вы рано так упали,
Оторвавшись от родной земли?
Звезды над Кабулом неживые,
Кто-то зажинает их в ночи.
Были вы такие молодые…
Вспомним ваши лица. Помолчим…
Из письма однополчан В. Сетенсева и М. Мирисманова
«…Когда Ваня еще был здесь, мы с ним говорили о смерти, ведь никто из нас не застрахован. Ваня говорил, что если придется умереть, то он унесет с собой в могилу столько врагов, сколько будет видеть их перед собой, чтобы было не обидно умирать. Он до конца остался верен своему слову, военной присяге, которую мы вместе давали Родине…»
В доме родителей Вани все так, как много лет назад. Как будто он только-только вышел. Память о сыне в сердце его родителей. Не высохли слезы поседевшей матери. Ваня так и остался навсегда юным. А Димка, который никогда не видел своего отца, все чаще замирает у его огромного портрета, что на стене комнаты, пронизанной светом.
«Как все хожу по земле»
Судьбы – как звезды. Одни, зажигаясь, горят ровно и несильно. Не дают они никому ни тепла, ни особого света. Но есть и другие судьбы. В стремительном своем полете они поражают нас своею яркостью. И, сгорая, оставляют немеркнущий свет в наших душах.
Саша рос в обычной семье. С детства привыкший к труду, рос, как тысячи его сверстников, впитывая в себя музыку только-только зарождающейся свободы.
«Саша рос послушным, трудолюбивым, добрым, – пишет мама Раиса Валентиновна. – Хорошо закончил 10 классов школы № 15. В школе занимался пулевой стрельбой, имел 2-й взрослый разряд. Грамот много осталось. А еще был классным фотографом, много читал, а шахматы всегда носил с собой в кармане, они сейчас в музее молодежи Афганистана.
Мечтал стать летчиком, поступал в военное училище, но медкомиссию не прошел – зрение подвело. Расстроился, конечно, но быстро взял себя в руки. Поступил в ПТУ, окончил его с отличием, получил специальность фрезеровщика и пошел работать на приборостроительный завод „Красное Знамя“.
Когда призвали и попал служить в учебный полк в г. Печоры Псковской области, где готовили десантников-разведчиков, понял, что впереди его ждет Афганистан.
В то время, в 1984 году, об Афганистане еще не говорили в полный голос.
После Печор был Чирчик, а потом – Афганистан.
Нам он писал: „Служу в Монголии. Обо мне не беспокойтесь, с парашютом не прыгаю, как все хожу по земле“».
В 14 боевых операциях пришлось участвовать Александру Аверьянову. 27 октября 1985 года разведчики выполняли боевую задачу в горах. Когда миновали перевал, командир заметил четырех вооруженных афганцев, внезапно появившихся из-за склона. Они несли мины. Выйдя на дорогу и осмотревшись, афганцы стали копать землю. Видно, завершали организацию засады. В это время у разведчиков заговорила радиостанция – подошло время установленного сеанса связи. В мертвой тишине эти звуки душманы услышали. Опешив, один из них выпустил наугад очередь из автомата. В ответ обрушилась лавина огня на головы моджахедов. В считанные минуты противник был буквально сметен шквальным огнем разведчиков. Схватка была короткой, но ожесточенной, как любой ближний бой. Разведчики подорвали накладным зарядом мины и, продолжая движение, вошли в «зеленку». И тут прозвучал тот выстрел. Резкий, колючий выстрел из снайперской винтовки.
3 ноября 1985 года Александр Аверьянов вернулся домой, в Рязань. Вернулся в цинке…
Бесплатный фрагмент закончился.