Предсказание
Текст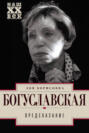


Перейти к аудиокниге
Ваш доход с одной покупки друга: 66,90 ₽
- Объем: 920 стр. 16 иллюстраций
- Жанр: биографии и мемуары, документальная литература, современная русская литература
Клоун и король
Олег Табаков
Самым интересным парадоксом на творческом пути Табакова Олега Палыча было явление его в образе Обломова («Несколько дней из жизни Обломова» Н. Михалкова). Актерский шедевр припечатался к человеку, начисто лишенному в жизни обломовских черт. Порывая с аналогией, скажу, что сегодняшний глубоко национальный характер, столь разнообразно воплощенный в цепочке отечественных героев от гоголевского Акакия Акакиевича до толстовского Протасова (полагавших, что, делая что-либо, он тем самым приумножает зло в жизни), Табаков реализует убеждение, что деятельность, инициатива умножает добро. От одного перечисления его сегодняшних должностей рябит в глазах: художественный руководитель МХАТа и «Табакерки», педагог в Московской школе-студии, организатор первой и единственной пока в Америке драматической школы (Институт высшего театрального образования и Летняя театральная школа имени К. С. Станиславского при Гарвардском университете) и т. д. и т. п. И все это соединено в одном человеке. Перечислять возможности Табакова – значит описать хорошо смазанный, всегда спешащий от слов к делу механизм учреждения, со многими службами и линиями связи.
– А мечта на оставшееся время? – настаиваю.
– Хотел бы знать, сколько времени доведется видеть Пашку (маленького сына). Вот дожить бы, чтобы увидеть, как он вырастет, каким будет. Увидеть Полину (внучку) замужем. Сейчас ей двенадцать.
Оглядываю его сегодняшний кабинет во МХАТе. Фотография с Марчелло Мастроянни.
– После «Очей черных» у Никиты Михалкова, – поясняет Олег Павлович, – хотели вместе еще поработать, возник интересный проект, но что-то не состыковалось.
Акварельные пейзажи, удивительно теплые, с прозрачными стволами на фоне неба. Четыре картины Фомичева. И то и другое повесил, осваивая кабинет Олега Николаевича Ефремова.
Над письменным столом фотопортреты основателей и продолжателей: К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко, В. О. Топорков (учитель О. П.), О. Н. Ефремов. А еще – живописный портал входа в театр «Табакерка», который Олег Павлович по-прежнему возглавляет. Спрашиваю:
– Что чувствовали двадцать лет назад и что сейчас, выходя на сцену? Есть разница?
– Разницы почти нет. Это всегда радость, подъем, когда физически здоров, в хорошей форме.
– Что предпочитаете – сниматься в кино или играть в театре?
– Кино – это другое, – уклоняется он от прямого ответа. – Театр – это живая игра, напротив тебя – зритель, ты его каждый раз обязан убедить в чем-то, заставить поверить, что это происходит единственный раз. А кино – это пятьдесят процентов искусства, пятьдесят – производства. Как ты снимешься – уже не подправишь, это застывает, как воск.
Но сколько бы названий ни было в пресс-релизе Табакова, сколько бы обязанностей, ежедневных, независимых от места пребывания (его мобильный телефон, думаю, самая часто прижимаемая к щеке подруга), все равно Табаков – это актер.
– В чем смысл той жизни, которую вы прожили, и той, которая вам суждена судьбой? – спрашиваю, чтобы утвердиться в этом мнении.
– Не меняться. Я по природе – созидатель, собиратель. В моей жизни один стержень – театр.
Я люблю цитировать его слова, когда ему подсовывают мысль о том, что все нынче покупается и продается, что PR может раскрутить любую посредственность в знаменитость, общедоступную звезду. «Понимаешь, в чем штука, – как-то сказал он мне, – ведь с нашей профессией как обстоит дело. Вот он вышел на сцену, и через две минуты публике ясно – перед ней актер или не актер».
Табаков справедливо полагает, и я с ним полностью солидарна, что среднего профессионала в искусстве можно вылепить. Настоящий талант – никогда. Нельзя притвориться гением, никакая мистификация не может сочинить Уланову, Качалова или Эйзенштейна. Амплитуда актерских возможностей Табакова очень широка. Табаков может быть на сцене Моцартом и Сальери, Матроскиным и Петром Адуевым, старым Ванькой Жуковым («Комната смеха») и продавщицей («Всегда в продаже»), пожилым инвалидом, которого убивает ребенок («Три истории» К. Муратовой) и Талейраном («Ужин» Ж.– К. Брисвиля). Переход из одного образа в другой происходит без надрыва, долгих предварительных усилий, в этом смысле в Табакове есть нечто моцартианское.
– Как боретесь с народной любовью, с тем, что повсеместно узнаваем, каждый норовит дотронуться, выхватить на память шарф?
– Я с ней не борюсь. Я отношусь к всенародной любви всегда с нежностью, признательностью и уважением. Не могу сказать, что стою на коленях, но уважаю всегда и стараюсь соответствовать. С годами это усугубляется. Нередко, когда на улице Горького со мной здороваются люди, я вспоминаю, что должен соответствовать этому. В моем актерском детстве говорили, как о сказке, как о легенде, о том, как здоровались с Василием Ивановичем Качаловым. Несмотря на все мое честолюбие, все-таки не могу сравнивать себя с Василием Ивановичем Качаловым, а вот чувство ответственности растет с годами. В молодости ждешь этого, мечтаешь о всенародном признании, в зрелости неоднократно оно бывало дискомфортно, особенно в годы длинного романа с Мариной Вячеславовной Зудиной. Но, что делать, «человек за все платит сам, – пишет Алексей Максимович Горький, – за веру, за неверие, за любовь, за ум, человек за все платит сам. И поэтому он свободен».
Спешу заметить, что Качалову было «легче» – от него не требовали телевизионных клипов, интервью, он не был растиражирован на миллионах фотографий.
Вспоминаю ослепительные фотографии Табакова с Зудиной, на сцене, на отдыхе, с ребенком, в кругу друзей, вспоминаю и их неразлучность, их жизнь взахлеб во время фестиваля «Рождественская карусель» в Париже.
– Можно любить нескольких женщин сразу? – спрашиваю.
– Нет. Ничего не получится. Проверено, что я не могу. В моей жизни случалось раза два, но было очень стыдно перед собой.
– Считаете ли себя богатым человеком?
– Богатым нет, но жизнь своей семьи, своего сына уже обеспечил. Даже если перестану работать. Дважды терял деньги в момент «обвала». Немалые деньги, которые лежали в банках.
– За что не жалуете рекламу?
– Нет вотума доверия. На девяносто восемь процентов сегодняшняя наша реклама не соответствует моим представлениям о качестве товара. Будь то реклама художественного события или мужского одеколона.
– С каких лет начали сниматься?
– С двадцати. Фильм «Саша» на «Мосфильме».
– В скольких фильмах удалось сняться?
– Ребята чествовали меня в юбилей и вычислили: за сорок пять лет трудовой деятельности – сто фильмов.
– Если возникает ситуация и надо выбрать: жизнь (свидание, чья-то болезнь, страсть) или искусство (выступление, репетиция, съемки на телевидении) – что предпочтете?
– Вопрос вечный и достаточно искусственно поставленный для человека, занимающегося моим ремеслом – актерским. Актерская профессия – профессия солдатская, требующая дисциплины и исполнения. Холодно – надо играть, грустно – надо играть, умер кто-то из близких – надо играть, но в принципе, если говорить серьезно, то, конечно, выбираю жизнь, хотя никогда работу свою я не подводил из-за жизни. Даже в день похорон матери пришлось играть в спектакле «Большевики», поскольку в ту пору я был директором театра «Современник», на сцене которого шел этот спектакль.
– Если вы договариваетесь об участии в каком-либо проекте, на каком месте для вас деньги?
– Деньги для меня явно не на первом месте. Сначала смысл и художественная интересность, манкость того, что предлагается. И уже потом, когда я даю согласие на участие в том или ином проекте, договариваюсь о деньгах.
– Если бы ваши собственные дети совершили поступок, наказуемый по закону, – на чью сторону встали бы вы?
– Все-таки встал бы на сторону закона, хотя плакал бы, пытался бы выручить, но в рамках закона до самой последней черты.
– Какие роли даются труднее всего? Как удавалось сыграть женщину и какой опыт использовали для этого?
– Честно говоря, никакие роли мне трудно не давались, я люблю заниматься своей профессией, своим делом, и, когда здоровье мне позволяет, делаю это радостно и даже, можно сказать, весело, вообще это веселенькая профессия. Никаких трудностей особых не испытываю и с большой долей юмора и даже сарказма отношусь к рассказам моих коллег о трудностях работы над ролями, о физических и психических осложнениях в этой работе. Женщину играть не менее сложно, чем мужчину. Никакой исключительной сложности воспроизведение женщины на сцене, да и в кино не представляет. Если ты умеешь делать свое дело, то и женщину с легкостью можешь сыграть, да и стул тоже можешь сыграть.
– Влияют ли на принятие каждодневных решений общественное мнение или раскладка в СМИ?
– Нет, на меня не влияют. Для меня определяющими и диктующими являются интересы дела, которым я занимаюсь.
– Какую другую страну, кроме России, любите больше всего?
– Если говорить о душевной идентификации, наверное, это Финляндия. По той простой причине, что, будучи рожденным в средней полосе России, на Средней Волге, в Саратове, где климат континентальный, даже резко континентальный, и попав впервые лет в тридцать на Вологодчину, я понял, что душевно родом я оттуда. Бескрайняя зелень деревьев, ситцевое голубое небо, синяя или свинцовая вода и белый пароход, проходящий по этому квадрату просеки, по которому ты едешь на машине, – это почти райская картина для меня. Я – отсюда родом. И, несколько лет подряд работая в Финляндии, я испытывал абсолютно ту же тихую нежную радость, растворялся в этом чуде и не мог никак наглядеться. Если же говорить о политкорректности, то в смысле терпимости, – конечно, Англия.
– Где и когда вы учили английский? Что этот язык прибавил к вашей судьбе?
– Изучил я английский в школе. Я был влюблен в свою учительницу, и любовь вышла на последний рубеж. Когда я пытался что-то объяснять ей руками, то есть методом пластического наложения, она, желая дисциплинировать меня, постоянно повторяла: «Only in English» – «Только по-английски», что заставило меня изучить этот язык. Английский прибавил в моей судьбе многое. Практически после Второй мировой войны весь мир говорит по-английски. Я не могу сказать, что говорю свободно, вернее, говорю-то я свободно, но не все понимаю. Но все-таки знание языка – это крайне необходимая современному человеку особенность, актерам она вдвойне необходима. Владея языком, я за какие-то полчаса снюхался с серьезными мировыми звездами. Речь идет о моей последней работе в кино у режиссера Иштвана Сабо, которая называется «Taking sides».
– Знаю, что у вас очень развито понятие долга. При каких обстоятельствах оно сметается чувством?
– Я, пожалуй, только в любви чувство долга сметаю. Все остальное всегда выполняю, даже учитывая особенности, вытекающие из понятия долга.
– Как отдыхаете, расслабляетесь? Если не секрет, то где?
– Расслабляюсь я в постели или на сиденье автомобиля – очень люблю водить автомобиль, это занятие мне доставляет сплошное удовольствие, радость, особенно быстрая езда. Наверное, надо отослать интервьюера к Николаю Васильевичу Гоголю, у него все про это сказано: «Какой же русский не любит быстрой езды?» И чтение, конечно, – одно из средств отдыха. Несколько книг, составляющих релаксацию души.
– Если вы видите дерущихся людей – вмешаетесь или предоставите им разбираться самим?
– Если будут обижать ребенка или женщину – вмешаюсь. А так, я вообще-то трус по натуре, постараюсь не вмешиваться.
– Владеете ли оружием? Довелось ли им пользоваться?
– Владею духовым оружием. Стреляю хорошо. Пользоваться боевым оружием доводилось только на съемках. Ощущение неприятное. Больно бьет в плечо. Хотя держать пистолет в руке – приятно. И на стрельбище стрелять – приятно. Для мужчины это, наверное, игра. А поскольку у меня в детстве не было игрушек, то иногда даю волю нереализованным желаниям.
– Что значит быть мужем молодой красивой актрисы?
– То и значит – быть мужем молодой красивой актрисы.
– Как разделяются сферы влияния в вашем доме? Во МХАТе? В «Табакерке»? Чья верхняя? Выбираете единоначалие или коллегиальность?
– Всегда единоначалие, кроме дома. Просвещенный абсолютизм – это правильная форма правления. Дома, конечно, главой является Марина.
– Любите ли играть: на бегах? в рулетку? в карты? на бильярде? И т. д. Как ведете себя, если проигрываете, или, иначе, умеете ли проигрывать?
– Да, умею. Проигрываю регулярно. На бегах играть не люблю, в рулетку – умеренно, в карты – не очень. На бильярде вообще не играю. Работая в странах, где русский язык не является вторым, я имею в виду Венгрию или Финляндию, вынужден был играть с автоматами, потому что, работая дважды в день, очень устаешь, после второй репетиции особенно. Трудно бывает заснуть, а проиграешь какое-то количество денег – и спишь хорошо.
Коллажи Парижа
Марк Шагал. Хулио Кортасар
1
В отеле «Эглон» на бульваре Распай мой тихий номер выходит на кладбище Монпарнас, знаменитое могилой Бодлера. Автор «Цветов зла» верил в бессмертие поэзии, но вряд ли мог предположить, что шестьдесят лет спустя советский поэт Владимир Маяковский, поселившись напротив в гостинице «Истрия», придет на его могилу, чтобы отдать дань таланту буйного француза, сражавшегося на баррикадах.
Рядом с кладбищем – бульвар Монпарнас. В сущности, это тот же мемориал. На углу, в «Ротонде», бывали Модильяни, Матисс, Сутин. Рядом, в ресторане «Дом», выбирали устриц всех мыслимых сортов Пикассо и Брак. А через дорогу, чуть наискосок, в Куполи – художественной Мекке Парижа – в зале подковкой и на застекленной веранде работали Хемингуэй, Габриэль Гарсиа Маркес, Натали Саррот, Арагон, заказывая, быть может, знаменитый кокиль и запивая его рислингом.
– Вот здесь, в Куполи, – говорит за ужином Антуан Витез, ныне главный режиссер народного театра в Шайо, – познакомились Арагон и Маяковский. Арагон мне рассказывал, как Эльза Триоле обратила на него внимание Маяковского. Французский поэт сидел у стойки бара. Через несколько минут пришла записка: «Арагон! С вами хочет встретиться русский поэт Маяковский. Второй столик слева». Так ли это было? – улыбается Витез. – Но знакомство состоялось в Куполи.
Антуан Витез, создатель хорошо известного театра в парижском предместье Иври, знаток русской литературы и искусства, начал с постановки «Бани» Маяковского. Затем – «Электра» Софокла, сделавшая его всемирно известным режиссером, «Пятница» – в театре Шайо.
Мне довелось видеть в его театре «Фауста» Гете, где сам он играл главную роль. Бурный новатор в режиссуре, актер, блестяще владеющий искусством преображения и характерности, в жизни Витез тих, задумчив, удивительно напоминает Арлекина из комедий дель арте: изломом темных бровей, резкими полосами треугольником у уголков рта.
– Мой Фауст, – говорит он, – это трагедия необратимости времени. Я кричу, взываю к окружающим: «Ничего нельзя ни вернуть, ни переделать, ни повторить! Остановитесь! Осмыслите каждое мгновение жизни». Разумеется, это только одна тема Фауста…
– А еще?
– Еще… – задумывается он. – Меня всегда волновала проблема двойников. Мне кажется, старый Фауст следит за юношей, каким был когда-то, словно ходит вслед за ним (собой) по улице, видит себя с другими людьми, с возлюбленной. Торжествует или ненавидит себя. Это тема «Смерти в Венеции» Томаса Манна и Лукино Висконти в его фильме – тема, гениально разработанная двумя великими стариками, осмыслившими прошлое. Для меня же двойное самоощущение Фауста – обратное. Это юноша, заглянувший в будущее старика.
В декабре 1967 года театр закончил сезон новой постановкой по роману Арагона «Базельские колокола», потом Антуан Витез поставил в Московском театре сатиры «Тартюфа» Мольера.
– Актеры привыкли у вас к «застольному периоду», – говорит режиссер, – мы же связаны временем, его всегда в обрез, поэтому я предпочитаю с первых дней делать все на сцене. «Пьесу вы знаете хорошо, роли тоже, – сказал я своей группе в Театре сатиры, – будем сразу двигаться, действовать». Две репетиции актеры помучились, а потом пошло. Там замечательно интересные актеры.
Спектакли Антуана Витеза – это коллажи. В его постановках, точно вклейки, обыгрывание натурального реквизита и мебели, подлинных блюд (салат, лапша, сыр в «Базельских колоколах»), цитаты из греческого, турецкого, русского, немецкого языков – все это равноправные участники событий, такой же инструмент актера, как голос, пластика, мимика.
Узкий жанр, открытый в живописи дадаистами, сегодня, мне думается, трансформировался, мощно проникнув во многие сферы искусства. В фильмы, как в «Сумасшедшем Пьеро» Годара, где эпизоды злоключений героя Бельмондо вплелись в хронику циркового триумфа французского клоуна Раймонда Дево. Следы коллажа у Р. Щедрина в балете «Анна Каренина», в романах-коллажах Хулио Кортасара или Андрея Битова, где выдержки из газет, афиш, документы и художественный вымысел нерасторжимо сращены в единый сплав прозаического повествования.
– Кстати, о Маяковском, – возвращается к началу нашего разговора Витез. – Только что я принял участие в фильме о нем, снятом для французского телевидения режиссером Коллет Джиду и продюсером Тери Дамиш по сценарию Клода Фриу. Недели через две можете его увидеть. А Фриу наконец закончил свое многотомное исследование о Маяковском и его окружении. Раньше все свободное время уходило у него на университет.
– Да, быть президентом Венсена – дело героическое…
– Вы бывали там? – спрашивает Витез.
– Не однажды.
…С Клодом Фриу меня познакомили в доме Робелей (он – известный русист и переводчик советской поэзии) на приеме в честь юбилея агентства Сориа.
– У нас совершенно необычный университет, – сказал тогда Фриу, – приходите, убедитесь.
Сам президент показался мне тоже необычным. Громадный лоб, распространившийся до половины темени, длинные рыжие кудри, развевающиеся сзади, в движениях экспансивен, стремителен, несмотря на массивную фигуру, в застолье тягостно молчалив. А оказался Клод Фриу человеком яркого, парадоксального мышления, с редким даром оратора и проповедника.
– Учтите, послезавтра начинаются рождественские каникулы, – добавил он, прощаясь.
На другой день я побывала в Венсене у выпускников русского факультета.
Говорят, характер француза начинается с обеда. Не менее ритуален для него, на мой взгляд, выбор маршрута.
Как проехать? «Нет, по рю де Рени быстрее, но у отеля «Пон Рояль» все перерыто, простоим уйму времени». – «А по бульвару Распай?..»
Выбрав идеальный маршрут, профессор Венсенского университета Ирина Сокологорская, скорее похожая на студентку длинными золотыми косами, веснушчатым лицом и манерой улыбаться до ушей, благополучно застревает в пробке на сорок минут. Отбиваемся от парней и девиц, просовывающих через ветровик листовки. Нас призывают: вступить в общество охраны собак, религиозную секту, принять участие в митинге солидарности с бастующими печатниками типографии «Паризьен либере», бойкотировать закон о налогообложении… Листовок накапливается штук двенадцать, а продвинулись мы метров на сто.
– Не дергайся, – с олимпийским спокойствием заявляет Ирина, – мои не разойдутся.
Действительно, студенты не разошлись. Но картину, которую мы застали, стоило бы заснять на пленку.
Дипломники русского факультета набились в аудиторию студентов первого курса, откуда неслось: «Не уезжай ты, мой голубчик» с цыганским перебором и стуком каблуков: новички праздновали окончание первого в жизни семестра. На сдвинутых столах – напитки, в том числе русская водка, сэндвичи с ветчиной и сосисками. В освобожденном от мебели пространстве отплясывают танго, шейк, бамп сначала под Николая Сличенко, потом под парижского цыгана Алешу и, наконец, под «Калинку-малинку».
Профессор делает строгое лицо – пытается остановить загул своих учеников. Время занятий вышло, ситуация тупиковая.
– Отложим до следующего раза? – осторожно спрашиваю.
– Почему это? – останавливается длинноволосая брюнетка в цветастой юбке, отороченной роскошной оборкой. – Бланш, – протягивает она руку.
А за ее спиной командует кудрявый паренек в джинсовой куртке, которого называют Пьером, и через пять минут, перейдя в свою аудиторию, дипломники замирают, точно восковые фигуры мадам Тюссо. Невозможно вообразить, что минуту назад в каждом теле все двигалось, переливалось, как ртуть. XX век. Переключаемость!
– Может, сами назовете темы дипломов или семинаров?
Конкуренция с шейком мне явно не импонирует.
– Горький… Чуковский… Ильф и Петров… Платонов… Бабель… Драматургия Маяковского… (Достаточно, достаточно!..)
Рассказываю о диспуте «Надо ли ставить «Мистерию-буфф»?» в 1921 году, о безудержно сломанной Вс. Мейерхольдом сценической коробке и соединении сцены с залом, о том, как заменены были привычные декорации конструкцией из системы лестниц, мостков, окружавших часть глобуса с надписью «Земля», о появлении с потолка «Человека будущего»…
– Ну и как? – перебивает мое повествование седой студент с ярким шарфом, обмотанным вокруг шеи. – Это прошло?
– Вопросы после! – шипит кто-то сзади.
…Потом говорим о Корнее Чуковском, о том, как в писательском городке Переделкино жил необыкновенный кудесник, который подарил подмосковным детям библиотеку и костер со стихами и плясками. Он был фантазером и жизнелюбцем, детским классиком при жизни и ученым с мировым именем, переводчиком и наставником…
Потом речь о «Климе Самгине», об Ильфе и Петрове… Звенит звонок.
– Мы вас отвезем, – заверяет студент в шарфе.
– Полчаса остается на вопросы, – бросает Пьер, и ему поддакивает его окружение. – Вот мы слышали, что вы встречались с разными людьми. Что они думают о будущем цивилизации? Или они довольны своей жизнью, а после нас – хоть потоп?
Сейчас у Пьера синева глаз отливает лезвием и весь он напружинен, точно струны теннисной ракетки. Не отмахнешься.
– Не берусь, месье, отвечать на такой замечательный вопрос. Но многих во Франции я сама спрашивала… вот хотя бы это: «Что бы вы хотели переменить в окружающем вас мире, чтобы быть более счастливым?» Ответы самые неожиданные. Хотите, некоторые из них я зачитаю?
Роясь в записках неказистого блокнота, пытаюсь выбрать нужное, и, словно кинонаплыв, возникают лица, силуэты, отпечатки фраз, очертания берегов…
…Под Ниццей, в горах Сан-Поль-де-Ванс, как в лесном заповеднике, живет в Коллин седовласый мечтатель Марк Шагал. В ту первую встречу, в 1974-м (последняя состоялась за несколько месяцев до его кончины, десять лет спустя), он еще полон был впечатлениями от поездки в Москву, переделкинскими соловьями и березами, толпами людей у входа на его выставку в Третьяковке, встречей с друзьями, балетом Большого театра. А час спустя в своем просторном рабочем ателье, где со стен на вас глядят летающие малиновые русалки, фосфорические синие рыбы, лиловые леса, розовое небо, зеленые птицы, он уже погружается в атмосферу живописи. На этюдниках рядом со старыми картинами, которые Шагал подправляет, стоят новые, еще неизвестные эскизы, наброски, большие полотна, здесь же рядом – мольберты, краски, коробки с разноцветными мелками. Легко, точно ребенок, он порхает между столами и так же легко перескакивает с темы на тему. Он говорит о живописи, поэзии и о времени, которое осталось ему в жизни для работы.
– Ведь еще столько надо успеть, – сетует он. – Только бы потеплело на улице. Что бы я хотел переменить? Нелегкий вопрос. Самое главное для меня – это сознание, что в мире сегодня не убивают людей. В особенности детей. Я бы мечтал, чтобы каждый прожил на земле отпущенное ему и успел выполнить свое предназначение. – Шагал смотрит в окно. Теперь он удивительно похож на свою цветную фотографию в одном из альбомов. – Я остановил бы все войны, убийства, если бы мог. Да, я был бы более счастлив, если б в мире не умирал ни один ребенок.
В тот день в Ницце было очень холодно – пустынное море, пустые лежаки, свернутые зонтики, тенты. В Коллин еще холоднее, Шагал все время мерз – впервые в эту пору в горах выпал снег. По дороге непривычно было видеть незаселенные отели, незаполненные кинотеатры. Но в залах музея Шагала, в сокровищнице Пикассо – Антибе, во дворце Леже (как и на выставке Брака в Париже) было многолюдно, будто на празднестве, концерте или торжественном богослужении. Люди нуждались в искусстве больше, чем в курорте. На Парнасе, заселенном гигантами только лишь одного поколения, была другая температура…
Два года спустя, в декабре 1976-го, я вновь побывала в гостях у Шагала. Уже в канун его девяностолетия.
Через месяц президент республики Жискар д’Эстен вручит ему высшую награду – Большой крест, и будет решено, впервые во Франции, при жизни художника устроить выставку его картин в Лувре.
Этот декабрь совсем не походил на зиму 1974-го. Казалось, в Ниццу вернулось лето, пляжи заполнились полуодетыми людьми, скамейки, шезлонги были заняты загорающими, а около трех часов публика, одетая в вечернее, заполнила Концертный зал в Монте-Карло, чтобы увидеть балет Бежара «Мольер» – коллаж, соединивший высочайшую хореографию, пение и пантомиму, где буффонада и трагедия слились воедино.
В сумерках ясного неба дом и парк Шагала по-особенному красивы.
– Шагал по-прежнему работает с утра до вечера, – встречает меня Валентина Григорьевна, жена Шагала, и ее громадные сливовидные глаза грустно улыбаются. – За эти два года расписал плафоны в Лондоне, Чикаго, Париже… – Она оглядывается на дверь. – Сейчас закончит разговор с издателями из ФРГ и придет. Последние дни он чувствует себя немного уставшим, болеет. Стараемся приглашать друзей в это время, к чаю.
Шагал появляется минут десять спустя, чуть бледноватый, движения его несколько скованны из-за лечебного кушака, но он, как всегда, необыкновенно приветлив. Усталое, в сетке морщин лицо сияет по-ребячьи.
– Не могу забыть деревья в Подмосковье, – говорит он, чуть захлебываясь. – Я так хотел бы писать русскую природу! Там у деревьев особый наклон, форма, все другое. – Он с трудом усаживается в кресло, совсем близко. – Левитан мало что говорит западному человеку, а я гляжу на его картины и чуть не плачу. В этих ветвях и наклонах столько для меня близкого! Я бы мечтал перенести все это на полотно, но уже поздно, все поздно…
Он заглядывает в глаза, словно ожидая опровержения. Удивительная у него эта привычка – заглядывать в глаза, как бы зрительно проверяя смысл сказанного собеседником.
Спрашиваю о предстоящем юбилее, выставке.
– Боюсь этого ужасно, – шепчет он, – этих почестей. Не привык быть на виду. Награда – это, конечно, почетно, но я чересчур нервничаю. Последнее время я ведь почти не выхожу, мало бываю на людях.
– Но обо всем все знает, – вставляет Валентина Григорьевна. – Читает газеты, интересуется всем, что происходит в мире, особенно в России. Слушает радио, страшно любит музыку.
В этот момент шофер вносит корзину с розами и тюльпанами, она едва пролезает в дверь.
– Мне все несут цветы, – разводит руками Шагал. – Я весь в цветах. Меня это удивляет. Я часто думал, что я и моя работа мало кому интересны. Мне никогда не нравилось то, что я делал. Всегда думалось: кому это нужно – эти мои мечты, фантазии, причуды воображения?
Вспоминаю заоблачную высь синих витражей в Концертном зале музея Шагала в Ницце, выставленную там и единственную в своем роде коллекцию картин на библейские мотивы, думаю о выставке «Автопортрет в русском и современном искусстве» в Москве, которая три месяца в пятнадцати залах Третьяковки собирала тысячи посетителей, где были экспонированы работы Шагала, и среди них завораживающая «Свадьба», и сквозь все это смутно начинают проступать лица студентов Венсена.
…Стараюсь переключиться, попасть зрачком в настороженные глаза слушателей. Минута, и снова листаю записи в затрепанном блокноте.
Эта и ещё 2 книги за 399 ₽