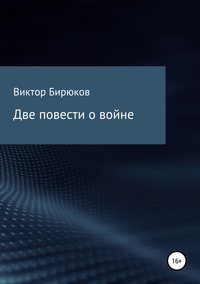Читать книгу: «Две повести о войне», страница 21
Этот эпизод, видимо, сыграл не последнюю роль в дальнейшей судьбе Флорентьева. Допрос пленного дал много ценного, хотя, казалось бы, что может особенного знать обычный рядовой. А, как выяснилось, немало. Беседовал с ним сам командующий армейской группировкой Самойлов. Он без обиняков сказал захваченному Курту Майеру, что в условиях полного окружения русским не нужен лишний рот в виде пленного. Если он имеет что сообщить ценное, то его оставят в живых, Если нет, то его расстреляют. «Извиняюсь, конечно, но на войне как на войне», – добавил командующий, произнеся известную французскую поговорку по-французски. Пленный, побледнев, тоже по-французски ответил: «Понятно. Спрашивайте. Скажу, что знаю».
– Откуда французский? – спросил Самойлов.
– Я из Эльзаса и Лотарингии, – ответил солдат.
– Тогда понятно.
Так вот что совершенно случайно обнаружилось с помощью этого языка. В какой дивизии и каком корпусе служил он, было ясно из документов при нем. Дополнительно выяснилось, что в корпусе три пехотные дивизии, из них одна занимает позицию с южной стороны окруженной группировки Красной армии, там и находилась часть Курта Майера, а две остальные дивизии расположились фронтом с востока, со стороны Риги. Это стало ясным после сообщения пленного о том, что в одной из них служит его двоюродный брат, с которым он переписывается, а тот поведал ему, что в соседней дивизии их корпуса числиться жених сестры кузена. Теперь для Самойлова и его штаба стала ясна дислокация противоборствующей стороны. Он послал только что назначенного комсорга армейской группировки Пашу Шилкина к Флорентьеву, чтобы передать ему и солдату, взявшего в плен языка, благодарность от него лично. Заодно поручил проверить, как батальон закрепился на своих позициях. Комсомольский вождь, выполнив первое поручение, стал знакомиться с обороной всех рот. Ему, недавнему выпускнику военного училища, очень понравилось расположение частей: впереди ложные укрепления, позади, на холмах – настоящие. На обратном пути он заглянул в штаб полка и застал… чудовищную пьянку. В ней участвовали сам командир, начштаба, его помощник по разведке, замполит и командир одного их стрелковых батальонов вместе с двумя врачихами их медсанбата. Реакция Самойлова была быстрой: он вызвал прокурора армейской группировки, поручил ему провести расследование, дело передать в военный трибунал. Все было исполнено в сжатые сроки: трибунал приговорил всех к расстрелу, кроме врачих; их разжаловали в рядовые, но оставили при прежних должностях. Самойлов подписал решение суда, но помиловал помначштаба по разведке и командира батальона, понизив в звании, учитывая, что они отказывались выпивать, но вынуждены были после категорического приказа командира полка примкнуть к пьянке. После исполнения приговора во все дивизии и отдельные артполки была послана информации о свершившемся со следующим комментарием Самойлова: «Употребление спиртного, что запрещено моим приказом, несовместимо с военными действиями, которые требуют здравого рассудка со стороны их участников – от рядового до генералов»
На другой день после потрясшего всех расстрела Флорентьева вызвали в штаб стрелковой дивизии. Там его назначили командиром полка, лишившегося в одночасье всего командования. На возражение капитана, что он не имеет боевого опыта, комдив мрачно заявил:
– Многие из нас не имеют такого опыта. Но мне и нашему командующему понравилось, как ты обустроил оборону своего батальона. Да и взятие языка говорит о многом. Давай, командуй полком.
23
Шел тринадцатый день войны. Враг взял город Остров и продолжал рваться к Пскову. Накануне все, кто имел радиоприемники, слушали речь товарища Сталина. «Долго же, однако, он молчал», – многие с недоумением отметили про себя такую неспешную реакцию вождя на столь зловещее событие, как большая война с очень сильным врагом. Но еще более сильное разочарование вызвало содержание его речи. Никто не услышал ответа на три самых главных вопроса. Первый – как так получилось, что лучший друг Советского Союза, каким еще вчера была Германия, прогрессивный политический строй, каким во всех газетах СССР и на радио считался фашизм, вдруг в одночасье оказался врагом. Второй вопрос, тоже оставшийся без ответа в выступлении товарища Сталина, – по какой причине страна прозевала внезапность нападения противника. Третий вопрос – кто виновен в разгроме приграничных войск Красной армии и стремительном наступлении вермахта в глубь Советского Союза. Недоумение малосодержательной речью вождя было настолько очевидным, что на совещании командного состава армейской группировки, созванном на следующий день, никто даже словом не упомянул о выступлении главы государства. Будто и не было доклада – отчета генсека, которого долго ждала вся страна и, дождавшись, глубоко разочаровалась в услышанном.
Военный совет собрался, чтобы обсудить оперативный план разгрома противника, который окружил с юга и востока Курляндскую армейскую группировку. Во вступительном слове Самойлов сказал только, что нам противостоит пехотный корпус в составе трех пехотных дивизий. Одна из них дислоцируется с южной стороны, две остальные – с восточной. Сильная сторона немецких пехотных соединений, отметил командующий, это наличие большого количества орудий и минометов. И конечно, отменная боевая выучка. Минусы – слабая их мобильность. До сих пор, в наше время, подчеркнул Самойлов, германская пехотная дивизия двигается пешим ходом, как, впрочем, и наши стрелковые части.
– Я говорю это к тому, – добавил он, – что у некоторых товарищей сложилось мнение, что вермахт весь на колесах, поэтому он так стремительно наступает. Нет, он стремительно так наступает по другой причине, по причине того, что не встречает серьезного сопротивления на своем пути. Даже слушая берлинское радио, можно уловить, что если бы вся германская армия была механизирована, то она сегодня находилась бы западнее Смоленска. Но ее сильно сдерживают нехватка автомобилей, несовпадение колеи наших и европейских железных дорог, растущая с каждым днем растянутость коммуникаций. И если мы здесь, в Прибалтике, еще и ударим по ним, по коммуникациям, то движение немцев еще больше замедлится.
На совещании было решено вначале обсудить итоги боевой подготовки, развернувшейся в соответствии с приказом командующего. Им же был определен и лимит – разрешено тратить на учебу в пределах пятой части запасов боеприпасов, горючего, взрывчатки. Выступающие отметили, что лимит исчерпан, тренировки прекращены. А каковы итоги? Сдвиги есть, и большие, как выяснилось. Бойцы лучше стали стрелять, окапываться, начали отличать гранаты оборонительные и наступательные, теперь меньше боятся танков, лучше переносят взрывы, прекратили кучковаться во время атак, научились сопровождать танки в наступательном бою. Дивизионная артиллерия имеет заметные успехи в стрельбе с закрытых позиций. Достигнута определенная согласованность в действиях всех родов войск – пехоты, артиллерии, танков и авиации. Но недостаточная, возражали другие. Орудия стрелковых частей ведут все еще неточный огонь с больших расстояний. Танки продолжают двигаться в бою, сильно отрываясь от стрелков.
Затем начальник штаба армейской группировки Холодов доложил о планах разгрома вражеского корпуса:
– Товарищи! С моей точки зрения, германское командование допустило легкомыслие и самоуверенность, бросив на нас один пехотный корпус. Я, конечно, понимаю немецких генералов, привыкших к легким победам в Белоруссии и Прибалтике. Но там они взяли внезапностью и численным превосходством, прежде всего техническим, на главных направлениях своих ударов. Но здесь-то, в Курляндии, их разведка наверняка точно определила наши силы. Об этом свидетельствуют допросы сотрудников абвера, захваченных в ходе прочесывания мест дислокации наших частей. Известно только, что они не имели сведений о наличии у нас новейших танков КВ-1 и Т-34, и то только потому, что названная бронетехника была у нас спрятана. Так что их появление на поле боя станет для немцев большим сюрпризом.
– А разве на других фронтах КВ-1 и Т-34 не воевали? – спросил с места командир танковой дивизии Грачев.
– Отвечу я, – подал голос Самойлов. – Я точно знаю, что на Западном фронте имелось несколько сот таких танков. Я, по-моему, уже как-то говорил, что поначалу Москва собралась радиофицировать если не весь, то значительную часть Западного военного округа, и меня направили туда для рекогносцировки. Я выяснил, что у нас не хватит радиосредств для оснащения такого огромного контингента войск. И там же и тогда же я узнал, сколько в Белоруссии новых бронемашин – несколько сот, точнее я не помню.
– А из Берлинского радио, товарищ командующий, известно, как они проявили себя в боях? – снова задал вопрос Грачев.
– Нет, Берлинское радио не обмолвилось ни словом о новых наших танках, – ответил Самойлов. – Будто их не было совсем, они словно в воду канули.
– Странно! – заметил комдив.
– Так вот, – продолжил свой доклад начальник штаба, – наши силы значительно превосходят вражеский пехотный корпус. В этой связи я и отметил, что германское командование допустило легкомыслие, ограничившись тремя дивизиями против наших четырех стрелковых, одной механизированной и одной танковой.
– Не кажи гоп, товарищ полковник, – раздалось с места.
– Верное замечание, всё дело теперь зависит от нас с вами.
Никто из присутствующих прежде даже представить себе не мог, что можно вот так перебивать вышестоящего начальника на подобных совещаниях. Такую гражданскую привычку незаметно ввел в обиход Самойлов, и она постепенно прижилась. Данное новшество способствовало более активному обсуждению дел и упрощению обстановки на такого рода собраниях. И в тот день подобная практика проявилась в полной мере.
– Теперь о главном, товарищи, – снова заговорил начальник штаба. – По нашим данным, одна немецкая дивизия, как уже сказал командующий, блокирует нас с юга, вдоль и чуть севернее шоссе Либава – Рига на линии Рудбаржи – Скрунда – Салдус. Две другие дивизии расположены с восточной стороны вдоль дороги Тукумус – Яунберзе, – Холодов показал указкой на карте. – Наш план такой. Силами двух стрелковых дивизий и одним танковым полком из танковой дивизии Грачева при огневой поддержке пушечного полка бригады АРКГ, это 48 орудий калибра 122 мм, плюс артиллерия двух стрелковых дивизий, это еще более 200 орудий и минометов, такими силами прорываем оборону на юге в трех местах, вот здесь, – начальник штаба показал на карте. – Затем окружаем противника и уничтожаем. В плен не брать, с ними одна морока. Крупные населенные пункты, те же Скрунда или Салдус, не штурмовать, если там засели крупные силы противника, скажем, до батальона. Мы их потом прикончим. А до того главная задача наших наступающих дивизий в южном направлении – уничтожение противника, засевшего в опорных пунктах и других полевых укреплениях. По этой позиции есть вопросы? Каждая дивизия, каждый полк, каждый батальон, участвующие в наступлении на южную сторону блокады, получили конкретные ориентиры и подробные приказы, как им действовать. Итак, есть вопросы?
– Разрешите! – встал командир механизированной дивизии полковник Петров. – Почему так много сил направляется против одной пехотной дивизии противника. Главные силы врага на востоке.
– Вопрос понятен. Отвечаю. Потому мы бросаем сразу две стрелковые дивизии и один танковый полка плюс немало артиллерии против одной дивизии врага, чтобы сразу и быстро, как клопа, задавить немца. И тут же, в тот же день, чтобы не дать опомнится командованию корпуса противника, в прорыв на юге вступает ваша механизированная дивизия, товарищ Петров. Ваша задача – обойти восточную группировку противника со стороны Риги, выставить на дороге к столице Латвии заслон и приступить к уничтожению двух оставшихся вражеских дивизий. Та же цель – обойти восточную группировку немцев, но уже с севера, в районе Тукумус – поставлена перед танковой дивизией, точнее перед тем, что от нее осталось – один танковый полк, один механизированный полк и артполк. Но перед выходом в прорыв танковой дивизии здесь должна поработать стрелковая дивизия Кашина, ей придается пушечный полк из бригады АРКГ, это 48 пушек калибра 152 мм плюс своя, дивизионная артиллерия – более 100 орудий и минометов. Кашин должен прорвать оборону противника на ширину не менее пяти километров. После прорыва обороны дивизия Грачева заходит в тыл противника с севера и соединяется с механизированной дивизией Петрова. Всё, немецкий корпус окружен. Окружен, но не уничтожен, потому что у него имеется очень крепкий орешек – высота 87,3, расположенная в центре восточной обороны фашистов. Длиной около километра, она господствует над местностью и двумя полевыми дорогами справа и слева. Поэтому одновременно с прорывом обороны противника на юге и севере и дальнейшим окружением восточной группировки противника стрелковая дивизия Комарова с двумя танковыми ротами, взятыми по одной роте из дивизии Грачева и дивизии Петрова, штурмует эту высоту и берет ее. Дивизии Комарова придан гаубичный полк из бригады АРКГ, это 48 орудий калибра 152 мм плюс своя, дивизионная артиллерия – более 100 орудий и минометов. Поскольку при обсуждении этого варианта у нас с товарищем Комаровым возникли разногласия, приказ о взятии высоты ему еще не направлен. Послушаем его возражения, если они остались.
Комаров:
– На мой взгляд, это бессмысленная и даже убийственная затея – штурмовать хорошо укрепленную высоту. Я там был, изучил все подходы. Три ряда колючей проволоки, наверняка заминировано. Мы там заметили даже несколько зениток, плохо замаскированных, это против наших самолетов. Наверняка есть еще и другие средства ПВО. Представляете? Кроме того, противник, оседлав высоты, имеет отличную возможность укрыться за их гребнями, понарыть там укрытия в виде пещер. Это же сколько людей и танков будет потеряно нами при взятии этого мощного опорного пункта! Хотя бабка надвое еще сказала, что мы возьмем высоту. Но главный вопрос в другом – зачем нам эти жертвы, если есть другой, более рациональный способ уничтожения этого вражеского логова. Окружаем его, подтягиваем бригаду АРКГ в полном составе, мобилизуем всю артиллерию большого калибра стрелковых, танковой и механизированной дивизий, плюс наши бомбардировщики, и вся эти гребаные холмы превратятся в пустыню. Я настаиваю на таком варианте, как более разумном и эффективном.
Самойлов:
– Вариант, действительно, замечательный, товарищ Комаров, и мы с товарищем Холодовы и другими штабистами всесторонне обсуждали его. Почему он отвергнут? Потому что мы опасаемся, что со стороны Риги к немцам подоспеет помощь, и наши части сами окажутся меж двух огней. Вот в чем главная загвоздка, товарищ Комаров. Поэтому мы так и задумали – как можно быстрее уничтожить сначала южную, потом восточную группировки противника вместе с высотой, а потом, если враг действительно подбросит резервы с фронта, развернуть боевые действия против них. То есть соблюдаем принцип – уничтожаем каждого в отдельности.
Комаров:
– Не понимаю, зачем нам бояться подходов резервов противника! Простое решение – выставить крепкий заслон на их пути со стороны Риги. Ведь у нас после южной операции освобождаются две стрелковые дивизии и один танковый полк. Кроме того, как я понял, в нашей общей операции остается не задействованным противотанковый полк. Его туда же – в заслон. Вот и всё решение вопроса в случае подхода резервов противника.
Холодов:
– Но вы забываете о том, товарищ Комаров, что две освобождающиеся стрелковые дивизии – не на колесах, у них пеший ход. Когда они доберутся до места заслона?
Комаров:
– Судя по карте, самое многое через двое суток. Думаете, немцы быстрее прискачут? Я не думаю. Они вон уже где, почти в Пскове.
Холодов:
– И вы уверены, что других частей у немцев поблизости к нам не найдется?
Комаров:
– У меня не может быть такой уверенности. В любом случае одного стрелкового противотанкового полков вполне достаточно для начала, чтобы задержать наступающего противника.
Самойлов:
– Хорошо, товарищ Комаров. Мы еще раз обсудим ваше предложение, и уже завтра вы получите окончательный приказ.
На этом военный совет завершил свою работу. Когда Самойлов остался с Холодовым наедине, он сказал ему:
– Константин Иванович, как у вас со штатом штабных работников? Их достаточно?
– Для разработки плана предстоящей операции едва-едва наскребли. Но вроде бы уложились в сроки.
– Понадобятся еще люди, прямо сейчас, ищите, где угодно. Уже с завтрашнего дня приступайте к разработки дальнейшей, но более масштабной операции по уничтожению коммуникаций противника в Прибалтике. Первое. После ликвидации германского корпуса захватываем Ригу. Туда достаточно послать один танковый и один механизированный полки. Если не справятся, больше не будем соваться туда. Но думаю, там немецких сил маловато. Зато Рига – это база для германского военно-морского флота, это – порт, через который пойдут грузы в действующую армию. Второе. Приступите к созданию десяток подвижных отрядов на колесах в составе трех-четырех танков КВ-1 и Т-34, одной батареи противотанковых орудий, одной батарее полевых орудий, одной минометной роты и одной – двух стрелковых рот, в зависимости от поставленной задачи перед подвижными отрядами. При этом надо обязательно придерживаться правила – формировать и оснащать их по принципу «все с собой». То есть брать с собой все, что потребуется в походе и боях: ремонтную летучку для танков и автомобилей, запасы под завязку горючего, боеприпасов, продовольствия и даже воды на всякий случай. Загрузить все это на колеса и отправить по адресам. По каким адресам, я сейчас скажу.
Самолов поднялся со стула, сладко подтянулся, прошелся, снова сел.
– А адреса такие. О Риге я уже говорил. Затем Шауляй, оттуда к Двинску, рушим там все мосты. Другое направление – в сторону Каунаса. Если не будет больших препятствий, можно будет попытаться добраться до Вильнюса. Третье направление – Тильзит и порт Мёмель. Да, да, товарищ Холодов, не улыбайтесь, Тильзит и Мёмель, это уже Пруссия. Вы все еще смеетесь? Так до них всего ничего от Шауляя – 200–300 километров, одна ночь или полдня езды. Зато эффект политический будет потрясающий – русские в Пруссии, нога большевиков ступила в фатерлянд. Каково, а? – и Самойлов рассмеялся.
Протерев выступившие на глазах слезы, Самойлов продолжал:
– Взятие этих двух прусских твердынь будет иметь и оборонное, и экономическое значение. Мёмель – это крупная военно-морская база Германии, порт перевалки грузов для фронта. Там рушим все причалы и другу инфраструктуру, а если повезет, то и корабли на рейде. Тильзит – крупный железнодорожный узел, уничтожаем его, потом машем ручкой и сматываемся. А шуму сколько, товарищ Холодов, а шуму! – и Самойлов снова рассмеялся. Став опять серьезным, спросил:
– Вы готовы к такой работе, Константин Иванович?
– Идея неплохая, Иван Петрович, но у меня есть два возражения. Первое – нет прямой дороги от Шауляя до Двинска. Второе – выдержат ли двигатели и трансмиссии наших новых танков такие расстояния?
– Отвечаю: дороги прямой до Двинска действительно нет, но взгляните на карту – там куча всяких местных дорог. Причем это вам не Рязанская или Псковская губернии с их грунтовыми проселками. Тут в Прибалтике трасса так трасса, всегда можно проехать, да еще с комфортом. Что касается новых танков, то вот мы их как раз и проверим. Если подведут, в ход пойдут БТ и Т-26. Их у нас мало, но тоже надо будет включать в подвижные отряды. Если мы, товарищ Холодов, выполним эту вторую задачу – массовые рейды по тылам врага с целью уничтожения его коммуникаций, можно умирать спокойно, и нас с большими почестями встретят на том свете. Нет коммуникаций, Константин Иванович, нет наступления врага. Если, допустим, на северо-западном направлении задействованы 500 тысяч немецких солдат, то ежедневно для них требуются 500 тысяч буханок хлеба. А где их взять, если все пути снабжения перекрыты?
24
Командиру механизированной дивизии полковнику Петрову накануне войны фантастически повезло. В его распоряжение прибыла бригада ремонтников из Кировского завода. Срок командировки – с 1 июня по 1 июля. Комдив, не скрывая ни от кого свои чувства, тогда ликовал. Еще бы! Теперь он будет спокоен за состояние новых танков КВ-1. Таких бронемашин у него в дивизии 125. Но с самого начала их появления в части возникли серьезные проблемы. Главная из них – скверное качество многих из них. Слабая трансмиссия, особенно часто выходили из строя главный и бортовые фрикционы. Ненадежный двигатель В-2К. Механизм поворота башни быстро выходит из строя. У Т-34 еще больше недостатков. Правда, их в дивизии поменьше, всего 50. Но головная боль та же – нередкие поломки. И это всё добавление к тому, что он, Петров, сам ни черта не смыслил в танках, тем более новейших модификаций. Просто ему не приходилось ни с какого боку сталкиваться с ними за все время службы в Красной армии. Потому что он закончил кавалерийское училище, сначала командовал эскадроном. Потом его перевели в стрелковые части – рота, батальон, полк, дивизия. И ни разу там ему не приходилось иметь дело с бронемашинами. И тут сразу – бац! – из командира стрелковой дивизии в командиры механизированной дивизии. А с чем едят эти грозные железяки, полковник понятия не имел. Да и в среди подчиненных нашлось очень мало специалистов, которые хорошо разбирались в танках, тем более таких, как КВ-1 и Т-34. Поговаривали, шепотом конечно, что предыдущее командование было докой по части даже новых марок. Но почему-то их расстреляли. И вот теперь эта тяжелая ноша – управление современным вооружением, отягощенная неведением в его устройстве и отяжеленная дрянным качеством новейших танков, свалилась на него, Петрова.
Ища выход из создавшегося положения, полковник пришел к выводу – надо писать жалобы. Выгода от такой акции двойная – в случае чего можно сослаться на то, что мы, мол, сигнализировали, а там, смотришь, действительно будут приняты меры по улучшению свойств КВ-1 и Т-34. Пользуясь тем, что его дивизия не находилась в подчинении корпуса, армии или военного округа, то есть не надо было обращаться по инстанции, как того требовал устав, комдив адресовал свои замечания и предложения непосредственно в Генштаб и наркомат обороны, а также в ЦК партии. Направлял он письма и руководству Кировского и Сталинградского тракторного заводов. Эпистолярными делами по этой тематике у Петрова верховодил писарь из штаба дивизии рядовой Гришка Каверин. Сам полковник, имея четыре класса, не состоянии был формулировать столь сложные вопросы, как плохое техническое состояние новых танков и необходимость их улучшения. Зато боец Каверин оказался докой по этой части. С пятнадцати лет, закончив семилетку, до призыва в армию он работал секретарем сельсовета и набил руку по составлению всякого рода заявлений. И в том, что многочисленные обращения в высокие и не очень инстанции принесли в конце концов свои плоды, есть заслуга и Гриши Каверина, получившего за это заслуженное повышение – ему присвоили звание сержанта.
Но сначала шли отписки. А однажды из автобронетанкового управления наркомата обороны в одном из своих очередных ответов дали понять, что он, полковник Петров, занимается недостойным делом – чернит доблестную Красную Армию, прогрессивный процесс ее модернизации. Возмущенный столь грязным (и опасным) намеком, комдив попросил своего талантливого писаря сформулировать в энергичных выражениях такую мысль: получается, что если ты добиваешься совершенствования вооружения, то ты враг, а если те, кто ничего не хотят делать для улучшения танков, то они патриоты. И письмо с таким комментарием было послано на имя Сталина. И оно дало результат в виде приезда бригады ремонтников из Кировского завода. Их было пятеро, три специалиста по двигателю, двое по части трансмиссии. Они приехали на ЗИС-5, загруженном ящиками с запасными частями к КВ-1. Как стало известно Петрову, командир танковой дивизии Греков просто исходил черной завистью по этому поводу. Но когда началась война, а, точнее, когда в командование Курляндской армейской группировкой вступил товарищ Самойлов, специалисты из Ленинграда по приказу сверху были командированы в распоряжение танкистов Грекова.
Но до этого они провели поразительно плодотворную работу в хозяйстве Петрова. Раньше, до их приезда продолжал существовать строгий запрет на открытую эксплуатацию новых образцов техники, вся она находилась на приколе: чтобы враг не углядел ее, да и экономия моторесурса и горючего – не последнее дело. Поэтому водители и командиры экипажей овладевали мастерством вождения и изучали хитрости двигателя и трансмиссии по чертежам, схемам и макетам. С приездом ремонтников пришлось пойти на некоторые нарушения приказа: в каждой роте вывезли на свет божий по одному танку. Приезжие умельцы на образце уже натуральном знакомили служивых со всякими тонкостями обращения с мотором и ходовой частью, учили быстро устранять поломки, долбили механикам – водителям, как добиваться оптимального режима работы двигателя и наилучшего темпа скорости движения. Результаты превзошли все ожидания: даже за столь короткий срок, три недели, к началу войны экипажи изрядно поднаторели в умении справляться с возможными сложностями в управлении новой техникой.
Руководил бригадой пожилой мастер по прозвищу «Два Ивана» – из-за его имени и отчества: Иван Иванович. Остальные были молодые ребята, старшему из них недавно стукнуло только двадцать четыре года. Видный из себя – высокий, широкоплечий, с голубыми глазами, кудрявой густой темной шевелюрой. В таких быстро влюблялись девушки. Юра Шевченко, так звали парня, хорошо, как он сам любил говорить, кумекал в танковых моторах. Он действительно считался классным специалистом в этой области. После семилетки парень, несмотря на протесты родителей, пошел в ремесленное училище, где прошел обучение премудростям двигателей новых поколений – дизельных двигателей. Недовольство матери, но особенно отца его решением выбрать заводское дело было вызвано тем, что оба они мечтали, чтобы старший сын закончил десятилетку и затем поступил в институт, пусть тоже технический, но в вуз. Но подросток настоял на своем: он уже становился взрослым и осознавал, что родителям очень трудно растить еще двух своих детей помладше – дочку и мальчика. Мама работала преподавательницей музыки, отец – школьным учителем математики, и получали они зарплату столь мизерную, что семья едва сводила концы с концами. Какое уж тут высшее образование! Зато утешением для родителей стало то, что после окончания ремесленного училища и получения работы на Кировском заводе Юра поступил на вечернее отделение техникума машиностроительного профиля.
Вот этот Шевченко оказался душой бригады, особенно во внерабочее время. Ремонтники жили в палатке на территории дивизии, а по вечерам объявлялись в клубе соседнего поселка, без, конечно, «Двойного Ивана». Кроме местных латышских парней и девчат, сюда заглядывали холостые командиры, солдаты по случаю увольнения, молодежь из семей начальствующего состава. Здесь крутили кинофильмы, читались лекции на самые различные темы, а, главное, устраивались танцы – под патефон. Юра внес заметное разнообразие в клубные развлечения: он стал приходить сюда со своим баяном, что вызвало бурю восторга у здешнего контингента. Даже ранее малоприветливые при общении с русскими латыши и латышки стали улыбчивыми и уже не отказывались танцевать с гарнизонными дамами и кавалерами. А Шевченко наяривал такие задушевные танго и веселые фокстроты, что сюда приходили послушать его даже местные замужние матроны, прихватывая с собой малых детишек как знак своей непригодности для ухаживания со стороны мужчин. Вот здесь-то, в клубе, Юра и встретился с Клавой Петровой, дочерью командира дивизии.
Она приехала сюда к родителям на каникулы. Училась в Москве, в Бауманском техническом училище, изучала там редкую для девушек тематику – двигатели внутреннего сгорания. Вот эта особенность будущей профессии молодой барышни поначалу и вызвал интерес к ней у Юры: он же сам был специалистом по этой части, да еще учился в техникуме по тому же профилю! И он потянулся к ней. По правде сказать, она как представительница прекрасного пола меньше всего интересовала его. Ему всегда было смертельно скучно с красотками, с которыми не о чем разговаривать, кроме обычной бытовой ерунды. А вот Клава вызвала у него большой интерес как человек с инженерным складом ума. И не только. Она с упоением слушала в его исполнении стихи поэтов так называемого Серебряного века – Северянина, Ахматовой, раннего Маяковского, Гумилева и других, книги которых сохранились у его родителей с дореволюционных времен и которые тогда были негласно запрещены. Плюс Есенин. Выросшая в семье малограмотных родителей (ее мать вообще не умела читать и писать), кочевавшая вместе с ними по захолустным гарнизонам, Клава была лишена общения с более умственной средой. Поэтому ее просто потряс совсем иной мир мыслей и воззрений, облеченных к тому же в высокохудожественную оболочку. А если добавить к сему упомянутую выше мужскую представительность молодого человека да еще родственность выбранными обоими профессий, то ничего удивительного в том, что девушка без памяти влюбилась в веселого ремонтника танковых двигателей. Ошарашенный ничем не скрываемым искренним и сильным чувством привлекательной студентки к нему, работяге, Шевченко признался сам себе, что сражен и что главный смысл жизни для него теперь стало существование этого человека, ставшего ему самым близким, родным и дорогим. Говоря языком специалистов в области двигателей внутреннего сгорания, каковыми оба они являлись, случайная встреча, как волшебный ключ, вызвало зажигание, которое двинуло вперед, да еще на большой скорости взаимную любовь.
Поэтому, когда ее отцу, комдиву Петрову, стало ясно, что скоро немец будет в Риге и надо немедленно эвакуировать жену с дочерью, последняя отказалась ехать в тыл. Сначала она притворилась патриоткой, желающей, выполняя свой комсомольский долг, остаться здесь, на передовых рубежах сражений с фашистами, и, поступив на курсы медсестер, помогать спасать жизни бойцам и командирам. Но после того, как папаша обозвал ее дурой и пообещал съездить ей по шее, Клава расплакалась и объяснила всё, как на духу. Добавила, что другой комдив, Грачев, в чьем распоряжении теперь находилась бригада ремонтников, запретил ленинградцам уезжать, хотя срок их командировки истекал 30 июня. Так что они остаются в Курляндии, и она с ними. Что делать? А тут еще жена наотрез отказалась уезжать без дочери. Она за последние дни сильно сдала, переживая за сына, прошлогоднего выпускника военного училища, попавшего по распределению в Западный военный округ, то есть в Белоруссию, где, по сообщению знающих людей, немецкие войска окружили и добивают части Красной Армии, в рядах которых находился их Вася-Васенька. Спасение пришло с неожиданной стороны. Прознав, что Клава из-за него отказывается уезжать и выяснив достоверно, что германцы со дня на день окажутся в Риге, Юра Шевченко, выпросив грузовик у «Двойного Ивана», примчался к дому Петровых, захватил мать, дочь и с полдюжины домочадцев из других командирских семей, рванул на восток. Но заградительный отряд, то самый, который реквизировал автомобильный и гужевой гражданский транспорт, опечалил спасителя, заявив, что Рига уже занята немцами. Автомашина с испуганными женщинами и детьми вернулась домой. Клава, плача, с огромным трудом уговорила Юру взять его с собой, чтобы, как она сказала, разделить с ним последние дни, если они наступят. Ее мать, узнав о решении дочери, упала в обморок, и ее без сознания Юра донес до кровати, уложил, и они с Клавой укатили в свою танковую часть.
Покупайте книги и получайте бонусы в Литрес, Читай-городе и Буквоеде.
Участвовать в бонусной программе