Россия и Дон. История донского казачества 1549—1917.
Текст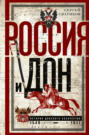


Перейти к аудиокниге
Ваш доход с одной покупки друга: 43,90 ₽
- Объем: 900 стр. 5 иллюстраций
- Жанр: популярно об истории
Глава 8
Дон и Смута
Роль, сыгранная казачеством, в частности донским, в эпоху Смуты была очень велика. Можно было бы путем исторического анализа выяснить разницу между действиями казачества вообще, «воровского» казачества, в особенности, и Войска Донского, как отдельного государственного организма, в частности. Во всяком случае, нельзя согласиться с некоторыми историками, которые видят в казачестве исключительно анархический протест закабаляемой народной массы против московского общества и государства. «Казачество на Дону, – пишет С.Ф. Платонов, – служило выражением недовольства гонимых и угнетенных тяглых людей – государством. Оно (донское казачество) себя ставило в стороне от государства, бывало всегда почти ему враждебно». Мы видели уже, что донское вольное казачество было враждебно лишь Московскому государству. На Дону же оно создало иную государственную организацию, довольно примитивную, но основанную на равенстве и свободе.
Точно так же и в эпоху Смуты донское казачество сыграло роль, которую нельзя назвать ни противогосударственной, ни антинациональной[91]. Колония вышла из Смуты организовавшейся более прочно, окрепнувшей и вступила в более определенную связь с метрополией. Что касается казачества вообще, то в эпоху Смуты все холопы и крестьяне, взявшиеся за оружие, чтобы искать свободы, немедленно принимали на себя звание казака. Все служилое казачество «Польской» Украины приняло участие в движении. Наконец, «черкасские казаки», приходившие на Русь то с «литовскими людьми», то служившие самозванцам, а то и самостоятельно гулявшие по всей Руси, думали об одной лишь наживе. «Воровским» казачеством крестьянская Русь выразила протест против порядков Московского государства.
Донская же колония отразила не разрушительные, а созидательные стремления русского народа, желание его возродить и укрепить народоправство. Вместе с тем, отвергнув попытку царя Бориса превратить их республику в служилую общину, донские казаки всегда помнили, знали и выражали во всех актах, что царь является национальным вождем всего русского народа. Поэтому донское казачество всегда, кроме редчайших исключений, свое политическое недовольство и протест направляло не против царя лично, но против «лихих бояр», объединяя в этих словах ненависть к московскому политическому и общественному устройству. Поэтому, от начала и до конца Донской республики, верховная национальная гегемония царя является непререкаемой для граждан этой колонии и других казачьих демократий. Из этого-то чувства по отношению к царю, наряду с энергичной защитою казаками их республиканского устройства, и вытекает всегдашнее желание казачества видеть во главе Руси царя народного, казачьего и крестьянского. Отсюда и идет казачья традиция, особенно со времени Лжедмитрия, поддерживать и даже создавать сознательно самозванцев, собственных кандидатов в «казачьи» цари. Начиная от «цариков» Смутного времени, «ублюдка, Маринкиного отродья», которого возил при себе донской атаман Заруцкий, до «царевича Алексея Алексеевича» при Стеньке Разине, до царевича «Петра Петровича» (1732), до самого «амперадора» Емельяна Ивановича (1773) тянется эта история с исканиями такого справедливого, народного царя.
Донская колония, защищая свой суверенитет от Бориса, увидела в нем не столько последовательного защитника интересов метрополии, сколько плохого царя: татарского племени, не царского рода, а главное, врага казачьей республики. Отсюда понятен восторг Дона при первой же вести о Лжедмитрии. Как раз в 16001601 гг., когда Борис объявил блокаду непокорной республики, в Киеве появился самозванец. Он правильно сообразил, что Дон мог бы поддержать его, и одним из первых дел его была посылка на Дон какого-то чернеца, чуть ли не подлинного Гришки Отрепьева. Круг отправил 8000 человек к польским границам, и в Краков к самозванцу явились два депутата, атаманы Корела и Нежакож, признавшие его за подлинного Дмитрия[92]. Кроме того, как писал впоследствии Шуйский, самозванец «многия свои грамоты прелестные к украинным людям писал, называючи себя царевичем Дмитрием Углетцким и на Дон, к вором, к Донским атаманом и казаком, знамя свое воровское с Литвы с Литвином с Часным Свирским посылал»[93].
Узнав, что Дон готов поддержать Дмитрия, Годунов не нашел ничего умнее, как послать на Дон Петра Хрущева, того самого, который в 1592 г. должен был стать начальником всего Войска Донского по назначению. Не слушая его уговоров, Войско заковало Хрущева в кандалы и выдало его Дмитрию (сентябрь 1604 г.). Станица, привезшая Хрущева, заявила, по словам польского источника, «как и прежде сего, что Войско находится в готовности и подданстве Царевичу, яко природному государю своему»[94].
Самозванец постоянно подчеркивал свой демократизм. В Туле (май – июнь 1605 г.), принимая главнейших представителей боярства, признавшего наконец его царем, он демонстративно «преже московских бояр» принял донских атаманов и казаков со Смогою Чертенским во главе, и казаки потешились тут над высокомерным и гордым боярством, тут же при царе «лаяли и позорили» их, а потом и Дмитрий «наказываше и лаяше» бояр «якоже прямый царский сын», указывая, что они признали его позже казаков и простого народа[95].
Сцена в Туле показала боярам, чего им ждать от Самозванца. Впоследствии сам Сигизмунд, помогавший Самозванцу сесть на престол, попрекал его память, говоря, что он «боярские дворы и животы, и поместья, и вотчины роздал худым людям, каков сам, и казаком донским и запорожским»[96]. Не лучше было боярам и от тех донцов, которые поместий не искали. Атаман Корела расхаживал по Москве и «чудил», говоря, что он презирает блага мира сего. «Тогда, – говорит современник, – от злых врагов казаков и холопей все умные только плакали, не смея слова сказать; только назови кто царя разстригою, тот и пропал»[97].
Мы не знаем, дошло ли до Главного Войска знамя Самозванца, но оно не присягнуло ему, как не присягало, впрочем, ни Иоанну, ни Феодору, ни Борису. Равным образом не присягнул Дон и Василию Шуйскому, хотя тот и посылал на Дон – приводить донских казаков к присяге – Василия Толстого[98]. Шуйский не питал нежных чувств к казакам и не снискал их симпатии. При нем часть донцов приняла участие в движении Болотникова, который заявлял себя верным слугою Дмитрия, но боролся в сущности во имя мести не только боярам, но и торговому классу. Как только кн. Шаховской поднял в Путивле и на Северской Украйне восстание против Шуйского, во имя якобы уцелевшего Дмитрия, донцы снова двинулись на север на защиту «своего» царя. В это время на Дон явились терские казаки, которые шли на Русь с изобретенным ими «царевичем Петром», якобы сыном царя Феодора. Донцы охотно помогли «Петру» взять и разорить дотла г. Царев-Борисов, им ненавистный[99].
Казачество «воровское» и вольное сочувственно отнеслось к идее социального переворота, брошенной Болотниковым. По словам современника, прокламации («воровские листы») Болотникова «велят боярским холопам побивати своих бояр и жены их, и вотчины, и поместья их сулят; и шпыням, и безымянным вором велят гостей и всех торговых людей побивати и животы их грабити; и призывают их пороз к себе» (к мятежникам) «и хотят им давати боярство и воеводство и окольничество и дьячество…».
Однако подобная программа передела наличного имущества и перетасовки общественных классов оттолкнула от Болотникова имущие классы, пошедшие было за ним, да и «Дмитрий» (Молчанов) не явился из Польши, чтобы явно выдать себя за убитого Самозванца. Разбивши Болотникова, Шуйский жестоко казнил главных врагов, но служилых, а также вольных казаков отпустил на «старые печища» и на «польские юрты». Отпущены были и те владельческие люди, крестьяне и холопы, «за которых никто не имался в холопстве», и те, которые вышли в казачьи войска по отпускным из холопства. Все эти люди вскоре явились к Москве снова, когда появился так называемый «Вор», или «Тушинский вор», как его прозвали.
Если донцы поддержали с Болотниковым призрак царя Дмитрия, одно имя его, то естественно, что они пошли к живому человеку, который довольно неожиданно для самого себя попал в Дмитрии. У Тушинского царика оказалось, помимо 20 000 поляков, 30 000 запорожцев, а также 15 000 донских казаков, не считая людей московских. Главная сила Вора была в казачестве. Идеалом последнего было насаждение в метрополии «казатчины», то есть того устройства, которое создалось на Дону, в Запорожье, на Яике и т. д. Трудно сказать, во что, в какие государственные формы вылилось бы новое общественное и государственное устройство на Руси, если бы победило казачество. Но «казатчина» насаждалась не только донцами, которых тоже нельзя выставлять как борцов исключительно за республиканский и эгалитарный идеал, но и запорожцами и поляками, идеалом коих была добыча. Дело царика гибло не только потому, что он был самозванец в квадрате (Лже-Лже-Дмитрий), не только потому, что оно с начала было скомпрометировано иностранной помощью, но и оттого, что элементы государственного и общественного переустройства в его лагере отсутствовали или подавлялись просто разбойничьим элементом. «Казатчина» приняла форму анархии и грабежа, от которых крестьянство страдало не меньше высших классов. Между тем мода на самозванцев до того усилилась на Поле, что там их стали фабриковать десятками. Сам Вор уже в начале 1608 г. вынужден был издать список состряпанных «в казачьих юртах на Поле» конкурентов своих. Все это были царевичи: второй Петр, Феодор, Клементий, Савелий, Симеон, Василий и даже, просто, «царевич Ерошка, царевич Гаврилка, царевич Мартынка». Войско не имело отношения к этому «творчеству», но отдельные донцы к нему свою руку приложили.
Начало 1610 г. принесло бегство царика в Калугу, потому что Сигизмунд сам начал поход на Россию с целью покорить ее, и польская часть Тушинского войска отшатнулась к королю. Знатные тушинцы из москвичей послали послов к Сигизмунду, а донцы пошли за «Дмитрием» в Калугу, не желая служить чужеземцам. Тушинские же знатные москвичи, с Салтыковым во главе, просили королевича Владислава на московское царство и составили договор (4—14 февраля 1610 г.) об условиях, на которых должен был царствовать Владислав. Впоследствии, по свержении Шуйского, пункты февральского договора были повторены в договорной записи, заключенной 17/27 августа 1610 г. гетманом Жолкевским с Московским Временным правительством (боярина Мстиславского), о призвании на царство Владислава. И знатные тушинцы, в феврале, и бояре московские, в августе 1610 г., внесли в договор такой пункт: «На Волге, на Дону, на Яике и на Тереке казаки будет надобе, или ненадобе, о том государю Королевичу говорити з бояры и з думными людьми, как будет на государстве»[100]. Таким образом, правящая группа метрополии в 1610 г. поставила вопрос о самом существовании казачьих демократий на Дону, Яике, Волге и Тереке. Интересно, что вопрос ставился лишь о вольном, но не о служилом казачестве. Донцы остались верны Вору до конца. Та часть их, которая осталась на Руси после гибели Вора, пошла за атаманом Ив. Заруцким, вступившим в союз с рязанцами, которые собирались под Москву на поляков. Организуя казачьи силы, Заруцкий разослал прокламации, призывая «людей боярских крепостных и старинных», всем обещая волю и жалованье, «как другим вольным казакам». Земская часть ополчения шла за Прокопием Ляпуновым, казачья – за Заруцким, который жаловал казачьим атаманам города и волости. Попытка компромисса земщины и «казатчины» не удалась. Дума, собранная походным войском, большинством земских голосов постановила вернуть прежним владельцам беглых и выведенных насильно за время Смуты людей и крестьян. Решено было также не посылать казацких атаманов для сбора корму, а дворян и детей боярских со стрельцами и казаками. Недовольство казаков на Ляпунова было использовано поляками, которые подослали им поддельную грамоту Ляпунова. В ней говорилось, что казаки враги и разорители Московского государства, что их следует брать и топить, куда только они придут. «Когда Бог даст, Московское государство успокоится, тогда мы истребим этот злой народ…» Это была искусная подделка, удивительно удачная по содержанию, если сопоставить ее с известным договорным пунктом 1610 г. Ляпунов, явившийся для объяснения в казачий круг, был зарублен.
Заруцкий, оставшийся победителем, мстил земщине, отнимая у дворян, детей боярских и, вообще, у земских людей жалованье, корм и самые поместья. Его деятельность вызывала резкую реакцию среди земщины. Восточные и северо-восточные города откликнулись на смерть Ляпунова грамотами, в которых они взаимно обещались «казаков в город не пущати… а выбрати бы нам на Московское государство государя всею землею российские державы; а будет казаки учнут выбирати… государя по своему изволению одни, не сослався со всею землею, и нам того государя на государство не хотети»[101].
Эта перекличка городов между собою была вызвана двумя обстоятельствами: во-первых, слухами – и довольно основательными – о желании Заруцкого провозгласить царем Воренка, то есть сына Марины от Вора; во-вторых, тем, что, после смерти Ляпунова, зачатки правительственной власти, организованные в земском ополчении 1611 г., попали в руки Заруцкого и казаков.
Движение, начатое Гермогеном, подхваченное Мининым и нижегородцами, привело земское ополчение 1612 г. к Москве. Временное правительство, организованное в Ярославле, составилось из элементов, враждебных казачеству. Оно полагало, что, убивши Ляпунова, «старые заводчики великому злу, атаманы и казаки, которые служили в Тушине лжеимени тому царю», желали всем в государстве «по своему воровскому обычаю владети». Присягнувши (в таборах под Москвой, 2 марта 1612 г.) псковскому Вору (новому самозванцу), казаки вернулись к «своему первому злому совету: бояр и дворян, и всех чинов людей и земских уездных лучших людей побити и животы разграбили и владети им по своему воровскому казацкому обычаю». «Первый злой совет» казачий – это было стремление казачества к уничтожению зависимости крестьянства от землевладельцев, к имущественному поравнению, к народоправству. Призывая к объединению дворянской земщины, ярославское правительство желало борьбы не только против чужеземцев, но и против «русских воров, которые новую в государстве кровь всчинают».
При приближении нового ополчения к Москве Заруцкий с Мариной и Воренком и с частью казаков побежал на юг. Он достиг р. Медведицы, но Дон его не поддержал. Добежал он до Яика, да был выдан и казнен. Так кончил вождь части казачества, еще недавно рассылавший из-под Москвы грамоты от «бояр и воевод, князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого и Ивана Мартыновича Заруцкого». Достоинством Заруцкого и поддерживавшего его казачества было то, что они пошли с представителями земщины против польской «интервенции». Недостатком, его погубившим, было то, что он не столько стремился освободить народные низы, сколько сажал им помещиками своих же атаманов и казаков и изнурял их реквизициями и грабежом. Вместе с ним отхлынула на юг часть вольного и воровского казачества, убоявшаяся земщины.
Оставшиеся под Москвою под началом другого вождя казачества, кн. Дмитрия Трубецкого, казаки, среди коих было немало донцов, сыграли видную роль в очищении Москвы от поляков. Именно они подготовили отступление от Москвы гетмана Хоткевича, шедшего на помощь; они же в октябре 1612 г. взяли приступом Китай-город. Казацкие же атаманы, а не московские воеводы отбили от Волоколамска Сигизмунда, шедшего к Москве, и заставили его вернуться домой.
Вопрос об организации общегосударственной власти был разрешен путем компромисса между земщиной и казачеством; сперва «приговориша всею ратью съезжаться на Неглинне», то есть на нейтральном месте между казацким и земским лагерями («таборами»). Пожарский (от земщины) и Трубецкой (от казачества) писали, что они «по челобитию и по приговору всех чинов людей стали во единачестве и укрепились, что нам да выборному человеку Кузьме Минину Московского государства доступать и Российскому государству во всем добра хотеть безо всякие хитрости; и розряд и всякие приказы поставили на Неглинне и на Трубе, и снесли в одно место и всякие дела делаем заодно…».
Пожарский и Трубецкой довольно быстро созвали учредительный Земский собор, первый бесспорно всесословный Земский собор с участием посадских и даже сельских обывателей. Казачество приняло видное участие в предвыборной агитации. Сперва оно выставило Воренка, сына Тушинского вора, «казачьего царя»[102]. Но затем победила кандидатура сына тушинского же патриарха Филарета (Феодора) Никитича Романова – Михаила. В то время, когда дворянство разбивало свои голоса между Мстиславским, Голицыным, Трубецким и другими кандидатами, примиряясь на Михаиле, казацкая громада громко и единогласно поддержала Михаила. В то время, когда шла борьба партии на соборе, какой-то галицкий дворянин подал записку за Романова. Раздались сердитые голоса: «кто принес такое писание, откуда…»
Тогда разыгралась сцена весьма показательная. Из рядов выборных вышел один из донских атаманов и, демонстративно подошедши к столу, положил на него «писание».
– Какое это писание ты подал, атаман? – спросил его князь Д.М. Пожарский.
– О природном царе Михаиле Феодоровиче, – отвечал атаман.
«Прочетше писание атаманское, – пишет летописец, – бысть у всех согласен и единомыслен совет…»
Конечно, не «писание» атаманское было убедительно, а казацкие сабли, стоявшие за атаманом. Дворянство, склонявшееся, отчасти, к мысли о Михаиле, поддержало его кандидатуру. Казаки бушевали, требуя избрание того, кто по отцу тесно и неразрывно связан был с революционной эпохой. 21 февраля 1613 г. вооруженными толпами они явились на Красную площадь, и Михаил был выкрикнут прежде, чем поставили вопрос, кого, мол, выбирать.
Участие казаков в соборе 1613 г. несомненно, на избирательном акте есть и подписи «за них» (по их неграмотству). Но также несомненно и то, что Войско Донское, как таковое, не принимало участия в избрании царя.
Отдельные донские атаманы и казаки приняли участие в «государевом обиранье», приняли присягу, ходили в Кострому упрашивать Михаила принять избрание[103]. Но Войско не принимало участия ни в избрании царя, ни в присяге на верность[104].
Если сторонники народоправства и освобождения крестьян и не одержали победы в революции начала XVII в., то и дворянство, отстоявшее московский государственный и общественный порядок, не в силах было раздавить вольные казачьи демократии. Последние вышли из Смуты окрепнувшими и пережили период расцвета и славы.
Глава 9
Дон в эпоху вассалитета (1614–1671) и его международные отношения
Избрание Михаила при помощи казачества имело большое значение для установления хороших отношений между Московским государством и Донской колонией. Поляки прямо утверждали, что «Михаила выбрали не бояре, а взбунтованное казачество». Интересно, что, очищая север и центр Руси от воровского казачества, правительство Михаила сочло долгом сделать реверанс по адресу вольного и служилого казачества. Земский собор приговорил (сент. 1614 г.) «к атаманам и казакам, которые стоят в уездех и государеву землю пустошат», послать делегацию от собора, предложить тем атаманам и казакам, которые «хотят отобратися от воров, имен своих списки прислать к государю и идти на государеву службу», за которую царь «пожалует их денежным жалованием». Верных казаков собор призывал «на воров стоять за один и над ними промышлять для того, что они пуще и грубее литвы и немец, и «казаки» (то есть казаками) тех воров не называть, чтобы прямым атаманам, которые государю служат, тех воров казачьим именем безчестья не наносить»[105]. Так что не было уже больше речи, нужны ли вообще казаки на Дону или нет.
Это не помешало тому же Михаилу Феодоровичу писать в 1617 г. «И мы вам Ахмет Салтанову величеству, про тех воров, про донских казаков, объявляем, что тут на Дону живут наших государств воры беглые люди и, казаки вольные, которые бегают из наших государств заворовав от татьбы и от разбою и от всяких смертных вин, боясь от нас смертные казни, и тут, на Дону живучи, воруют, сложася, ссылался с запорожскими черкасы; по повеленью недруга нашего польского короля, в смутное время с польскими и с литовскими людьми и с запорожскими черкасы наши великие Российские государства воевали и многия места запустошили и единоплеменную крестьянскую кровь розлили и многую смуту те воры, называючи воров свою братью государскими детьми, учинили…» Царь обещал: по окончании польской войны «мы на тех воров пошлем рать свою и с Дону их велим сбити…»[106].
Конечно, тут было много «словесности», необходимой для турок, но были и искренние ноты.
В 1613 г. уже начался отлив донцов, зашедших на Русь за время Смуты; тех, кто позадержался, и честью попросили. С Войском же Донским искали союза и Жигимонт (Сигизмунд) польский, и Москва. К первому после Смуты войсковому атаману, Смаге Чертенскому, были посланы послы от Жигимонта, что он «учинился на Московском государстве государем, и они б (донские казаки) служили ему так же, как и прежним московским государям…».
Со своей стороны, и Земский собор, продолжавший сотрудничать с молодым Михаилом в деле правления, и составлявший часть его Освященный (Духовный) собор посылали на Дон атаманам и казакам и «всему великому Войску»[107] грамоты, полные похвал донскому казачеству за его патриотическое участие в общенациональном деле. Напоминая донцам Ивана IV и Феодора к ним жалованье и их «прямую службу», собор просил казаков «потомуж» (также) «служить и прямити» и Михаилу и проводить до Азова царского посланника Солового Протасова. Собор звал казаков идти к Путивлю на поляков и тем «начальные службы свои и раденье к царю доказать…». «А за свою нынешнюю и прежнюю многую службу вы от всемогущего Бога милости, а от царя… великое жалованье, от всяких людей Московского государства и от окрестных государств честь и славу и похвалу будете иметь…»
На Хопре еще казаки в 1613 г. «воровали, прямили Маринке и сыну ея», но в нижних юртах посла встретили с честью, «стреляли из наряду и изо всего мелкого ружья», приняли жалованье и «обещалися» Михаилу «служити и прямити во всем, как прежним великим государям». Последняя оговорка имела большое значение. Казаки не присягали царю «по записи», как вся Россия, но обещались лишь служить в прежнем объеме. Протасов заверял Михаила: «и правда, государь, и раденье атаманов и казаков и всего войска к тебе единодушна, отнюдь безо всякого суетного позабывания».
Высокохарактерны для выяснений взаимоотношений Дона и России слова отписки, посланной Михаилу 5 ноября 1613 г. с Дону. Колония уже успокаивалась после Смуты; но еще не были в полном единстве с Войском все верховые казаки, и в грамотах поминались то семь главнейших «низовых атаманов», то три, то, наконец, два (Смага Чертенский и Епифан Родилов). «Государю царю и великому князю Михаилу Феодоровичу всея Руси холопи твои царские донские низовые атаманы, Смашка Степанов, да Епишка Родилов, да Митька Кабанов, да Семенец Уколов, да Дементейка Ерофеев, да Михалко Трубченин, да Иванко Нос, все атаманы и казаки и все войско от низу и до верху, о милости Божией и о твоем царском великом жалованье челом бьют. Прислал ты… своего посла к турскому царю… и свою царскую и милосердную и жаловальную грамоту, а в ней пишетца к нам твое царское жалованное слово…»
«И мы, холопи твои, грамоту вычет и речь по наказу выслушав от тебя, что ты… (с послом) наказал, и мы о Бозе радуемся и били есмя челом на твоей милости до лица земли, и приняли твое жалованье с великой радостью, и звоны звонили, и молебны пели, и милости у Бога просили о твоем государеве многолетнем здравии, из наряду и из мелкого ружья стреляли, и служити тебе, великому государю, ради вседушно, как есьми служили прежним царем и государем польскую службу с травы да с воды и кровь свою проливаем».
Затем шло сообщение, сколько и какого жалованья дошло до войска. «Да ты же, государь… пишешь в своей царской грамоте, чтобы мы тебе, государю, служили польскую службу: на крымской и на ногайской стороне по шляхам разъезжали и по перевозом лежали да и с азовскими людьми тюшманиться нам не велел, и всем мирным быти для своего царского и земского строенья… И мы… вседушно ради Божью волю и твою царскую творити во всем до исхода души своея, и осели есьми ныне по юртишкам для тебя, самодержавного государя, ни под Азов, ни на море уже не бывати, ни на перевозы, ни в походы не ходити. Православный царь государь, пожалуй нас, холопей своих, своим царским великим жалованьем денежным, и сукны, и селитрою, и свинцом, и запасом, чем мы нужны, чтобы мы холопи твои, служа с травы да с воды, наги и босы и голодны не были, а нас… теперь на Дону тысяча восемьсот и восемьдесят, и восемь человек…» Число это скоро же возросло во много раз.
По поводу выхода на службу против поляков донцы писали, что они «нынешнее лето пеши и безконны, а се зима предлежит…». Вообще же, замедлили они из-за проводов посла в Азов. После чего они «сели уже на всю зиму и на лето по своим юртам…». «А у нас, – продолжали они, – то и лучей зипун был, по вся дни под Азов да на море ходити, а ныне… перевозы не наши, коли со Азовым мирным быти, ты, государь, в том волен, а чтобы земское дело и твое Российское царство строилось, а покой и тишину Бог дал… а мы, холопи твои прироженные, много лет ожидали будущих благ, а на кроволитие есьми нигде не дерзнули, а на Волгу… многижда пишем и приказываем ко атаманом и казаком волжским и терским и яицким, чтобы они убоялись Бога и держалися правды, и безделья Маринкина и сына ее не слушали, и не воровали на Волге, а от твоей царской милости с нами неотступны были… А послали мы… к тебе, милостивому и милосердному царю и государю и великому князю Михаилу Феодоровичу всея Руси, бити челом о своей нужде от всего войска Донского, любя и верячи, донского атамана Игната Давыдова сына Бедрищева, да с ним казака…; а отпущен с Дону ноября в 5-ый день».
Мы нарочно сделали такую большую выписку, чтобы подвергнуть ее разбору. Здесь нужно добавить, что в ответ на эту отписку Михаил Феодорович послал на Дон дворянина Опухтина, который в кругу «спросил их от государя о здоровье» и передал им царскую похвальную грамоту и государево знамя. В 1613 г. Войску дана была грамота о снятии с Дона объявленной в 1600 г. блокады, о разрешении донским казакам свободного приезда с Дона в русские «украинные», то есть пограничные, города «к родимцом» с товаром и без товара. В сентябре 1614 г. сношения с донскими казаками были переданы из Разряда в Посольский приказ (учрежденный в 1601 г.). Таким образом, Россия признала Дон государством, а не общиною казачьей, и установила сношение с колонией через ведомство иностранных дел.
Но каким же образом казаки именовали себя «холопями», «вековыми (государевыми) холопями», «прироженными (царскими) холопями». Значит, Дон не был государством или государствоподобным образованием, а казаки были «рабами», подданными царя.
В тесном смысле холопами или «людьми» назывались в Москве, вообще, рабы: или пленные, или вошедшие в это звание по долговым обязательствам, или родившиеся от рабов; по отношению же к царю – подданные.
Но в обширном смысле холопами назывались все те, которые были обязаны какою-нибудь службою другому лицу. В этом смысле и бояре, и князья писались царскими холопами. В этом же смысле холопами царскими именовали себя и иностранцы, служившие на русской военной службе, и даже иностранные торговые гости[108]. В этом, и только в этом смысле именовали себя холопами вольные казаки (по-французски: serviteurs, а не sujets и тем менее esclaves).
В этом убеждает нас также категорический отказ казаков (вплоть до 1671 г.) принять присягу на верность царю (так называемое крестное целование учинить), подписать «крестоцеловальную запись» по «чиновной книге» Московской. В мае месяце 1632 г. был прислан на Дон дворянин князь Иван Дашков для приведения казаков к присяге. Властный и крутой отец царя Михаила, патриарх Филарет, написал сам текст этой присяги и включил в него заявление, что казаки получат его, патриаршее прощение (в тогдашней своей вине перед Москвой), лишь в случае принесения присяги на верность[109]. На это войсковою «отпискою» 26 мая 1632 г. казаки ответили, что грамотою, присланною с Дашковым, им «указано целовати крест по записи, а ко крестному целованию велено привести» их Дашкову, а затем казаков велено «взяти в смету, сколько нас будет…»[110]. «И крестнова, государи (царь и патриарх), целованья на Дону, как зачелся Дон казачьи головами, не повелось. При бывших государех старые отоманы казаки им непременно служивали не за крестным целованием…» Дальше шло перечисление казачьих служб России: «в которые время царь Иван стоял под Казанью и по ево государеву указу отоманы казаки выходили з Дону и с Волги, и Яика, и с Терка и отоман Сусар Федоров и многие отоманы казаки яму, государю, под Казанью служили не за крестным целованьям…» Перечисливши восьмидесятилетние службы России, казаки повторяли каждый раз, что тогда они не «за крестным за целованьем служили…». «Да не токма, государи, донских, и волотцких, и яицких, и терских выхаживали при бывших царех на украинные города… донецкие казаки, и тех бывшие государи ко кресту приводить нигде неуказали».
Далее следовала энергичная фраза: «а с нами, холопи вашими, тово крестнова целованья на Дону не обновитца, чево искони век не была…» Это был категорический отказ присягать, несмотря на то что обстоятельства были чрезвычайные: казаки убили перед тем царского посла Карамышева; посланные казаками в Москву атаманы Богдан Канинской и Тимофей Яковлев (Лебяжья Шея) присягнули царю. Но Войско отреклось от послов. Оно писало: «а креста, государи целовати мы челобитчиком своим не писали, то они… учинили, не помня старины, своими молодыми разумы, без нашево войскового совету и без приказу».
Вот – документ, являющийся для юриста необходимым и достаточным для определения государственно-правового положения Дона в XVII в.
«Мы, холопи ваши прироженные, служим ваши государские всякие полевые службы и ваших государевых послов, и посланников и воевод, по вашему указу, встречаем и примаям и провожаем не за крестным целованьям и при твоем царьском величестве тобе, государю царю, и отцу твоему… патриарху… многие твои государевы службы полявые против всякова государства недруга за вас, государей, служим без крестного целованья неизменно: ни к турскому, ни к крымскому, ни к литовскому, ни к иному которому царю и королю служить не ходим окроме вас, великих государей, всегда везде за вас… против всякова вашево государьскова недруга и не за крестным целованьем за ваше государьская имя стоим и умираем…» Казаки точно перечислили объем своей добровольной службы России, но подчеркивали, что делали это «не за крестным целованием», не под присягой[111].
Эта и ещё 2 книги за 399 ₽